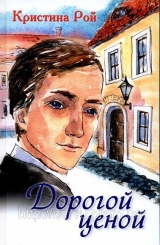
Текст книги "Дорогой ценой"
Автор книги: Кристина Рой
Жанры:
Религия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
Когда они перешагнули порог комнатки, сидевшая у кровати девушка поднялась и бесшумно вышла. В комнате для собраний она бросилась на колени. О, как нуждались души людей в силе с небес в этот момент! В ней нуждался мужественно подошедший к кровати юноша, а ещё больше – женщина, лежавшая, как большой обоженный цветок, в постели.
Шестнадцать лет прошло с того часа, когда Николай Коримский видел свою горячо любимую мать в последний раз. Шестнадцать лет прошло после той ужасной ночи, когда отчаявшийся отец вернулся из суда и на вопросы Никуши, когда вернутся мать и сестрёнка и почему они сейчас не приехали домой, ответил:
«Они больше никогда не вернутся, мы разведены навсегда!»
Шестнадцать лет прошло после того страшного утра, когда Николай, сбежав от отца, разыскал в аллее Орловского парка дедушку и плача потребовал от него: «Верни мне маму! Маму и Маргиту я хочу!», и получил ответ: «У тебя нет больше матери. Не ищи её у меня! Я никого из вас больше не хочу видеть. Не смей больше никогда переступать порог Орлова! Коримские больше сюда не вхожи!». Дедушка, всегда так любивший своего внука, взял его за руку, вывел за ворота и закрыл их за ним, закрыв для него одновременно и двери своего сердца.
И теперь Николай Коримский после шестнадцати лет впервые смотрел в лицо своей матери. В этот момент поднялась заживо похороненная, погребённая забытием, но не умершая детская любовь. Годы ужасной разлуки показались ему злым, сном.
Николай наклонился над матерью.
– Мамочка, моя мамочка!
Она не спала. Золотые ресницы её поднялись как крылья загнанной голубки. Она посмотрела на него. Она не изменилась. Сын узнал её. Но узнает ли она после шестнадцати лет своего выросшего сыночка?
– Мама, ты не спишь? Я тебя разбудил? – произнёс юноша.
– Никуша! – воскликнула она, обвила его шею руками и привлекла его к себе.
– Никуша, ты здесь, живой и здоровый, можно мне обнять тебя? Ты пришёл ко мне? Ты на меня не сердишься?
Ты простил меня? Если нет, то прошу тебя, прости, ах, прости твою несчастную мать!
– Я всё простил, мама, не будем говорить об этом. Лучше я тебе скажу, что я удостоился большой милости. Я познал Господа Иисуса Христа. Он даровал мне Самого Себя и вечную жизнь.
Сын нежно гладил лоб и золотистые волосы матери. Она прижимала его руку к своей груди и смотрела в его милое, особым светом озарённое лицо.
А недалеко от них стояли два его друга, которые знали, что этот момент скоро кончится и наступит разлука навсегда. «Как они переживут этот момент?» – подумал молодой врач.
– Что с тобой, мамочка, что у тебя болит? – спросил юноша участливо.
– Ах, у меня ничего не болит, когда ты со мной, мой Никуша.
Шестнадцать лет сердце моё страдало от тоски по тебе, мой сын.
Потом я получила ужасное известие о твоей болезни. Это было слишком тяжело для меня. Я не вынесла того и заболела. Меня увезли далеко на курорт, ухаживали за мной и лечили. Выбрав подходящий момент, я сама отправилась за своим лекарством. Я не надеялась увидеть тебя, потому что думала, что ты ещё на юге.
Я только хотела узнать что-нибудь определённое. Но теперь мне больше ничего не надо, ничего! Ты держишь меня в своих объятиях, ты хоть немного любишь меня, и этого мне достаточно.
Одно желание у меня осталось – вот так, в твоих объятиях, завершить эту испорченную, бесцельную, бесполезную жизнь.
Баронесса закрыла глаза.
– Не говори так, матушка, – возразил испуганно юноша и горячо поцеловал побледневшие сомкнутые губы этой женщины. – Ты не хочешь больше жить? Ты ещё так молода!
– Жить? Зачем, Никуша, когда тебя нет со мной?
Юноша ужаснулся. Осознанная правда пронзила его, как остриё ножа. Ему показалось, будто он видит одновременно два лица: лицо матери – баронессы Райнер, и лицо отца.
Он опустил её на подушку, склонился у постели на колени, прижав свою златокудрую голову к её груди, и заплакал. Когда он успокоился, он заговорил с ней вдруг совершенно другим голосом:
– Не плачь, матушка; ищи Божию истину, прими Иисуса Христа в своё сердце.
Он заменит тебе меня на земле, как заменил Его Иоанн – Марии. Ведь есть ещё другая жизнь, там – в вечности и, может быть, скоро мы встретимся там. До свидания! Да хранит тебя Бог!
Они ещё раз горячо поцеловались. Ещё раз мать посмотрела в прекрасное лицо сына, в его мокрые от слёз глаза. Ещё раз он погладил её лоб и волосы, поцеловал её руки. Затем он повернулся и неверными шагами оставил комнату. Руки друзей подхватили и вывели его на улицу, на свежий весенний воздух.
– Никуша, спокойнее! Ты сделал всё, что мог, ты поступил благородно, доказал, что ты действительно начал новую жизнь.
Теперь подумай об отце, возьми себя в руки, чтобы он ничего не заметил.
– Знаю, Аурелий, знаю. Потому я так скоро ушёл от неё. Я чувствовал, что это было выше моих сил. Моя бедная мать! А я даже не хотел её видеть! Она же мне ничего не сделала, меня насильно у неё отобрали. Бедная моя матушка! Она больна.
Если бы ты, Мирослав, не сжалился над ней, ей было бы совсем плохо.
Ты ей чужой и позаботился о ней, а мы с Маргитой! Ах, Маргита, если бы ты знала! Аурелий, пойди и посмотри, что моей матери нужно. Ты врач, тебе можно. Помоги ей!
– Иду, Никуша, иду, успокойся только, дорогой! Ведь ты невиновен во всей этой истории и знаешь теперь, где искать помощь для себя и для неё, не правда ли?
Часы пробили десять. Во дворе под старой крепостью чистили экипаж и сбрую. Сам пан аптекарь командовал перед отъездом своими людьми. Доктор Лермонтов разбирал бумаги – свои и своего друга – и внушительную часть из них взял с собой в
«деревенскую ссылку». Одновременно он приводил в порядок свою аптечку, заменяя некоторые лекарства новыми, из аптеки Коримского. Пани Прибовская упаковывала в чемоданы разные деликатесы, жаркое, пироги и другую снедь в дорогу для господ.
Все в аптеке были заняты делом, только одетый уже в дорожное платье сын хозяина дома безучастно лежал на диване. По его бледному лицу было видно, что в этом молодом, но усталом теле не было силы для работы. Он лежал с закрытыми глазами, склонив голову набок, но не Спал. Он вздрогнул, когда рядом с ним кто-то тихо спросил:
– Никуша, что с тобой?
Он тотчас открыл глаза.
– Мирослав, это ты? Один?
– Да, мой милый. Дверь закрыта, все заняты.
– Это хорошо, потому что нам ещё поговорить надо.
Молодой провизор опустился на колени, взял протянутую руку юноши и сказал:
– Я пришёл попросить у тебя прощения за мою смелость, что я тебя заставил пойти к матери. Тебе это повредило, Аурелий прав. Но я иначе не мог поступить.
– Не говори так, Мирослав. Я только что хотел тебя поблагодарить за то, что ты заставил меня превозмочь мой эгоизм. И если я умру сейчас, я никогда не пожалею о том мгновенье, когда я снова мог покоиться в объятиях моей родной, дорогой матери!
Юноша заплакал и спрятал лицо на груди друга.
– Она меня не забывала, а любила все эти долгие годы, любит меня и сейчас, а я был таким бесчувственным! Она пришла ко мне больная, а я её даже видеть не хотел! Она больна и так одинока!
Обо мне заботятся многие, а она одна. Я не могу о ней заботиться, потому что ей к нам нельзя. Дедушка и Маргита, может быть, и приняли бы её,
Маргита определённо, но они не в Орлове, а в Горку она из-за нас не может прийти. О, Мирослав, кто позаботится о моей матери?
– Я, Николай, не беспокойся. А главным образом – Иисус Христос.
Юноша посмотрел в лицо молодого провизора и вздохнул:
– Ты хочешь заботиться о ней? Этому я верю. Ты уже позаботился о ней. Если бы не ты, то моя мать лежала бы сейчас в грязной гостинице в Подграде, моя мать, привыкшая с детства к господскому обслуживанию.
– Обслуживание её теперь господским не будет. Но любовь многое может заменить. Не заботься, Николай, поверь мне: всё, что я смогу сделать вместо тебя, я сделаю и обо всём буду тебе сообщать.
– О, благодарю тебя! Но как ты это сделаешь, чтобы отец всего – этого не заметил?
– Недалеко от Боровца находится долина Дубравы, там у меня друг Степан. Это племянник пани Прибовской. Письма я буду адресовать ему, а он их тебе передаст, так что никто и не заметит. Ему это нетрудно, так как его бабушка у нас там в прислугах.
– О, как я тебе благодарен! Ну а если мать тяжело заболеет?
– Господь сохранит её от этого. А в случае чего, я извещу пана Орловского по телеграфу. Но Аурелий считает, что у неё только нервное перенапряжение, и что это в тиши и в одиночестве скоро пройдёт, особенно если тоска её уймётся. Когда я уходил, твоя мать спокойно спала.
– Поверь мне, Мирослав, я много бы отдал, чтобы сейчас остаться в Подграде.
– Верю тебе, Николай, но так лучше. Повторное твоё посещение могло бы повредить матери и тебе тоже.
– Возможно; мне было так нехорошо.
– А теперь?
– Теперь лучше, только забота удручает меня.
– Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печётся о вас!
– О, Мирослав, помолись со мной за мою мать и за меня!
Друзья опустились на колени и горячо помолились. Потом Урзин почитал ещё из Слова Божия. Как раз, когда они закончили чтение главы, в дверь постучали и вошёл сам Коримский – за сыном, сказать, что всё готово к отъезду.
Не прошло и получаса, как дом опустел, а лошади уносили Никушу всё дальше и дальше в то время, как сердце его оставалось там, в маленьком доме с оставленной им больной матерью.
Чтобы лучше думалось, он закрыл глаза и откинул голову на подушки. Отец и друг ему не мешали. У каждого из них тоже было о чём подумать.
У Коримского не выходили из головы вчерашнее письмо и скорая встреча с Адамом Орловским.
А Аурелий? Тот готовился к борьбе, из которой он непременно хотел выйти победителем. Он знал, что в нём самом силы мало. Знал, что любовью к Орловским отплатить за то, в чём они провинились перед его отцом, его матерью и перед ним самим, будет трудно. Но он намеревался поступить по-христиански и верил в победу и в помощь Господа.
Ах, каким чудным было это путешествие в майский день! Как жаль, что путешественники этого не замечали. Лишь к вечеру они прибыли в Горку, потому что в П. отдыхали, заменив лошадей. Здесь Коримский зашёл в гостиницу. Николай попросил закрыть экипаж, выходить ему не хотелось. Аурелий, достав блокнот, стал рисовать развалины старой гуситской церкви на противоположном холме.
Вдруг он услышал стук колёс. Перед гостиницей остановились дрожки, приехавшие с вокзала. С дрожек сошёл господин в элегантном дорожном костюме. От нечего делать доктор Лермонтов стал рассматривать путешественника Он был среднего роста, строен, лет сорока с лишним. Волосы и борода светлые, глаза – голубые, высокий лоб, губы приехавшего выдавали энергичную натуру.
В разговоре с кучером он был немногословен. Безупречно говорил по-немецки. Аурелий всё ещё смотрел ему вслед, когда тот уже скрылся за дверью гостиницы. Через несколько минут этот человек сидел в столовой. Он заказал себе ужин так же, как и сидевший за другим столом пан Коримский. Перед последним лежала газета, но он не читал, а высчитывал что-то на её полях.
Вновь прибывший также достал свой блокнот и стал что-то писать. Они едва заметно поприветствовали друг друга, как это принято в гостиницах. Больше они друг друга не беспокоили. Поданная еда обоим не понравилась.
Вдруг незнакомец поднялся.
– Позвольте вопрос, пан, – вежливо обратился он к Коримскому.
– Пожалуйста, – ответил Коримский так же вежливо.
– Далеко ли отсюда деревня Боровце и имение Горка?
– Горка? – удивился Коримский. – Около двух часов езды.
– Благодарю.
Незнакомец поклонился.
– Простите вопрос, – задержал его Коримский, – являются ли Горка или Боровце целью вашего путешествия?
– Да.
– Позвольте мне спросить, что ведёт вас в это захолустье? – допытывался Коримский, с трудом сдерживая своё любопытство.
– У меня там дочь, – ответил незнакомец, вежливо улыбаясь.
Но его улыбка вдруг исчезла, потому что настал его черёд заинтересоваться своим собеседником.
– Кто у вас там? – переспросил Коримский дрожащими губами.
– Я сказал уже – дочь. Почему вам это кажется странным? – спросил незнакомец, гордо выпрямляясь.
– Потому что этого не может быть. Как мне известно, владелицей Горки является Маргита Орловская, а другой дамы, могущей быть вашей дочерью, там нет.
– Я не сказал, что она моя родная дочь, но надеюсь, что ваша милость не может оспорить моё право отцовства относительно этой дамы, мать которой – моя жена. Ведь я воспитал её. Но что с вами? – барон Райнер приблизился к смертельно побледневшему Коримскому.
– Ничего! – произнёс Коримский, отстраняясь. – Как бы дела ни обстояли, я никогда не позволю вам, господин барон, притязать на мою дочь!
– Коримский!.. Невозможно! – Барон Райнер отступил на шаг, и двое мужчин смерили друг друга взглядами, которые пером описать невозможно.
Барон первым овладел собой:
– Во всяком случае, было бы хорошо, если бы мы с вами никогда в жизни не встретились; и эта встреча не должна была состояться – меня не уведомили, что пан Коримский в отъезде. Но раз так вышло, я могу и не ехать в Горку. Два отца не могут быть гостями своей дочери – это ясно. То, что я хотел узнать у Маргиты, мне может сказать и пан Коримский, и мы навсегда разминёмся.
Под влиянием присутствия духа барона Райнера Коримский также успокоился, несмотря на то, что его положение было крайне неприятным. Что он думал? Какого мнения о нём мог быть новый муж его бывшей жены, если он её любил и верил ей?
– Что пан барон желает узнать у моей дочери? – произнёс он наконец с внешним хладнокровием.
– Я хотел узнать, – сказал барон, – верно ли известие о случившемся с её братом несчастьи, жив ли он и каково его состояние, если он жив. Хотя между нами разговор невозможен, но Маргита Коримская свидетельница тому, что я сделал всё, что в моих силах, чтобы ей в моём доме было хорошо. До седьмого года жизни она была у нас как дома, а потом, не по моей вине, узнала правду, что она мне не дочь, и стала меня чуждаться. Но и после этого она не может сказать, что я её чем-то обидел. Поэтому я, наверное, имею определённое право, по крайней мере как воспитатель, принимать участие в её судьбе, и я прошу сообщить мне правду.
В груди Коримского разразилась буря. Много лет он ненавидел Райнера и считал, что имеет право презирать его, а теперь понял, что он у него в долгу. Ведь Райнер неплохо относился к его дочери. Она выросла в благосостоянии, получив прекрасное воспитание. «Тебе ничего не остаётся, – говорила ему его совесть, – как благодарить его». Райнера благодарить? Какой ужас! «Если ты этого не сделаешь, он всё равно будет выше тебя, особенно после того, как он пришёл, чтобы убедиться в происшедшем с Николаем и утешить Маргиту, когда мать не могла этого сделать».
– Николаю было очень плохо, – произнёс наконец Коримский после напряжённого молчания, – но теперь он поправляется. Сейчас он там, в карете. Мы едем в Боровце. Маргита обрадуется нашему приезду и улучшению здоровья брата. Она чувствует себя хорошо. Вчера вернулся и Адам Орловский. Я надеюсь встретить там его, а также пана Николая Орловского. Больше мне сказать нечего.
– Этого мне вполне достаточно. Я поздравляю вас с выздоровлением сына и благодарю за сообщение.
Барон Райнер поклонился, надел перчатки и пошёл к выходу.
Уже у дверей он услышал:
– Я также благодарю вас за воспитание моей дочери!
Он обернулся и, высокомерно взглянув на Коримского, произнёс:
– Я не принимаю вашей благодарности, так как я воспитал не дочь Коримского, а дитя моей горячо любимой жены, у которой не было отца.
Слова были сказаны. Коримский их услышал и вынужден был принять. Ответа у него не было. Но как ни странно, он с облегчением вздохнул. Благородство барона его чуть не уничтожило. А эти его слова доказывали, что он в отношении Коримского чувствовал то же самое, что чувствовал Коримский в отношении Райнера. Они были квиты. Райнер заботился о Маргите не ради неё, а из себялюбия, потому что она была дочерью его любимой жены.
Однако при мысли, что Райнер Наталию – его Наталию – даже в его присутствии так смело и открыто называл своей женой, в его сердце поднялась такая буря, что ему захотелось побежать и догнать его. А что бы он сделал потом, он и сам не знал, но могло случиться что-то ужасное.
Он упал на стул у стола, уронив голову на сцепленные руки, и не заметил как в комнату вошёл хозяин заведения, чтобы посмотреть, не нужно ли чего господам.
Только что он, многократно кланяясь, проводил высокого гостя и теперь любопытно разглядывал Коримского.
Когда барон вышел из гостиницы, Аурелий как раз закончил свою зарисовку. Он подошёл к карете и, открыв её, спросил:
– Тебе что-нибудь нужно, Никуша?
– Ах да, оставь, пожалуйста, дверцу открытой, – произнёс голос изнутри. Мимоходом барон увидел красивое бледное лицо юноши, так походившее на другое, столь дорогое ему лицо.
«Если бы она его таким увидела…» – промелькнула мысль в его голове. Он сел в дрожки и уехал.
Через некоторое время уехала и карета Коримского.
– Ах, Маргита, если бы не эта, как говорят, случайная встреча, что бы ты делала, случись она в твоём доме?
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Пан Николай Орловский был в салоне один. Около получаса он простоял на веранде, глядя вслед своим детям, отправившимся навстречу ожидаемым гостям.
И сейчас ещё перед его глазами стояла эта прекрасная пара.
Они его просто поразили! Как он злился по дороге из Подолина на Адама за его холодное отношение к Маргите! Но, вернувшись, он вдруг оказался в его объятиях и услышал слова: «Не сердись, дедушка, уже всё в порядке». Потом Орловский увидел, как Маргита встретила Адама. Она вышла ему навстречу красивой и сияющей, как майское утро, и так приветливо улыбнулась Адаму, что старик от радости чуть не расплакался. Он ещё сомневался, надолго ли это, но в их отношениях ничего не менялось. Адам привёз из экспедиции много зацисовок и ботаническую коллекцию; Маргита рассматривала всё это с огромным интересом. Пан Николай не мог оторвать от неё глаз, так она очаровала его. А когда Адам после завтрака предложил ей поиграть, она с удовольствием выполнила его просьбу.
После того, как Адам написал несколько срочных писем за её письменным столом, где она всё для него приготовила, они вместе пошли в Боровце. Потом Маргита сказала, что хочет пойти навстречу отцу. Адам предложил сопровождать её, и они отправились вместе. Пан Орловский всё ещё вспоминал, как они шли и оборачивались в его сторону, махая ему: Адам – шляпой, а Маргита – платочком, пока не исчезли из виду.
– Они ещё будут счастливы, – шептал старик, радуясь.
От скуки он пошёл в маленький салон внучки. Его взгляд упал на стол и множество книг на нём. Он взял одну из них. Она была немного больше других и чем-то выделялась. Открыв её, он увидел, что она на польском языке. «Наверное, одна из заказанных деканом Юрецким, – подумал старик. – Надо спросить каплана Ланга, какого мнения он о своей ученице. И с Маргитой мне бы поговорить. Но это неспешно, зачем сейчас мучить её религией? Она лучшая христианка, чем мы все».
Он уже хотел отложить книгу, когда его взгляд упал на слова, поразившие его: «Забудет ли женщина грудное дитя своё, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя» (Ис. 49:15). Рядом, на полях рукой Маргиты было написано: «От отца меня взяли, мать не любила меня; но Ты, мой Господь и Бог, меня не забыл. Ты любил меня, хотя я Тебя и не знала».
У старика на глазах появились слёзы. Напечатанные, да и написанные слова звучали как обвинение для него. Какое примечание сделали бы на этом месте Фердинанд или Наталия?
Пан Орловский склонил голову. Ему показалось, будто его родные дети стояли перед ним и спрашивали: «Отец, зачем ты нас оттолкнул от себя на погибель?». Если бы не его жестокость, может, и Фердинанд был бы сегодня жив. Но он его прогнал.
И если бы он по-иному обошёлся с дочерью, когда она пришла к нему в таком отчаянии и возмущении, она осталась бы в Орлове и, может быть, снова примирилась с Коримским, хотя бы ради детей. Но он не сжалился. Что удивительного в том, что она, молодая и одинокая, вышла потом замуж за благородного человека?
Ведь это был не первый и не последний подобный случай на земле. А то, что пан Райнер был человеком с характером, пан Орловский знал хорошо. Хотя и казалось, что он, как отец, не заботился о своей дочери, тем не менее он следил за её судьбой. Однажды, увидев Райнеров на курорте, он понял, что они хорошо живут вместе, и всё, что он узнавал потом о Райнере, говорило о нём как о человеке честном и порядочном.
И то, что Маргита на его вопрос, как относился к ней Райнер, ответила: «Всегда очень благородно, дедушка; к родной дочери он не мог бы лучше относиться», – примирило его с бароном Райнером, и он на него в сущности уже не сердился. И если бы не было Коримского, он бы его с благодарностью принял как зятя; но так… ах, эти несчастные обстоятельства!
Чтобы прогнать эти печальные мысли, он стал листать дальше книгу, пока глаза его снова не наткнулись на обозначенное место:
«Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Под этими словами Маргита написала: «Я не могу простить, значит, и мне не простится – ах!..»
И он снова, не в первый раз за последнее время, почувствовал, что он грешный человек и что ему необходимо примириться с Богом. Чтобы не ходить на исповедь, он купил себе индульгенции – грамоты об отпущении грехов – от самого папы Римского. Однако он знал и чувствовал, что это бесполезно: грехи его не были прощены и угнетали его. Но никогда прежде они не давили на него столь тяжело, как сейчас, в этот момент.
И вдруг, словно кто-то открыл ему глаза, он понял, что не простил Фердинанда, и не сможет никогда уже его простить. Он не простил и Наталию, и если бы он сейчас умер, она тоже не получила бы прощения. А по ту сторону могилы вечность! И если только половина преданий об аде верна, что тогда? Нужно что-то предпринять!
Пожертвование или паломничество к святым местам? Может быть, эта книга чтонибудь подскажет?
Пан Николай перевернул страницу и снова нашёл подчёркнутое место: «Приидите ко Мне все, труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас… и найдёте покой душам вашим». «Я пошла за Тобой, Господь Иисус Христос, – приписала Маргита на полях, – я пришла к Тебе, и Ты дал мне покой. Ты сжалился надо мной».
«Какие странные слова! Что Маргита хотела сказать этим? Как это она пришла к Христу? Надо спросить её», – подумал пан Николай. А потом у него появилась такая жажда и уверенность в том, что эта книга – источник живой воды, что он стал читать и читать. Он забыл о своих гостях, о детях, обо всём!
Между тем его дети шагали по едва зазеленевшему майскому лесу. Маргита сняла шляпу, Адам нёс её. Какой будет встреча отца и брата с Адамом? Ведь они незнакомы с ним. Она опасалась, что присутствие постороннего человека помешает их радости. Кроме того, она не знала, какого мнения Адам о её отце. Каким оно могло быть, если его собственная жена осуждала его и не верила ему.
Маргита почувствовала желание защитить честь её любимого отца. Она подняла глаза на мужа, и их взгляды встретились.
– Что ты, Маргита?
– Мне хотелось бы знать, что ты думаешь о моём отце.
– О дяде Коримском? – переспросил он с удивлением.
– Дяди? – удивилась она. – Верно, он тебе дядей приходится.
Может быть, ты его и раньше знал? – спросила она осторожно.
– Конечно! Прежде мы с Никушей были добрыми друзьями.
– Даже с Никушей? О, расскажи мне что-нибудь о той прошлой жизни.
Кто мог отказать ей в такой просьбе? Адам рассказал, как он любил тётю Наталию и двоюродного брата, который был немного моложе его; что он неделями пропадал в аптеке и каким кумиром Для него был отец Никуши и Маргиты. Он раскрыл перед ней своё и Николая счастливое детство и семейное счастье её родителей.
Он поведал ей обо всём, что было до его отъезда в гимназию, и закончил свой рассказ словами:
– Когда я вернулся, счастье растаяло, как сон. Ты спрашиваешь меня, что я думаю о твоём отце. Теперь, когда дедушка ждёт его в Горке, я радуюсь. Что бы ни говорили, он остался у меня в сердце таким, каким я его знал до нашей разлуки, и я не могу поверить в его вину.
Маргита схватила руки мужа своими, уронив цветы.
– Поверь, он невиновен. Письмо, которое он мне написал, когда впервые попытался приблизиться ко мне, я всегда ношу при себе, – голос её дрогнул, слёзы заблестели в её чёрных глазах. – Пожалуйста, прочти его и поверь ему хотя бы ты, Адам!
Она достала свой блокнот и вынула из него тщательно сложенное письмо. Пока он читал, она собирала рассыпанные цветы.
Закончив чтение, Адам задумался. С одной стороны, он осуждал Наталию Орловскую, которую он когда-то так любил. Но он не мог понять Коримского: как тот допустил над собой такое надругательство. Он бы такого никогда не вынес!
Но когда первый порыв гнева утих, Адам признал, что Коримский, не имея доказательств своей невиновности, ничего не мог поделать против приговора общественного мнения, как только дальнейшей своей жизнью убедить людей, что они были к нему несправедливы.
Когда Маргита поднялась, он отдал ей письмо.
– Я благодарю тебя за доверие, – сказал он искренно.
– А ты ему поверишь?
– Как я могу сомневаться, Маргита?
Она спрятала лицо в цветы. Ах, как ей было грустно! В то же время она радовалась, что Адам поверил её отцу.
Молча они пошли дальше, пока не поднялись на холм.
– Здесь мы подождём, – сказала Маргита, – и издалека их увидим, когда они появятся. Я так благодарна тебе, что ты мне рассказал, какая тесная дружба связывала тебя с Никушей раньше.
Мне хоть не приходится просить тебя о частице любви к нему.
– О нет, – ответил он искренно, – детская любовь очень легко возобновляется. Я только думаю, что не нужно было покупать имение в Боровце, мы бы все поместились в Горке.
– Отец не хотел, – сказала Маргита. – Но мы позаботимся о том, чтобы они чаще бывали здесь, в Горке, – добавила она, подняв на него сияющие глаза.
Вдруг издали донёсся звон колоколов. Маргита вздрогнула.
Перед тем, как они отправились на эту прогулку, она прочитала стих из слова Божия, где было написано: «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10:10). Там, дома, она решила использовать эту прогулку для того, чтобы сообщить Адаму сразу по его прибытии о своём твёрдом решении никогда не быть католичкой. Она чувствовала, что если не сделает этого сегодня, то с каждым днём этот шаг будет становиться всё труднее. Но время шло, а она до сих пор молчала. Раньше она думала, что это Адама не касается.
А теперь, когда они помирились, она почувствовала, что Адам вправе знать о её внутреннем убеждении. Она присела на пень и когда Адам прислонился к дереву напротив неё, начала рассказывать о занятиях с капланом Лангом, не замечая, что он нахмурился. Она не знала, что Адам Орловский был самого плохого мнения о любом служителе церкви. Глядя в милое невинное лицо Маргиты, он подумал: «Этот негодный поп часами любовался ею…».
Так как Адам её не прерывал, она рассказала ему также свой разговор с деканом Юрецким о том, что католическая церковь до этого времени совершенно не заботилась о ней и что она теперь на неё, Маргиту, не имеет никакого права. Она заявила, наконец, что никогда не сможет принадлежать церкви, учение которой не соответствует её внутреннему убеждению.
– Я должна сказать тебе прежде, чем об этом узнает дедушка,
– сказала она. – Я вам верно буду служить в земных делах, но Духовного рабства не допущу и свободой совести не поступлюсь.
Я познала Господа Иисуса Христа и Его Евангелие. Позвольте мне жить среди вас беспрепятственно по Его воле. Позволите мне стать евангелической христианкой. Посмотри только на деревья, цветы, траву и кустарники – всё развивается и живёт по воле Божией. Если перенести всю природу в тесную теплицу, она погибает. Так было бы и со мной: я бы тоже погибла от рабства. Адам, не принуждай меня противоречить тебе! Я предпочла бы умереть, нежели отступить от познанной Истины. Если ты мне помешаешь, то Господь мне поможет. Перед дедушкой я свои убеждения сумею защитить, не огорчая его. Он меня слишком любит, чтобы не желать мне счастья. Что ты мне на это ответишь, Адам?
Она стояла теперь перед ним, освещённая заходящим солнцем. Скрестив руки на груди, он смотрел на неё. Никогда ещё он не видел такой убеждённой души, но теперь Маргита стояла перед ним, неприкосновенная, как сама душа. Для него это было чем-то новым, какой-то странной силой, перед которой он готов был преклоняться.
– Что ты мне ответишь? – повторила она свой вопрос.
– А если бы я тебе сказал, что Орловские были и остаются католиками, что они в своей среде не потерпят протестантки, попирающей ногами наши убеждения? – спросил он испытующе. – Если я скажу, что ты, будучи моей женой, должна быть католичкой, что тогда? Как бы ты тогда поступила?
Она протянула руку, указывая на дорогу, ведущую через лес вдаль. Он близко подошёл к ней.
– Не хочешь ли ты сказать, что оставила бы нас? А твоя любовь к дедушке?
– Моя любовь к дедушке оказалась бы, во всяком случае, сильнее, чем его любовь ко мне, ибо я ушла бы, благословляя и молясь за него. С ним остались бы вы все, а со мной на земле – никто. Так каким будет ответ?
Его лицо то бледнело, то краснело. Он уже давно ни во что не верил. Он не уважал церковных церемоний и презирал всех священников. Однако теперь, когда нужно было решить дать жене свободу или нет, он всё же не ощущал себя столь равнодушным безбожником, чтобы уступить без борьбы. Римская церковь, породившая испанскую инквизицию, воспитывала всегда, не исключая и наш «просвещённый» век, палачей и торговцев человеческой совестью.
Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Руки Маргиты были сложены, как для молитвы, сердце её в страхе взывало к Богу.
– Я верю в твоё благородство, Адам, – тихо произнесла она.
– Ты во мне не ошибаешься, неразумное дитя. – Он привлёк её к себе. – Верь, во что и как ты хочешь, я тебе мешать не буду и не стану навязывать тебе убеждения, которого сам не разделяю. Я запрещу священникам докучать моей жене и пичкать её своими премудростями. Лишь одного я желаю: не делай этого открыто.
Не обращай сейчас внимания общества на нас своим открытым переходом в другую церковь. Пусть дедушка с миром уйдёт из этой жизни.
Маргита не успела ему ответить, потому что снизу, с дороги послышался стук колёс.
– Наши едут! – воскликнул Адам, выпустив Маргиту из своих объятий, и поспешил навстречу гостям.
Маргита не достигла желаемого: она желала открытого признания исповедания ею евангелической веры. Однако муж обещал не принуждать её стать католичкой, и она решила подождать в надежде со временем добиться своего. Вскоре она припала к груди отца, обняла брата и увидела, как Адам приветствовал своего дядю и кузена.








