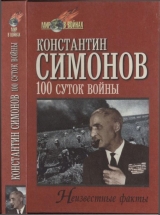
Текст книги "Сто суток войны"
Автор книги: Константин Симонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 37 страниц)
Я с интересом прочел одно высказывание по этому поводу, принадлежащее Густаву Хильгеру – ближайшему сотруднику последнего перед войною посла Германии в Москве графа Шуленбурга. Исходя из наблюдений тех лет, Хильгер пишет, что Сталин, решив «не допустить столкновения с Германией и использовать для этого, если потребуется, весь свой личный авторитет… переоценил как политический кругозор Гитлера, так и его чувство реальности».
В ряде работ наших военных историков справедливо замечается, что нельзя сводить все причины наших неудач первого периода войны только к субъективным ошибкам Сталина в непосредственно предшествовавшее ей время. Причиной наших неудач была целая сумма не только субъективных, но и объективных факторов, включающих в себя и моменты доставшейся нам в наследство от царской России и все еще не преодоленной к концу тридцатых годов экономической отсталости, и масштабы военно-промышленного потенциала Германии, не только самой Германии, но и покоренной ею к тому времени Европы, и отмобилизованность и боевой опыт ее армии, и многое другое. Однако если говорить о внезапности и о масштабе связанных с нею первых поражений, то как раз здесь все с самого низу – начиная с донесений разведчиков и докладов пограничников, через сводки и сообщения округов, через доклады Наркомата обороны и Генерального штаба, – все в конечном итоге сходится персонально к Сталину и упирается в него, в его твердую уверенность, что именно ему и именно такими мерами, какие он считает нужными, удастся предотвратить надвигавшееся на страну бедствие. И в обратном порядке – именно от него, через Наркомат обороны, через Генеральный штаб, через штабы округов и до самого низу – идет весь тот нажим, все то административное и моральное давление, которое в итоге сделало войну куда более внезапной, чем она могла быть при других обстоятельствах.
Думая о том времени, нельзя не пытаться найти хотя бы частичную разгадку поведения той исторической личности, в государственные решения которой упирается вопрос о мере неожиданности для нас всего, что произошло 22 июня 1941 года.
До конца объяснить психологические причины ошибочных предвоенных представлений Сталина о перспективах войны, очевидно, невозможно. Чем больше я думаю об этом, чем больше знакомлюсь со связанными с этим материалами, тем более острое чувство недоумения испытываю.
Когда 5 мая 1941 года в последний раз перед войной состоялся в Кремле традиционный прием выпускников военных академий, на котором выступил Сталин, то на следующий день в конце посвященной этому событию передовой «Правды» стояла обращающая на себя внимание фраза: «В нынешней сложной международной обстановке мы должны быть готовы ко всяким неожиданностям». Не приходится сомневаться, что содержание передовой было прямо связано с духом того, что говорил на приеме Сталин. Но 3 июля 1941 года, словно забыв об этом, он, объясняя причины наших неудач, говорил, что «немалое значение имело здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и вероломно нарушила пакт», говорил так, словно это нарушение не было именно той самой главной неожиданностью, к которой мы должны были быть готовы. А потом, в своей майской речи 1942 года, подводя некоторые итоги, он же говорил: «Исчезли благодушие и беспечность в отношении врага, которые имели место среди бойцов в первые месяцы Отечественной войны». Так вот, оказывается, кто, по его мнению, в начале войны был беспечен и благодушен, кого война научила, – бойцы!
Конечно, и бойцов она многому научила, а вернее, тех из них, кто тогда, в первые дни, не погиб, – но, по совести говоря, стоило бы все таки, если уж заводить такой разговор, начинать его не с бойцов, а с себя. С упоминания о собственной ответственности.
Говоря о начале войны, невозможно уклониться от оценки масштабов той огромной личной ответственности, которую нес Сталин за все происшедшее. На одной и той же карте не может существовать различных масштабов. Масштабы ответственности соответствуют масштабам власти. Обширность одного прямо связана с обширностью второго.
Другой вопрос, что даже в самых сложных условиях существует еще и ответственность общества, когда оно по ходу своей истории вручает слишком обширную власть в руки одного человека. И, не снимая с этого человека ни единой доли ответственности за все его деяния, праведные и неправедные перед лицом истории, нельзя забывать и об ответственности общества, о нашей собственной ответственности за то положение, которое занял этот человек.
Как все это постепенно произошло в нашем обществе – особый и трудный вопрос, может быть, самый трудный в нашей истории. Но он существует и не перестанет существовать, независимо от того, как бы мы ни относились к Сталину и будем ли называть его в своих сочинениях Ставкой или собственным именем.
В тот вечер, когда поэтов вызвали в Радиокомитет писать антифашистские песни, произошло такое экстраординарное событие, как переход к нам через юго-западную границу перебежчика Альфреда Лискофа, сообщившего час нападения немцев. Происходили и более рядовые события – получение очередных разведдонесений от штабов пограничных округов. В последнем предвоенном разведдонесении, посланном в Москву из Прибалтийского особого военного округа 21 июня в 21 час 40 минут, в частности, сообщалось, что по данным, заслуживающим доверия, продолжается сосредоточение немецких войск в Восточной Пруссии. Вслед за этим в донесении подробно излагалась дислокация немцев на Шауляйском и Каунасско-Вильнюсском направлениях. Были указаны номера немецких корпусов и дивизий и количество танков. Далее сообщалось, что на аэродромах Тильзита, Кенигсберга, Пилау, Инстербурга отмечено до семисот самолетов. Словом, была показана обстановка непосредственного сосредоточения перед наступлением.
Но, может быть, все это было сообщено в самый последний день, когда уже поздно было что-нибудь предпринять? Нет. Об этом свидетельствуют выводы донесения, звучащие так: «1. Продолжается сосредоточение немецких войск близ границы. 2. Общая группировка войск продолжает оставаться в прежних районах. 3. Требуется установить достоверность дислокации в городе Кенигсберг штаба 3-го армейского корпуса и штаба 1-й армии».
Из выводов этого донесения с полной очевидностью явствует, что ему предшествовали другие и оно само являлось лишь очередным напоминанием о том, что уже неоднократно сообщалось.
Я привожу всего один документ, попавший мне на глаза в архиве. Существует много других документов такого же рода.
Маршал К. С. Москаленко, командовавший перед войной Первой моторизованной артиллерийской противотанковой бригадой, одним из немногих соединений такого типа, которые мы успели создать к началу войны, недавно в беседе с писателями рассказывал: «20 июня 1941 года меня вызвал к себе командующий 5-й армией Потапов и в упор задал вопрос о возможном, с моей точки зрения, начале войны с немцами. Беседа велась с глазу на глаз в четырех стенах. Мы понимали, что, если откровенный разговор на этот счет станет известным, нам несдобровать. Доложив о данных разведки, я ответил Потапову, что думаю, что война вспыхнет не сегодня, так завтра. Это чувствуется по обстановке в пограничных районах. Он полностью со мной согласился и сказал:
„Не знаю, что думают в Москве и Берлине, но разделяю твои опасения, что немцы не сегодня-завтра нападут на нас“. После этого он познакомил меня с приказанием командующего округом Кирпоноса о немедленном укрытии всей боевой техники».
Присутствуя на этой беседе с Москаленко, я вспомнил одну старую довоенную книгу и не поленился заново прочесть ее.
«…K 4 часам 19 августа судьба пограничного боя на северном участке юго-западного фронта, где немцами было намечено произвести вторжение на советскую территорию силами ударной армейской группы генерала Шверера, была решена.
Лишенные оперативного руководства и поддержки бронесил, части ударной группы Шверера отходили. У них на хребте, не давая времени опомниться, двигались танки Михальчука. Скоро отступление немцев на этом участке превратилось в бегство. В прорыв устремились красная конница и моторизованная пехота».
Так выглядели первые двенадцать часов войны в напечатанном за два года до нее романе Шпанова «Первый удар»; на этих страницах рассказывалось о предполагаемых действиях на том самом северном участке Юго-Западного фронта, который в реальной предвоенной обстановке занимала 5-я армия генерала Потапова.
А вот как выглядели там эти первые двенадцать часов войны в действительности. Я еще раз приведу соответствующее место из беседы маршала Москаленко с писателями:
«Подъезжая к аэродрому, мы увидели, что его бомбят и самолеты горят. Генерал Лакеев, командовавший воздушными силами, не смог поднять с этого аэродрома в воздух ни одного самолета… Войска поднимались по боевой тревоге. Я вскрыл мобилизационный пакет и увидел, что в нем было предписание моей бригаде в случае объявления мобилизации идти на Львовское направление на Раву-Русскую. Я доложил командующему армией, что должен уйти от него, из его подчинения, на другое направление, на Львов.
– Как же ты можешь так поступить, – сказал Потапов, – когда немцы уже выходят к Владимиру-Волынскому и сейчас его возьмут…
Я ответил Потапову, что тем не менее я обязан выйти из его подчинения и могу выполнить его противоречащий мобилизационному пакету приказ, только если этот приказ подтвердит Москва или Киев.
Он позвонил мне снова через несколько минут – у него не было связи ни с Москвой, ни с Киевом, она была прервана, и никакого руководства ни по радио, ни по телефону оттуда в первые часы у нас не было.
Тогда в сложившейся обстановке я решил подчиниться приказу командующего и пошел на Владимир-Волынский».
Хорошо известно не только по нашим, но и по немецким источникам, что в дальнейшем 5-я армия под командованием генерала Потапова была одной из тех, которые на протяжении первых месяцев войны оказали наиболее ожесточенное и успешное сопротивление наступавшим немцам. Рассказ маршала Москаленко свидетельствует о том, в какой тяжелейшей обстановке начала действовать эта армия в первые часы войны.
Навстречу примерно такой же обстановке и таким же событиям, обернувшимся на Западном фронте еще более тяжелыми результатами, выехал я в дачном вагоне из Москвы в Минск, имея в кармане командировочное предписание: «Интенданту 2-го ранга товарищу Симонову К. М. Приказом начальника Главного управления политпропаганды Красной Армии № 0045 от 24 июня 1941 года Вы назначены литератором редакции газеты „Боевое знамя“, предлагаю отбыть в распоряжение начальника Управления политической пропаганды Западного особого военного округа. Срок выезда 24 июня 1941 г. Маршрут – Москва – Минск. О выезде донести».
Мое странное для писателя интендантское звание объяснялось тем, что для присвоения строевых званий оконченные нами перед войной курсы военных корреспондентов достаточных оснований не давали. Звание же политработника тем из нас, кто не был членом партии, присвоено быть не могло, а я только накануне отъезда на фронт получил в Краснопресненском райкоме кандидатскую карточку. В таких же, как и я, интендантских званиях уехало тогда на фронт множество писателей, которые, кстати сказать, никогда не возражали, если их потом, там, на фронте, по ошибке или из деликатности именовали не интендантами, а майорами или батальонными комиссарами.
2 «В эту ночь – с 23-го на 24-е – была первая воздушная тревога, как потом оказалось – учебная»
На самом деле эта тревога не была учебной. Вот как выглядела в соответствующем донесении подлинная история этой первой московской воздушной тревоги:
«…На подступах… появились неопознанные самолеты. 2.40. Командиром корпуса частям корпуса объявлена тревога. По указанию командира 6-го авиакорпуса полковника товарища Климова наша истребительная авиация поднята в воздух для патрулирования на разных высотах от 2 тысяч до 7 тысяч метров. Всего поднято в воздух было 178 самолетов.
Противник обнаружен не был, но 4 самолета под управлением младших лейтенантов Бочарова, Федорова, Хазаинова и Зверева обстреляли самолеты ДС-3 под управлением летчиков гражданского воздушного флота товарищей Смирнова, Горщукова и Синберт, посадили их на аэродром Алферьево, и при осмотре в самолетах обнаружены пробоины в бензобаке, в хвостовом оперении и рации.
После телефонного разговора генерал-майора артиллерии товарища Журавлева с начальником ВВС, выяснив, что неопознанные самолеты являются нашими, полковнику Климову свою истребительную авиацию посадить, оставив только патрулирование.
В 3.08 командир зоны ПВО генерал-майор товарищ Громадин приказал вести огонь. Все батареи огонь открыли.
В 4.14 генерал-майор товарищ Громадин приказал дать отбой…»
3 «Были сведения, что пути до Минска разбомблены и в каком-то месте перехвачены десантом»
Эти сведения, которые нам сообщили в Борисове утром 26 июня, когда поезд не пошел дальше и нам пришлось выгрузиться, на поверку оказались неточными. Хотя, вообще говоря, слухи о десантах имели свои основания. В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» есть несколько сообщений о десантах уже за первый день войны: десант в десять человек, в двадцать человек, в пятьдесят человек, около ста человек, и, наконец, в 17 часов 10 минут донесение о высадке авиадесанта в тысячу человек с пометкой: «Данные непроверенные».
В том же «Журнале» за 24 июня записано, что «в ночь на 24-е противник выбросил авиадесанты в районах Радешковичи – Олехновичи до тысячи человек (данные не подтвердились). В районе Ратомка – не установленной численности. У железнодорожного моста Жлобин – не установленной численности. На участке Осиповичи – Березина авиадесант с шестью танками (данные не проверены)».
Я привожу эту цитату из «Журнала боевых действий», чтобы показать, какое широкое хождение имели в те дни слухи о десантах. Одни из них подтверждались, другие нет, но слухи все больше ширились.
Однако данных о высадке немецкого десанта между Минском и Борисовом я ни в каких документах не обнаружил. Что касается продвижения наземных войск, то в «Журнале боевых действий войск Западного фронта» указывается, что немцы достигли автострады Минск – Москва своими подвижными частями только 28 июня. Сведения, возможно, запоздалые; судя по трофейной карте немецкого генерального штаба, 7-я танковая дивизия немцев перерезала Минское шоссе в районе Смолевичи на полдороге между Минском и Борисовом уже к вечеру 27 июня.
Но даже если и так, все равно слухи, о которых я упомянул в записках, опередили действительные события на сутки, и когда мы 26 июня ездили заправляться бензином из Борисова по направлению к Минску, моя тревога была неоправданной. У страха глаза велики.
Со странным чувством разглядывал я в архиве пожелтевшие трофейные карты германского генерального штаба за первые дни войны. Смотрел на них, на эти уверенные, все глубже врезавшиеся в нашу землю стрелы и думал о людях, когда-то наносивших на эти отчетные карты обстановку по первым торжествующим донесениям с Восточного фронта.
Недавно я был в Польше, в районе так называемого Вольфшанце – Волчьего логова, где перед началом войны размещалась ставка Гитлера. В глухом сыром лесу – циклопическое нагромождение взорванных и опрокинутых многометровых бетонных плит. Все это немцы взорвали своими руками осенью 1944 года, накануне нашего вторжения в Восточную Пруссию. Но именно отсюда, из этих нынешних развалин, Гитлер тогда, в июне 1941 года, руководил войной на Востоке. Именно здесь клали перед ним на стол эти карты с последней, наилучшим образом складывавшейся обстановкой, те самые карты, которые сейчас одну за другой приносит мне для ознакомления тихая девушка в тихом городке, который едва не был взят немцами тогда, в 1941 году…
4 «Несколько полковников, в той числе и тот полковник-танкист Лизюков, с которым я ехал в одном вагоне, наводили в лесу порядок»
Полковник Лизюков, на моих глазах наводивший порядок под Борисовом, погиб через тринадцать месяцев после этого, в июле 1942 года, в районе Большой Верейки, в сорока километрах северо-западнее Воронежа, в должности командующего только что сформированной танковой армии. Он погиб в тяжелых и неудачных для нас боях, пытаясь ударом во фланг остановить наступление немцев и облегчить наше положение на Воронежском направлении.
Его гибель носит на себе трагический отпечаток и произошла при обстоятельствах, не до конца известных. Вот что сказано в отправленной уже после войны в штаб бронетанковых сил СССР записке людей, выяснявших обстоятельства его гибели:
«В тот день, не имея сведений от прорвавшегося в район Русско-Гвоздевских высот 89-го танкового батальона 148-й танковой бригады, генерал Лизюков и полковой комиссар Ассоров на танке КВ… выехали в направлении рощи, что западнее высоты 188,5, и в часть не возвратились. Из показаний бывшего заместителя командира 89-й танковой бригады… гвардии полковника Давиденко Никиты Васильевича известно, что при действии бригады в этом районе был обнаружен подбитый танк КВ, на броне которого находился труп полкового комиссара Ассорова, и примерно в ста метрах от танка находился неизвестный труп в комбинезоне, с раздавленной головой. В комбинезоне была обнаружена вещевая книжка генерала Лизюкова. По приказанию гвардии полковника Давиденко указанный труп был доставлен на его НП и похоронен около рощи, что западнее высоты 188,5. Вскоре бригада из этого района была вынуждена отойти. Других данных о месте гибели и погребения генерала Лизюкова не имеется».
Так погиб Александр Ильич Лизюков. Но до своей трагической гибели он немало успел сделать на войне. Под Борисовом он, как мне теперь известно, воевал до 8 июля 1941 года. О том, что он там делал, пожалуй, лучше всего расскажет выписка из соответствующего наградного листа.
«Фамилия – Лизюков Александр Ильич.
Звание – полковник.
Год рождения – 1900.
Краткое содержание подвига. – С 26 июня по 8 июля 1941 года работал начальником штаба группы войск по обороне города Борисова. Несмотря на то, что штаб пришлось сформировать из командиров, отставших от своих частей, в момент беспорядочного отхода подразделений от города Минск товарищ Лизюков проявил максимум энергии, настойчивости, инициативы. Буквально под непрерывной бомбежкой со стороны противника, не имея средств управления, товарищ Лизюков своей настойчивой работой обеспечил управление частями, лично проявил мужество и храбрость. Достоин представления к правительственной награде орденом Красного Знамени».
Лизюков оказался одним из первых командиров, награжденных в начале войны на Западном фронте.
В книге мемуаров полкового комиссара Гуляева «Человек в броне», в главе, повествующей о тяжелой обстановке в конце июля 1941 года на Днепре у Соловьевской переправы, упоминается о полковнике-танкисте, решительно наводившем там порядок. «Как я потом узнал, то был полковник А. И. Лизюков… своим мужеством и распорядительностью спасший тогда много техники и людей. Позднее ему было присвоено звание Героя Советского Союза».
Звание Героя Советского Союза Лизюков получил уже под Москвой, командуя Первой мотострелковой дивизией, которой именно в этот период было присвоено звание гвардейской.
Потом Лизюков участвовал в боях, командуя 2-м танковым корпусом, и наконец, как я уже сказал, в критические дни июля 1942 года был назначен командующим спешно сформированной 5-й танковой армией.
В его личном деле, касающемся довоенных времен, указано, что осенью 1935 года он около месяца был во Франции членом нашей военной делегации на маневрах французской армии. Потом командовал танковым полком и бригадой. Потом увольнялся из рядов армии, но, к счастью, через несколько месяцев вернулся в нее. Перед войной Лизюков был заместителем командира 36-й танковой дивизии, в которую, видимо, и ехал, когда мы встретились с ним в вагоне.
После этого я виделся с ним еще два раза: один раз в Москве, когда его вызывали для назначения на корпус, и второй раз накануне его гибели, на Брянском фронте, в какой-то деревне, не помню ее названия, где размещалась тогда оперативная группа заместителя командующего фронтом генерала Чибисова. Я столкнулся с Лизюковым накоротке у хаты оперативного отдела; я шел туда, чтобы узнать, как проехать в действовавшую на этом участке фронта Башкирскую кавалерийскую дивизию.
– Что вы здесь делаете? – коротко спросил меня Лизюков.
Я ответил.
– Давайте сперва съездим ко мне, – сказал он. – У меня тут на полчаса дел, через полчаса будьте у моей машины.
Он показал рукой, где именно, за пятой или шестой хатой отсюда, стояла его машина.
Через двадцать пять минут я был там, но Лизюкова уже не было. Он уехал несколько минут назад. Меня тогда это удивило, тем более что он сам предложил мне ехать с ним. Лишь через несколько дней, вернувшись из Башкирской дивизии и узнав о гибели Лизюкова, я вспомнил его хмурое, расстроенное лицо в короткую минуту нашей последней встречи. А впрочем, допускаю, что все это мне только показалось. Когда мы вспоминаем о последних встречах с вдруг ушедшими от нас людьми, нам часто задним числом кажется, что на их лицах уже лежала в те минуты печать предчувствия своей гибели.








