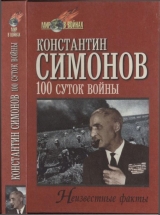
Текст книги "Сто суток войны"
Автор книги: Константин Симонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 37 страниц)
– Ничего, подлетишь в Мурманск на недельку, вернешься – и опять поедешь к себе в Крым,104— сказал Ортенберг, и сразу начались звонки по телефону, добывание самолета, приказы заготовить мне предписание.
В самый канун наступления немцев под Москвой я вылетел в Заполярье с того же аэродрома фельдсвязи в Мячиково, куда мы прилетели из Крыма.
Комментарии
1 «…меня вызвали в Радиокомитет и предложили написать две антифашистские песни»
Здесь, так же как и много раз в дальнейшем, приводя те или иные строки из текста записок, я буду комментировать не столько их, сколько стоящий за ними гораздо более широкий круг событий и проблем.
В данном случае я хочу сейчас, через двадцать пять лет, ответить себе на вопрос, с которым связано все начало моих записок: в какой мере война была неожиданностью для меня и для других моих сверстников? Для того чтобы попробовать на это ответить, надо вернуться из 1941 года еще на несколько лет назад.
Между процессом Димитрова и заключением пакта с фашистской Германией у меня не было никаких сомнений в том, что война с фашистами непременно будет. Больше того, мыслями о неизбежности этой войны для меня лично определялось все, что я делал в те годы как начинающий литератор. Именно этой неизбежностью объяснялись для меня и многие трудности нашей жизни, и та стремительная и напряженная индустриализация страны, свидетелями и участниками которой мы были. В этой же неизбежности войны мы искали объяснения репрессиям 1937–1938 годов.
Во всяком случае, когда весной 1937 года я узнал о суде над Тухачевским, Якиром и другими нашими военачальниками, я, мальчиком, в двадцатые годы несколько раз видевший Тухачевского, хотя и содрогнулся, но поверил, что прочитанное мною – правда, что действительно существовал какой-то военный заговор и люди, участвовавшие в нем, были связаны с Германией и хотели устроить у нас фашистский переворот. Других объяснений происшедшему у меня тогда не было.
Я не хочу сказать, что у меня не вызывало мучительных сомнений все последовавшее за этим. Конечно, я, как и другие, не мог знать того, что германскими или японскими шпионами и врагами народа, если говорить только об армии, объявлены были в течение двух лет все командующие и все члены Военных Советов округов, все командиры корпусов, большинство командиров дивизий и бригад, половина командиров и треть комиссаров полков. Если глазам кого-нибудь из нас могла бы предстать вся эта картина в целом, то я не сомневаюсь, что наши тяжелые сомнения превратились бы в прямую уверенность, что это неправда, что этого не может быть.
Кстати сказать, размышляя об этом сейчас, я не могу понять людей, которые и теперь, перед лицом неопровержимых и опубликованных в нашей печати фактов, продолжают объяснять все тем, что Сталин был болезненно подозрителен, верил Ежову и не ведал, что творится. Ведь Сталин-то знал тогда все эти цифры в полном объеме, он видел всю картину в целом и не мог, разумеется, верить, что все командующие округами, все члены Военных Советов, все командиры корпусов по всей стране, от Белоруссии до Приморья и от Мурманска до Закавказья, были предателями. Я не могу допустить возможности такого безумия.

К. М. Симонов и П. А. Трошкин. Западный фронт, июль 1941 г. (фото из архива писателя)

Западный фронт, июль 1941 г.
Слева направо: П. И. Боровков (водитель), П. И. Белявский, К. М. Симонов, E. Т. Кригер (фото П. А. Трошкина)

К. М. Симонов. Одесса, июль 1941 г. (фото из архива писателя)

В районе Смоленска. Западный фронт. К. Симонов (в центре) с Л. Сурковым, О. Кургановым, Е. Кригером и П. Трошкиным (фото из архива писателя)

К. Симонов и фотокорреспондент М. Беренштейн. Белое море, ноябрь 1941 года (фото из архива писателя)

Допрос пленных немецких летчиков. Лето 1941 г. (фото из архива писателя)

На Севере, п-ов Средний, 1941 г. (фото из архива писателя)

Баренцево море, 1941 г. (фото из архива писателя)
Разумеется, когда речь идет об аресте командиров и комиссаров дивизий, бригад и полков, это шире понятия «верхушка армии». И нет оснований полагать, что каждый из таких арестов осуществлялся с прямой санкции Сталина, но зато справедливо будет сказать, что все это было результатом страшной цепной реакции.
Ежегодные служебные аттестации, незадолго до своего ареста написанные «врагами народа» на обширный круг своих подчиненных, сплошь и рядом ставили под подозрение этих последних. Со следами этого сталкивался всякий, кому приходилось работать над личными делами того времени. И чаще всего нельзя сказать даже, по какому принципу одни остались служить в армии, а другие оказались на несколько лет изъятыми из нее или погибли.
Тем не менее, несмотря на масштабы постигшей армию катастрофы 1937–1938 годов, тяжелая атмосфера недоверия все-таки с меньшей силой повлияла бы на моральные и боевые качества военных кадров к началу и в начале войны, если бы происшедшая к этому времени реабилитация более чем четверти арестованных военных сопровождалась признанием огромности совершенных ошибок. Такое признание было бы воспринято хотя бы как частичная гарантия невозможности их повторения.
Но об этом не было и речи.
Я хорошо помню, с каким вздохом облегчения было воспринято исчезновение в начале тридцать девятого года с политического горизонта зловещей фигуры Ежова, и так же хорошо помню, как тогда, на первых порах, с именем его не менее зловещего преемника Берии у несведущих людей связывались даже добрые чувства. Именно ему тогда зачастую приписывали освобождение многих вернувшихся на свободу людей. Как ни чудовищно выглядит это в свете всего последующего, но тогда ощущение было именно такое.
А в общем, к началу войны в смысле оценки событий 1937–1938 годов в глазах многих из нас дело выглядело так: были известные перегибы, исправленные товарищем Сталиным. Появилось довольно много освобожденных людей, исчез без публичного объяснения причин Ежов, а в целом страна и, в частности, армия очистились и окрепли после уничтожения «пятой колонны», которая предала и погубила бы нас во время войны, если бы она не была своевременно ликвидирована.
Сейчас особенно очевидно, насколько подобный взгляд на вещи не совпадал с тем определением «ежовщины», которым просто и коротко заклеймил события тех лет народ. И сделал это не после смерти Сталина, а еще перед войной.
И все-таки в те тяжелые годы именно всеобщая уверенность в том, что нам придется скоро не на жизнь, а на смерть воевать с фашистской Германией, а может быть, одновременно и с Японией, в какой-то мере отвлекала людей от более критической оценки происшедшего, толкала их на то, чтобы в напряженной обстановке в той или иной мере искать оправдание обостренной подозрительности, доходившей порой до того, что в невинных крестиках какого-нибудь текстильного орнамента находили коварно замаскированные фашистские свастики.
О моральной готовности народа вступить, если понадобится, в вооруженную борьбу с фашизмом говорили и глубокий отклик в сердцах, вызванный процессом Димитрова, и решимость молодежи в любую минуту ехать добровольцами в Испанию, и всеобщее одобрение, которое в 1938 году вызвала готовность Советского правительства прийти на помощь Чехословакии, и такое же единодушное возмущение Мюнхеном. Во всяком случае, в той рабочей и студенческой среде, в которой я жил в те годы, не помню ни одного разговора, даже с глазу на глаз, в котором кто-нибудь из моих сверстников проявил бы равнодушие к судьбам Испании или высказался в том смысле, что «наша хата с краю» и зачем нам ввязываться из-за чехов в войну с немцами.
Война справедливо рисовалась нам тогда как нечто неизбежное, хотя и вынужденное. Ее начало представлялось как нападение на нас фашистской Германии, или Японии, или обеих вместе, за этим следовал их разгром в результате наших ответных действий. История в конце концов подтвердила правильность этого предчувствия, хотя по дороге к победе нас ожидали такие страшные и неожиданные испытания, возможность которых в те годы просто-напросто не приходила, нам в голову. Мы не ожидали их потому, что неверно оценивали обстановку в стране и начавшее обнаруживаться уже к 1939 году отставание и в области организации армии, и в области ее оснащения современной военной техникой. Воспитанные в глубокой любви к Красной Армии и в конце концов, несмотря ни на что, не ошибавшиеся в своем ощущении ее потенциальной мощи, мы, конечно, и отдаленно не представляли себе меру ее неподготовленности к войне.
В написанном в 1937 году эпилоге поэмы «Ледовое побоище» я, выражая свои тогдашние чувства, писал о будущей войне так:
Когда-нибудь, сойдясь с друзьями,
Мы вспомним через много лет,
Что в землю врезан был краями
Жестокий гусеничный след.
Что мял хлеба сапог солдата,
Что нам навстречу шла война,
Что к западу от нас когда-то
Была фашистская страна.
Концепция этих строк была сходна с концепцией многих стихов, писавшихся тогда о будущей войне, – сначала война шла нам навстречу, потом, защищая свою страну, мы вооруженной рукой ставили крест на германском фашизме. Примерно тем же самым я закончил через год свои стихи «Однополчане»:
Под Кенигсбергом на рассвете
Мы будем ранены вдвоем,
Отбудем месяц в лазарете
И выживем, и в бой пойдем.
Святая ярость наступленья,
Боев жестокая страда
Завяжут наше поколенье
В железный узел навсегда.
Правда, даже и тогда и мне, и целому ряду моих товарищей по профессии, в отличие от других литераторов, писавших в шапкозакидательском духе, война все-таки представлялась «жестокой страдой». Но предположить, что в начале этой войны мне придется слышать гул орудий на окраинах Москвы и видеть бои на улицах Сталинграда, я, конечно, не мог. Кстати, тогда, в 1938 году, в редакции в слове «Кенигсберг» изменили одну букву, написав «Ренигсберг», очевидно, во избежание дипломатических осложнений.
Немалое место в наших мыслях о ходе будущей войны, выраженных и в прозе и в стихах, в том числе и в моих, занимала надежда на то, что в ходе этой войны народ Германии выступит против фашизма. Эта вера была частью нас самих, и хотя того, что мы ждали, не произошло, но сила и чистота нашей тогдашней веры и сейчас не вызывают у меня чувства раскаяния.
В августе 1939 года, когда был заключен пакт с Гитлером, я был на Халхин Голе. Как раз в эти дни наша действовавшая вместе с монголами армейская группа, которой командовал Г. К. Жуков (тогда комкор), в жестоких боях добивала окруженную на территории Монголии 6-ю армейскую группу японцев. Не знаю, может быть, окажись я в то время в Москве, я отнесся бы к этому пакту с большими душевными сомнениями. Там, в Монголии, в разгар боев, я воспринял это известие как неожиданное, даже ошеломляющее, но, в общем, благоприятное. Не хочу распространять это мое восприятие на других людей, в таких случаях надо говорить о себе. Несмотря на то, что до полного уничтожения окруженных японских дивизий оставались считанные дни, я, так же как и многие на Халхин-Голе, вполне допускал, что японцы не примирятся со своим разгромом в Монголии, и уже стоивший им несколько десятков тысяч жизней вооруженный конфликт может развернуться в большую войну на всем Дальнем Востоке. В этих условиях оттуда, из Монголии, пакт с Германией воспринимался как благо, как нечто такое, после чего там, у тебя за спиной, на Западе, по крайней мере в ближайшее время ничего не начнется.
Потом, когда разразилась война на Западе и когда политики, ответственные за Мюнхен и за срыв переговоров с нами, толкнули Польшу, а вслед за ней и Францию навстречу происшедшей трагедии, мое отношение к пакту стало более сложным и противоречивым, в особенности после падения Франции.
В меру своего разумения я по-прежнему считал, что после неудавшихся по вине Англии и Франции наших переговоров с ними о взаимных гарантиях против германской агрессии пакт был единственным возможным для нашей страны выходом из создавшегося положения. Но чем дальше фашисты шагали по Европе, чем больше стран они подчиняли себе, тем большее чувство внутренней душевной стесненности вызывали у меня наши внешне лояльные отношения с этими завоевывавшими Европу людьми. Они оставались теми же, кем были – фашистами, – но мы уже не имели возможности писать и говорить о них вслух то, что мы о них думаем.
Государственная целесообразность пакта для меня по-прежнему не подвергалась сомнению, но чувство душевной потрясенности нарастало.
Молниеносное поражение Франции не только потрясло душу, но и вселило чувство горечи. Существовавшее у меня с самого начала европейской войны желание, чтобы у немцев не выходило так, как им хотелось, все больше обострялось по мере их новых успехов.
Вдруг промелькнувшее в газете сообщение ТАСС о противовоздушной обороне Лондона, в котором прозвучала нота сочувствия к оборонявшим свою столицу англичанам, было воспринято с обостренной радостью. Я говорю не только о себе. Хорошо помню, что это было общее чувство.
Конечно, все это было связано не только с неприязнью к Германии, неприязнью именно потому, что она была фашистской страной, но и с возраставшей тревогой за собственную судьбу: что же будет дальше, когда они завоюют всю Европу? Кто же их разобьет в конце концов? Очевидно, это все-таки придется делать нам, больше некому.
Все более оглушительные успехи немцев вызывали у меня не только все возраставшее сочувствие к тем, кому они наносили поражение за поражением, но и все усиливающуюся тревогу за будущее. Повторяю: армия казалась мне несравненно более готовой к войне с немцами, чем это было на самом деле. Но время постепенно вносило коррективы в это представление. И главные коррективы внесла финская война.
Я не был на ней, но там были многие мои близкие друзья, достаточно откровенно рассказавшие мне обо всем, что они видели.
Из этой войны делались весьма серьезные выводы, проходили совещания Главного Военного Совета, К. Е. Ворошилова сменил на посту наркома С. К. Тимошенко, произошла резкая перемена к лучшему во всей системе обучения армии.
В литературе куда сильней, чем раньше, зазвучали ноты, напоминавшие, что настоящая война нечто совсем иное, чем те облегченные до нелепости детские проекты ее, которые еще недавно можно было увидеть в таких фильмах, как «Если завтра война», «Эскадрилья номер пять», или прочесть в таких книгах, как «Первый удар» или «На Востоке».
В печати появился цикл стихов прошедшего финскую войну Суркова, в которых говорилось о неимоверной тяжести войны, о крови, жертвах, лишениях, о том, что войну не выиграешь за двенадцать часов, как в романе «Первый удар», а ее надо «вытерпеть» и «выдюжить». Сейчас все это само собой разумеется, но тогда такие стихи были важным событием в литературе, да и вообще в нашей духовной жизни.
Для большей очевидности этого скажу, что когда примерно за год до появления стихов Суркова я закончил одно из своих халхин-голских стихотворений строкой: «Да, враг был храбр, тем больше наша слава», то сначала мне пришлось долго отстаивать ее, а потом я неожиданно услышал ее по радио в таком виде: «Да, враг коварен был, тем больше наша слава».
Кто-то счел, что уж во всяком случае по радио недопустимо превозносить врага, высказывая предположение, что он, видите ли, может быть храбрым!
Вспоминаю, какой тяжелый для меня спор вышел из-за этого же стихотворения «Танк» с В. П. Ставским после нашего возвращения с Халхин-Гола.
В этом стихотворении я предлагал на месте так называемого Баин-Цаганского побоища, в котором наши танкисты, разбив японцев, сами понесли жесточайшие потери, поставить в качестве памятника один из наших продырявленных в этом бою танков, – сейчас мысль естественная, даже не дискуссионная.
Но тогда Владимир Петрович Ставский, сам участник этого Баин-Цаганского побоища, видевший все своими глазами, прочитав это стихотворение, рассвирепел:
– Нашел, что придумать: поставить вместо памятника дырявый танк! Разбитый, никуда не годный! Что это за символ победы?.. Что, мы не можем новый танк поставить или мраморный?..
В первую минуту я опешил от его натиска. То, что говорил мне Ставский, никак не вязалось у меня ни с его собственным мужественным обликом, ни с его биографией солдата (которую он потом достойно продолжил на финской и Великой Отечественной войне). Я не сразу понял, что в полном противоречии со всем тем, что он сам же видел и пережил на Баин-Цагане, Ставским продолжает владеть страшная инерция нашей пропаганды, вещавшей о победе малой кровью и умалчивавшей о трудностях и жертвах, которыми покупается победа.
Мы так ни до чего и не договорились и расстались в ссоре, а в следующий раз я увидел Ставского прихрамывающего, вернувшегося после финской войны с тяжелым ранением. Да, бывало тогда и так, что сама жизнь человека, пережитое и виденное им собственными глазами жестоко расходилось с тем, что он искренне считал нужным писать обо всем этом. И я бы не вспоминал этого случая, если бы в нем не отразились существенные черты того времени.
Я не был на финской войне, а на Халхин-Голе оказался лишь в конце событий, когда японцы на моих глазах действительно, без всяких преувеличений, были разбиты наголову. Своими глазами я видел разгром японцев. Но на Халхин-Голе я общался с людьми, находившимися там с самого начала событий, и для меня не было секретом ни то, что наши броневики горели как свечи, ни то, что наши быстроходные легкие танки БТ-5 и БТ-7 неожиданно оказались очень уязвимыми для артиллерийского огня, ни то, что наши истребители, как выяснилось, несколько отставали в скорости от японских. Мне приходилось также слышать, что поначалу японцы били в воздухе наших неопытных, совершавших первые боевые вылеты летчиков, и перелом в воздушных боях создался, только когда на Халхин-Гол прилетела большая группа наших лучших истребителей, уже отличившихся в Испании.
В разговорах там, в Монголии, не делалось особого секрета из того, что одна из наших стрелковых дивизий оказалась очень плохо обученной, при первых столкновениях с японцами побежала и лишь через месяц, постепенно втянувшись в бои, начала неплохо воевать. А кроме того – это я уже видел своими глазами, – японская пехота дралась отчаянно, защищала каждую сопку до последнего человека, умирала, но не сдавалась, нанося нам чувствительные потери. Словом – «враг был храбр». И, вспоминая о японцах, я допускал, что этого можно ждать и от немцев…
Я говорил о стихах Суркова, о споре со Ставским, о разных точках зрения на то, как писать о враге: «храбр» или «коварен». Все это только частности тех споров, которые в открытом, а чаще в скрытом виде существовали в духовной жизни страны, и того постепенного осознания меры опасности, с которой нам придется столкнуться в случае войны с немцами.
Этот процесс, встречавший жестокое противодействие в силу сложившихся за предшествующие годы ложных представлений, хотя и ускорился под влиянием тяжелых для нас уроков финской войны, но так и не успел завершиться и дать существенные результаты к началу войны с немцами. Тем не менее он происходил, и мне хочется процитировать в доказательство отрывки из двух архивных документов, относящихся к преддверию войны, к февралю 1941 года.
В обоих из них говорится о готовившемся тогда в издательстве «Молодая гвардия» сборнике «Этих дней не смолкнет слава».
В первом из документов сказано так:
«…Сборник исходит из принципиально неверной установки о том, что „наша страна – страна героев“, пропагандирует вредную теорию „легкой победы“ и тем самым неправильно ориентирует молодежь, воспитывает ее в духе зазнайства и шапкозакидательства».
Во втором документе говорится то же самое, только другими словами:
«В материалах много ненужной рисовки и хвалебности. Победа одерживается исключительно легко, просто… все на ура, по старинке. В таком виде воспитывать нашу молодежь мы не можем. Авторы, видно, не сделали для себя никаких выводов из той перестройки, которая происходит в Красной Армии…»
Первая цитата – из проекта письма тогдашнего начальника Главного политического управления армии А. И. Запорожца к А. А. Жданову, вторая – из письма тогдашнего наркома обороны С. К. Тимошенко к тогдашнему секретарю ЦК комсомола Н. А. Михайлову.
Видимо, если бы война началась хоть на год позже, тот с трудом происходивший поворот в умах, о котором свидетельствуют эти письма, если бы и не завершился, то во всяком случае уже принес бы некоторые плоды. Однако война началась в июне 1941 года…
В декабре 1940 года я написал пьесу «Парень из нашего города». Пьеса кончалась событиями на Халхин-Голе, но тревожные мысли о будущей войне с немцами, все больше занимавшие меня в то время, все-таки нашли в этой пьесе свое выражение, правда, максимально сдержанное, приемлемое для печати.
Герой пьесы Луконин слушал в Монголии передачу немецкого радио из только что взятого немцами Кракова, и конец этой сцены выглядел так:
«Сергей. Довольно, выключи! (Молчание.) Здорово здесь чувствуешь расстояние?.. Конечно, все эти Беки и Рыдз Смиглы – дрянь и авантюристы, но когда я Думаю о польских солдатах… Нет, незавидная участь – быть солдатом в стране, где умеют хорошо делать только дамские чулки и губную помаду! Как по-твоему, а, Севастьянов?
Севастьянов. Да, по-моему, они сейчас предпочли бы уметь делать танки.
Сергей. Поздно. За две недели этому не научишься…»
Больше сказать тогда в печати и со сцены было невозможно, и я понимал эту невозможность и не пытался переступить границу, но тем не менее стремился, как мог, выразить свое отношение к фашистам, шагавшим по Европе. Актеры Театра ленинского комсомола, игравшие эту сцену в марте 1941 года, еще ближе к войне, в дополнение к авторским вложили в эту сцену свои собственные чувства, и, как нам казалось, зритель понимал то, что мы хотели дать ему почувствовать.
За месяц до войны, 16 мая 1941 года, мне пришлось участвовать в обсуждении этой пьесы в Доме актера.
Пьеса была неровная, с большими слабостями, но на обсуждении меня больше хвалили, чем ругали, видимо, потому, что главные герои пьесы были военные, уже воевавшие и, если надо, готовые снова идти сражаться люди. Появление таких людей на сцене тогда встречалось с особым сочувствием, и в этом тоже сказывалась тревожная атмосфера времени, ожидание вот-вот готовой разразиться войны, о которой, как мне вспоминается, тогда много думали, хотя и не часто говорили вслух.
Что касается меня, то на этот раз после обсуждения моей пьесы я сказал, отвечая выступавшим: «Что бы вы ни писали, не надо забывать о том, что если не в этом году, так в будущем нам предстоит воевать. Так я и писал эту во многом еще плохую пьесу… Нам скоро воевать! А перед этим отступают на задний план все мелочи. И из-за того, что пьеса… при всех ее недостатках, написана с тем чувством, что если не сегодня, так завтра нам предстоит воевать, мне прощаются многие недостатки. Я это учитываю».
Мысль выражена несколько коряво, но мне не хотелось задним числом править эту довоенную стенограмму.
Во многих воспоминаниях о первом периоде войны я читал о заявлении ТАСС от 14 июня 1941 года и о том дезориентирующем влиянии, которое оно имело.
Так оно и вышло на деле. Хотя сейчас, перечитывая это заявление ТАСС, я думаю, что его можно рассматривать как документ, который, при других сопутствующих обстоятельствах, мог бы не только успокоить, но и насторожить.
Думается, что Сталин хотел этим документом, во-первых, еще раз подчеркнуть, что мы не хотим войны с Германией и не собираемся вступать в нее по своей инициативе, во-вторых, что мы хорошо осведомлены о концентрации германских войск у наших границ и, очевидно, принимаем в связи с этим свои меры, а в-третьих, мне лично кажется несомненным, что это официальное заявление государственного телеграфного агентства имело целью попробовать вынудить Гитлера в той или иной форме подтвердить свои предыдущие заявления о миролюбивых намерениях по отношению к нам и этим в какой-то мере дополнительно связать себя.
Мне кажется, что разоружающее значение этого заявления ТАСС состояло не в самом факте его публикации, а в другом: если с дипломатической точки зрения появление такого документа считалось необходимым, то внутри страны ему должны были сопутствовать меры, совершенно обратные тем, которые последовали. Если бы одновременно с появлением этого документа войска пограничных округов были приведены в боевую готовность, то он, даже без особых дополнительных разъяснений, был бы воспринят в армии как документ дипломатический, а не руководящий, как адресованный вовне, а не вовнутрь.
А между тем были приняты как раз обратные меры. Буквально все попытки на местах, в пограничных округах, усилить боевую готовность войск наталкивались на жестокое сопротивление сверху, за которым, несомненно, стояла твердая воля Сталина.
Не только тяжело, а душевно непереносимо читать сейчас главы мемуаров, посвященных этому периоду. Соответствующие цитаты заняли бы десятки страниц. Сошлюсь лишь на нескольких лиц, занимавших перед войной самые разные должности – от начальника ПВО страны и до командиров дивизий. Упоминания о строгом запрете сверху принимать в пограничных округах какие-либо меры к приведению войск в боевую готовность проходят через мемуары Воронова, Баграмяна, Сандалова, Бирюзова, Лобачева, Болдина, Кузнецова, Попеля и многих других участников войны.
И, конечно, уж вовсе трагическое впечатление производит висящая на стене в музее Брестской крепости красноармейская газета 4-й армии «Часовой родины», вышедшая утром 22 июня 1941 года с передовой «Летнему спорту – широкий размах».
В таких условиях заявление ТАСС, разумеется, могло иметь и имело только одно – разоружающее значение.
Надо попробовать представить себе психологическое состояние людей, которые знают об угрожающем сосредоточении германских войск у наших границ, ежедневно получают донесения на этот счет, сами доносят об этом своим старшим начальникам и в Москву, предлагают принять соответствующие меры, но ответом на все это оказывается или молчание, или прямые окрики: «Не сметь!»
Мне вовсе не кажется удивительным, что сочетание этой реальности, этой очевидности угрозы, которую чувствовали люди, находившиеся в пограничных округах, с твердостью отпора сверху, из Москвы, по отношению ко всем предложениям о приведении войск в боевую готовность у многих рождало ощущение, что, должно быть, есть какая-то иная очевидность, иная реальность, о которой хорошо осведомлен такой высший и непогрешимый авторитет, каким был тогда для нас Сталин.
Думаю, что именно это и могло рождать такие ответы, как ответ командующего войсками Западного особого округа Павлова своему встревоженному заместителю Болдину: «Иван Васильевич, пойми меня: в Москве лучше нас с тобой знают военно-политическую обстановку и наши отношения с Германией».
То, что, несмотря на явные признаки готовящегося нападения, Сталин, очевидно, до самого последнего момента еще верил, что ему удастся оттянуть начало войны, уже доказано нашими историками на основании анализа огромного количества неопровержимых фактов. В своем коллективном труде «Великая Отечественная война» они пришли к выводам, что неподготовленность пограничных военных округов к отпору врагу явилась прежде всего следствием ошибочных представлений Сталина о перспективах войны с фашистской Германией в ближайшее время и переоценки им значения советско-германского договора.
Я полностью разделяю эти выводы, но меня как писателя дополнительно интересует еще одно: за суховато-точной формулировкой историков о неподготовленности пограничных военных округов к этой, при всех обстоятельствах неизбежной войне стоит множество лишних жертв, понесенных нами на войне вследствие этих ошибочных представлений Сталина, не говоря уже об оккупации и опустошении немцами огромной территории, на которой потом все своим горбом заново отстраивал народ. Спрашивается, в силу чего психологически сложились у Сталина эти так дорого нам стоившие «ошибочные представления»?
Мне кажется, что во время и особенно после финской войны Сталин субъективно стремился сделать все, что от него зависело, чтобы страна вступила в войну с фашистской Германией как можно позже. По его представлениям, мы были бы готовы встретить войну во всеоружии к 1942–1943 году. Судя по многим высказываниям наших компетентных в этом вопросе военных деятелей, эти предположения были бы близки к действительности с точки зрения реорганизации и перевооружения армии и освоения новой техники. Другой вопрос, что нам и к этому времени не удалось бы восполнить огромные потери в командных кадрах, которые мы понесли в тридцать седьмом – тридцать восьмом годах, а большой боевой опыт германской армии, даже если бы война началась на год или два позже, в первый период все равно оставался бы фактором, усиливавшим нашего противника.
Но при всем том оттянуть надвигавшуюся войну хотя бы на год нам было нужно буквально до зарезу. Это было прямой государственной необходимостью, и то упорство, с которым стремился к этому Сталин, вполне понятно. Непонятно другое: как он мог не считаться с тем, что будущее может оказаться совсем иным, чем он хочет, что события могут пойти вразрез с его планированием. А ведь после неожиданного для нас всех разгрома Франции летом 1940 года, после того, как на Западе освободилась основная часть германской армии, были все основания предполагать возможность резкого изменения хода событий. И в том, что Сталин не пожелал посчитаться с этими изменившимися обстоятельствами, сказалось, как мне кажется, разлагающее личность влияние неограниченной власти. Этот психологический комплекс был связан с постепенно сложившимся у него, особенно в тридцатые годы, ощущением отсутствия непреодолимых препятствий для выполнения всего задуманного и намеченного им. Он мнил себя способным планировать историю, не считаясь или недостаточно считаясь с теми грозными диссонансами, которые вносил в его субъективные планы сам объективный исторический процесс…
Заглядывая вперед, хочу добавить, что в ходе войны, после первых и страшных ее уроков, вся сила характера Сталина проявилась именно тогда, когда ему пришлось столкнуться с беспощадным противодействием противника и ломать это сопротивление, исходя из реальных возможностей борьбы, а не из предвзятых представлений о своем всесилии и всевластии.
Мне хочется высказать также и некоторые психологические догадки, связанные с переоценкой Сталиным значения советско-германского договора. Хочешь-не хочешь, а из многих действий Сталина перед самой войной складывается ощущение, что, при всем его неприятии фашизма, при всей его убежденности, что фашизм есть и остается нашим идеологическим врагом, с которым нам рано или поздно придется столкнуться на поле битвы, у Сталина в то время был некий субъективный момент. В Гитлере было нечто, вселявшее в Сталина уверенность, что после заключения пакта Гитлер не захочет терять лица, сочтет несовместимым со своим престижем нарушить торжественно данные им обязательства. Казалось бы, все прошлое Гитлера говорило об обратном, но я допускаю, что Сталин считал, что с ним, с исторической фигурой такого масштаба, Гитлер не посмеет решиться на то, на что он решался раньше с другими.








