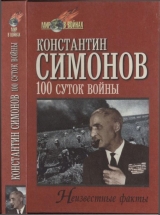
Текст книги "Сто суток войны"
Автор книги: Константин Симонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 37 страниц)
После того, как Балашов выяснил, что я не тороплюсь, оказалось, что и у него есть время, и он целых полтора часа рассказывал обо всем происходившем с их полком за два месяца войны.
На исходе второго часа на столе появилась бутылка виноградной водки, помидоры. Мы выпили по стопке и продолжали разговор, собираясь выпить по второй, как вдруг грохот разрывов, который до этого все время слышался вдали и к которому мы уже привыкли, стал приближаться и мины начали рваться совсем близко. Балашов подошел к окну, посмотрел, снова сел и налил водки. Мы выпили. Он продолжал рассказывать. Разрывы были совсем близко. Вошел кто-то из командиров и доложил, что немцы накрыли командный пункт, какие будут распоряжения?
– Да никаких, – сказал Балашов и продолжал рассказывать.
Командир стоял в дверях.
– Ну? – повернулся к нему Балашов.
– Может, в укрытие? – спросил командир.
– Идите, идите, – сказал ему Балашов и, обратившись ко мне, добавил: – Мы вот водку выпьем и тогда подумаем. Может, они к тому времени и перестанут.
Он рассказывал мне еще четыре часа, потом мы выпили еще по стопке. Он еще минут десять проговорил, а когда кончил, обстрел действительно прекратился.
– Ну вот и переждали, – сказал Балашов. – Как я говорил, так и есть.
Пока шел обстрел, он сидел очень спокойно, не подчеркивая своего спокойствия. Видимо, то, что происходило, было для него привычным и по его понятиям не составляло особенной опасности. У каждого человека на фронте есть в его представлениях какая-то особенная опасность, которой надо бояться. Но для разных людей она разная. Для меня этот близкий обстрел был особенной опасностью, а для Балашова нет. Для него особенной опасностью было ходить сегодня в атаку. И он этого не скрывал и говорил об этом именно как о пережитой им особенности. Что до меня, то хотя я боялся этого обстрела, но у меня не было желания прерывать разговор и выбегать куда-нибудь из избы. Не потому, что не хотелось показать своего страха перед Балашовым, а потому, что к этому времени у меня уже образовалось чувство, что чем меньше на войне суетиться и переходить с места на место, тем это правильнее. А вдобавок ко всему во мне еще жил остаток абсолютно гражданского ощущения относительной безопасности от присутствия крыши над головой.
Когда кончился обстрел, к Балашову являлись с докладом какие-то его подчиненные, а потом пришел и долго разговаривал с ним новый командир полка – бывший начальник разведки дивизии капитан Ковтун, немолодой, грузный, 75 немного неуклюжего вида, а на самом деле – умница и культурный человек.
Халип улегся на полу. Меня пристроили спать на какой-то похилившейся койке. Я задремал. Потом проснулся. Балашов подсел ко мне. И вдруг этот загрубевший и изматерившийся на войне человек неожиданно для меня заговорил о литературе. Он знал по встречам в Академии имени Ленина многих литераторов, встречался с ними и, помимо академии, помнил их стихи, интересовался их судьбой. Вдобавок ко всему оказалось, что он еще по финскому фронту хорошо знаком с Долматовским.
Мне уже доводилось встречать и командиров, и политработников, которые вдруг в разговоре с тобой спешили показать и свой интерес к литературе, и свои познания в ней. Иногда им хотелось блеснуть этим в разговоре с писателем, точно так же, как мне иногда хотелось блеснуть в разговоре с военными своими познаниями, полученными на курсах при Академии Фрунзе и Академии Ленина. Все это естественно. Но что касается Балашова, то в нем не было и тени этого. Просто он с такой же горячностью, с какой, очевидно, делал все в своей жизни, жадно интересовался литературой и литературными делами. Ему казалось срочно необходимым вот тут же, сейчас же, на этом хуторе под Одессой, узнать, что там с Долматовским, Вишневским, Уткиным, Вашенцевым и еще и еще с кем-то – уже не помню с кем.
Мы говорили с ним до поздней ночи, а потом я все-таки заснул, условившись, что с утра мы вместе поедем в минометную роту. Мне надо было сделать для «Звезды» статью о минометчиках, а Халипу – снять их.
Мы проснулись очень рано. Было серое, сырое, дождливое утро. Балашов сказал нам, что сейчас приготовят его танк и мы поедем на передний край – в минометную роту. Слово «танк» обрадовало нас с Халипом. Яше портило настроение то, что утро было такое серое. Он ныл, что в такое утро он, скорей всего, ничего путного не снимет, а если даже и снимет этих минометчиков на их огневой позиции, то получится обыкновенный скучный снимок и ни одна душа на божьем свете не узнает по такому снимку, снято ли это на переднем крае или где-нибудь в Сталинграде при тренировке запасных частей.
Впоследствии выяснилось, что он был прав. Снимок получился серый и скучный, и, по-моему, напечатали его в «Красной звезде» только потому, что он был сделан на переднем крае с риском для жизни.
Мы вышли на улицу вместе с Балашовым и у стены соседней хаты обнаружили то, что он гордо именовал своим танком. Это был маленький тягач «комсомолец» с двумя слегка бронированными местами для водителя и стрелка и с открытой линейкой сзади для всех прочих. Но Балашов без улыбки называл эту штуку танком, и мы сели на его «танк» и поехали к переднему краю.
Когда мы ехали к переднему краю, на правый фланг батальона, Балашов посадил нас с Халипом на правую сторону линейки – дальнюю от противника, а двух своих командиров – на левую сторону. Потом, когда мы ехали обратно, пересадил нас всех наоборот. Он, разумеется, знал, что мины могут разорваться с одинаковым успехом как слева, так и справа от нашего «комсомольца», но, очевидно, рассадил нас так ради большего спокойствия штатских людей, которым всегда в глубине души все-таки хочется быть на полметра подальше от неприятеля. Что касается самого Балашова, то он ехал на месте стрелка, но не сидя, а стоя, по грудь высунувшись из-за броневого прикрытия.
Мы пересекли длинное поле и свернули к посадкам. Там были нарыты щели, а кое-где и маленькие блиндажики с символическим покрытием в одну доску и на вершок земли сверху. Здесь, в посадках, мы познакомились с командиром батальона и, оставив наш «танк», пошли вперед уже пешком.
Полоса посадок поворачивала к позициям. Мы сначала шли вдоль них, а потом выбрались на совершенно открытое место. Впереди лежало боевое охранение, а сзади него, в ямках, стояли четыре легких миномета. Это и считалось минометной ротой.
Когда мы подошли, румыны дали несколько минометных залпов. Явно не по нам – один куда-то влево, другой вправо, но все-таки довольно близко.
Халип, посмотрев в абсолютно серое небо, довольно спокойно сказал, что из снимка все равно ничего хорошего не выйдет, но раз это непременно надо к моей корреспонденции – ну что ж, он будет снимать, недаром же, в конце концов, мы шли сюда. Он вынул под дождем свой аппарат и стал примериваться к минометчикам. Они в это время вели ответный огонь по немцам. То один, то другой миномет хлопал в нескольких шагах от нас с таким же точно глухим треском, с каким это происходило три месяца назад, в начале июня, под Москвой на полигоне в Кубинке, где я тогда обучался на курсах военных корреспондентов.
Румыны снова начали бить из минометов. Наше положение было довольно глупое. Минометчики сидели в окопах, и снимать их приходилось сверху, стоя на абсолютно открытом месте. Однако делать было нечего, и Яша, ворча, стал снимать, переходя с места на место.
Мне хотелось или лечь на землю, или забраться в окоп к минометчикам. Думаю, что в эти минуты такое желание было и у Балашова, несмотря на весь его боевой опыт. Но сделать это, оставив на поверхности одного занятого своей работой Халипа, ни Балашов, ни я не могли. В ответ на ворчание Яши, что при такой погоде вообще не известно, какая нужна выдержка, я довольно нервно – потому что мне было не по себе – сказал ему, чтобы он снимал на тик-так.
Но после этого откровенного признания Яша продолжал отвратительно долго и тщательно, с разных позиций, снимать минометчиков, несмотря на свои дрожащие руки.
– Молодец, – сказал мне Балашов, слышавший этот разговор.
Я сначала подумал, что он иронизирует, но оказалось, что это не так.
– Молодец, – повторил он. – Вот ведь как боится, а все-таки снимает. Так и все мы. В этом все дело на войне. А больше ничего особенного на войне и нет.
Наконец Халип сфотографировал все, что требовалось, и мы вернулись к посадкам. Едва мы дошли до них, как румыны стали кругом гвоздить из минометов. Поневоле настоявшись под огнем там, у минометчиков, во время фотографирования, здесь я немедленно лег на землю при первом же близком разрыве. Халип последовал моему примеру. Балашов не ложился. Только когда мина свистела близко, приседал, готовый тоже лечь, если это будет необходимо.
Учитывая свой последующий опыт, имею основания думать, что, будь у меня этот опыт тогда, я бы тоже не ложился. Нам казалось, что вот-вот мины разорвутся рядом, а на самом деле они рвались довольно далеко от нас и ложиться, в сущности, не было нужды. Балашов не ложился потому, что у него был опыт, а не потому, что он бравировал перед нами.
Командир минометной роты вернулся вместе с нами на командный пункт батальона. В окопе я записал несколько его соображений об использовании минометов. Он говорил о необходимости сдваивать их и быстро перевозить с места на место на закрепленном за каждым минометным взводом грузовике и утверждал, что именно так и делают немцы, поэтому и создается впечатление о их преимуществе в минометах даже тогда, когда у них нет реального превосходства. Потом, вернувшись из Одессы, я изложил это в маленькой статье, напечатанной в «Красной звезде» без моей подписи.
Пока мы разговаривали с командиром роты, румыны продолжали минометный обстрел. Клали мины аккуратно, в шахматном порядке, но все они, пройдя над нашими головами, ложились за посадками, в поле, на пустом месте.
Закончив свои дела и переждав обстрел, мы снова сели на «танк» Балашова и вернулись с ним на командный пункт полка. Там мы простились с Ковтуном и Балашовым. К тому времени, когда мы встретились с Балашовым, он был уже три раза легко ранен. Положение под Одессой было тяжелое, и, честно говоря, я не думал, что еще когда-нибудь встречу его живым и здоровым.76 Однако вышло по-другому, и я снова встретил его в декабре за тысячу километров от Одессы, под Богородицком, в штабе 10-й армии в дни нашего наступления под Москвой.
Мы пешком добрались от Красного Переселенца до посадок, в которых стояла наша машина. Шофер был жив и здоров, а машина в полном порядке, хотя кругом, в посадках, и в этот день и накануне немецким артиллерийским огнем убило и ранило много людей и лошадей и изуродовало несколько машин.
Мы поехали обратно в Дальник в надежде хотя бы на обратном пути застать генерала Петрова.
Мы сидели в Дальнике около маленькой белой мазанки и ждали Петрова. Он все еще не возвращался, был где-то на передовой, а мы сидели и ждали его, сокрушая один за другим мелкие недозрелые арбузы.
Потом я зашел ненадолго в особый отдел дивизии, а когда вернулся, взволнованный Халип сказал мне, что только что передали по радио: наши и английские войска перешли иранскую границу и вступили в Иран. Не успел он мне это сказать, как началась бомбежка. Мы вместе с несколькими штабниками спустились по крутой каменной лестнице в какой-то прохладный и глубокий подвал, очевидно, служивший раньше винным погребом.
На улице к этому времени погода уже разгулялась и стояла жара, а в подвале было так хорошо и прохладно, что оттуда не хотелось выходить даже после того, как немцы отбомбились. Сидя там, в подвале, Яша предложил мне немедленно возвратиться в Севастополь, оттуда – морем в Батум – и таким образом первыми из всех военных корреспондентов оказаться в Иране.
Идея мне понравилась, но было еще неясно, происходят ли в Иране военные действия, или, может быть, все это сводится к мирной оккупации. А если так, то отъезд туда с фронта мог оказаться, мягко говоря, неправильным. Я предложил добраться до Севастополя и оттуда соединиться с редакцией – как она решит.
Мы вылезли из подвала и еще с полчаса прождали Петрова. Наконец он приехал. Одна рука у него после ранения плохо действовала и была в перчатке. В другой он держал хлыстик. На нем была солдатская бумажная летняя гимнастерка, с неаккуратно пришитыми, прямо на ворот, зелеными полевыми генеральскими звездочками, и замызганная зеленая фуражка. Это был высокий рыжеватый человек с умным усталым лицом и резкими, быстрыми движениями.
Он выслушал нас, постукивая хлыстиком по сапогу.
– Не могу говорить с вами.
– Почему, товарищ генерал?
– Не могу. Должен для пользы дела поспать.
– А через сколько же вы сможете с нами поговорить?
– Через сорок минут.
Такое начало не обещало ничего хорошего, и мы приготовились сидеть и ждать по крайней мере три часа, пока генерал выспится.
Петров ушел в свою мазанку, а мы стали ждать. Ровно через сорок минут нас позвал адъютант Петрова. Петров уже сидел за столом одетый, видимо, готовый куда-то ехать. Там же с ним за столом сидел бригадный комиссар, которого Петров представил нам как комиссара дивизии. В самом же начале разговора Петров сказал, что он может уделить нам двадцать минут, так как потом должен ехать в полк. Я объяснил ему, что меня интересует история организации Первой Одесской кавалерийской дивизии ветеранов и бои, в которых он с ней участвовал.
Петров быстро, четко, почти не упоминая о себе, но в пределах отведенного времени, давая краткие характеристики своих подчиненных, рассказал нам все, что считал нужным, об этой организованной им дивизии, потом встал и спросил, есть ли вопросы. Мы сказали, что нет. Он пожал нам руки и сказал комиссару, назвав его по имени и отечеству:
– Надеюсь, с товарищами все будет в порядке.
С этими словами он уехал.
Он был четок, немногословен, корректен, умен. Мне показалось тогда по первому впечатлению, что это, наверно, хороший генерал.77 Так оно впоследствии и оказалось. И во время командования 25-й дивизией, и потом, когда Петров командовал обороной Одессы, и теперь, когда он командует обороной Севастополя.
Что касается того «порядка», о котором Петров сказал комиссару дивизии, прощаясь с нами, то выяснилось, что имелся в виду обед. Во время этого обеда за нас взялся бригадный комиссар. По каким-то почти неуловимым признакам во время краткого обмена репликами между ним и генералом я почувствовал, что Петров относится к нему неуважительно, а может быть, даже неприязненно. Во всяком случае между ними был холодок.
Из дальнейшего разговора с комиссаром дивизии мне стала понятна причина этого холодка. Наш собеседник за обедом долго рассказывал о себе, хотя мы его отнюдь не расспрашивали. Рассказывал самодовольно и со многими, никому не нужными подробностями. Насколько я понял, он до своего недавнего назначения сюда сидел на тыловой работе. Может быть, это было и не так, но все его рассказы о боевых делах почему-то сводились к тому, как он принимал пополнение. Он рассказывал нам о своей системе приема пополнения. Что он говорит пополнению, как он это говорит, при каких обстоятельствах, какую при этом стремится создать обстановку, какие проникновенные слова находит и как это неотразимо действует.
По его словам выходило, что пополнение, принятое им лично, могло сразу же идти в бой и с успехом выполнять все поставленные задачи, независимо от предварительной выучки.
Я, может быть, несколько утрирую, вспоминая сейчас об этом, но по сути дела разговор был именно таким. Я ничего не прибавил к нему. Я никогда больше не видал этого человека, но после этого единственного свидания расстался с ним в убеждении, что он болтун, а возможно, и трус. Я не запомнил и не записал его фамилии, хотя ему совершенно явно хотелось, чтобы я написал в «Красную звезду» статью о том, как он великолепно принимает пополнение.
В Одессу мы вернулись вечером. Я пошел на узел связи узнать, какие есть возможности для передачи материалов в Москву. У меня было твердое ощущение – и впоследствии выяснилось, что я не ошибся, – что большинство читателей газеты после известий о сдаче Кировограда и Первомайска думало, что Одесса тоже сдана, в сводках она не фигурировала, ни в одной корреспонденции не упоминалась. И это толкало меня на то, чтобы любыми средствами немедленно отправить материал об Одессе в Москву.
На узле связи мне, к сожалению, подтвердили то, о чем предварительно говорил нам еще бригадный комиссар Кузнецов, а именно – что передавать из Одессы материал можно только по радио и только шифром, не свыше тридцати групп, то есть не больше самой короткой заметки.
Это никак не устраивало меня. Оставалась другая возможность – отправлять материалы с попутным кораблем до Севастополя с тем, чтобы кто-то брал его в Севастополе, вез на машине в Симферополь и оттуда отправлял с попутным самолетом в Москву, а там его с аэродрома доставляли бы в редакцию. Теоретически это было возможно, но практически я знал, что ни одна корреспонденция таким сложным способом своевременно не дойдет. Тем более что ни в Севастополе, ни в Симферополе не было ни одного корреспондента «Красной звезды». Оставался один выход: если мы хотим быстро передать в Москву материалы – значит, мы сами должны отправить их из Симферополя.
Это было вторым соображением после мысли об Иране, которое окончательно толкнуло меня на то, чтобы, собрав первые материалы, выехать из Одессы в Крым, с тем чтобы потом вновь вернуться в нее.
С этим решением мы пошли к Кузнецову, а когда его не оказалось – к начальнику политотдела армии Бочарову.
Когда я объяснил ему, что нам придется поехать в Крым, чтобы передать оттуда материалы, а кроме того, согласовать по телефону с редакцией вопрос об Иране, он сразу поглядел на нас с заметной неприязнью. Я понял, что он считает нас людьми, испугавшимися тяжелого положения в Одессе и решившими «отдать концы».
Спорить было бесполезно, тем более что Бочаров прямо этого не сказал, а только стал говорить об Иране, что едва ли там будет что-нибудь интересное, и отдаленно намекать, что наш отъезд туда из Одессы будет некрасиво выглядеть 78.
Я сказал, что мы подумаем, но, независимо от Ирана, нам все равно нужно будет ехать с материалами в Севастополь, а потом мы непременно вернемся в Одессу. Он сказал, что мы совершенно свободно можем пересылать отсюда свои материалы кораблями. Наверно, он искренне считал так.
Я был убежден в обратном.
В итоге мы условились, что займемся еще некоторыми делами в Одессе, а через сутки зайдем к нему со своим решением.
Я вышел от него злым. Видимо, это был толковый и стоящий человек, но меня разозлило, что он подозревает нас в трусости и явно недоволен тем, что мы – корреспонденты – не спрашиваем его согласия, а только советуемся с ним.
Полчаса спустя я встретил одного из моряков, который сказал, что по части отправки в Севастополь следует обратиться к члену Военного Совета обороны Одессы – бригадному комиссару Азарову. Я спросил, давно ли он здесь. Оказалось, всего три дня. И я понял, что это, наверно, тот Азаров, с которым мы виделись недавно в штабе Черноморского флота.
Перед тем как идти к Азарову, мы наскоро поужинали в штабной столовой в подвале. За ужином вместе с нами за одним большим столом оказалось несколько молодых ребят. Некоторые из них были в гимнастерках без знаков различия, другие в форме НКВД. Ребята, вытащив из-под стола бутыль с вином, стали радушно угощать нас.
Возможно, это были хорошие парни, участвовавшие в смелых операциях, но здесь, подвыпив и познакомившись с нами, они наскоро стали выдавать мне и Яше, несмотря на полное наше нежелание, различные государственные тайны: что они оттуда-то и оттуда-то, что они на секретной работе и делают то-то и то-то, чтобы мы к ним заходили, и они расскажут нам то, чего еще никто не знает. Через полчаса, переполненные государственными тайнами, мы насилу расстались с ними и отправились к Азарову.
Азаров оказался именно тем самым бригадным комиссаром, с которым я встречался в Севастополе. Он только что прибыл сюда, в Одессу, но, как потом рассказывали мне люди, оказался, вместе с Петровым, душой Одесской обороны. Мягкий, вежливый и, видимо, где-то внутри твердый человек.
Он выслушал наши севастопольские и иранские планы и, сказав, что послезавтра, наверно, что-нибудь пойдет, написал нам записку контр-адмиралу, начальнику Одесской военно-морской базы. Потом он начал рассказывать нам о том, что успел увидеть в Одессе – как перевели население на военное снабжение, как все, что осталось в неэвакуированных цехах, работает теперь на оборону, делая минометы и ремонтируя и переоборудуя подбитые танки. Он советовал нам съездить в Январские мастерские, а в заключение сказал, что завтра утром будет встречать теплоход «Грузия», который доставит сюда два батальона моряков.
Ночь мы провели все в той же классной комнате. По-прежнему из-за лиманов изредка била дальнобойная немецкая артиллерия и где-то далеко ухали разрывы.
Утром, когда мы подъехали к причалам, «Грузия» уже подошла и разгружалась. Борт теплохода был черен от морских бушлатов.79 Моряки с гранатами у пояса, с полуавтоматическими винтовками через плечо, с пулеметами, дисками, иногда – с пулеметными лентами, в бушлатах и в касках молча спускались по трапам. Кое-где среди этого вооружения вдруг бросалась в глаза сунутая под мышку гитара или повешенный на плечо баян.
Халип закричал и начал кому-то махать пилоткой. Среди людей, находившихся там на борту, оказались кинооператоры Коган и Трояновский.
Моряки построились на причалах и двинулись в город. Это зрелище идущих через город моряков напоминало мне гражданскую войну – такую, какой она была по моим представлениям.
Из разговора на причалах я понял, что положение настолько тяжелое, что моряков через два или три часа уже бросят на фронт. И сейчас главной заботой было как можно быстрей переобмундировать их. Хотя их черные бушлаты производили заметное моральное впечатление на противника, но в смысле демаскировки они были, конечно, безумием.
Мы поднялись в город. В одно из зданий уже втягивалась рота моряков. Там, внутри, ее должны были переобмундировать. Другие моряки в ожидании толпились на улице. Из домов выбегали женщины, были и слезы и поцелуи. Какой-то морячок отпрашивался у командира сбегать домой, говоря, что он живет на соседней улице. Но тем временем уже действовала одесская почта, и пока он отпросился, его мать уже прибежала сюда и целовала его посреди улицы. Все это было очень трогательно. Моряки, как это всегда бывает с мужчинами, когда они собираются толпой и когда у них есть свободная минута, возились с детьми, цацкались с ними, поднимали их на руки. Играла гармошка, и кто-то плясал «Яблочко», и все, став в круг, подпевали. И над всем этим было чувство, что через два часа эти моряки, только что сошедшие с теплохода, уйдут в бой.
Они приехали спасать Одессу – это было написано на их лицах. Они хотели быть героями, и женщины верили в то, что они будут героями, и от этого на улице было такое нервное, скоротечное, щемящее душу веселье.
Мы подвезли Трояновского и Когана в штаб и устроили в своей комнате, а сами поехали в Январские мастерские, где ремонтировались танки.
Основное оборудование, как и на других одесских предприятиях, здесь было эвакуировано, но довольно много рабочих осталось. В большинстве это были старики, коренные одесситы, не желавшие до конца расставаться со своей Одессой. В цехах оставалось кое-какое оборудование – старые горны, самые маленькие из паровых молотов, старые станки в механических цехах.
Мы обошли цеха вместе с начальником производства. Рабочей силы не хватало, и танки чинили все вместе – и рабочие, и танковые экипажи, два-три дня назад вышедшие из боя. Танки, в основном, были БТ-5 и БТ-7. У них, как обнаружилось на этой войне, была слишком легко пробиваемая броня, и в мастерских решили: раз чинить, так чинить – и наклепывали на башни танков дополнительные листы брони. Это несколько утяжеляло танки, не соответствовало техническим расчетам, но в бою, как говорили, оправдывало себя.
Цеха были старые, прокопченные и напоминали мне цеха заводов «Универсаль» и «Двигатель революции» в Саратове, где я когда-то проходил практику, мальчишкой. Люди в цехах работали по несколько суток подряд, не выходя. Рабочее время определялось не количеством часов и не числом бессонных ночей, а единственно тем, когда будет готов танк: «Вот как кончим, так и пойду спать».
Мы познакомились с тремя братьями-стариками. Они работали в мастерских с 1899 года.80 Было им троим за шестьдесят. Все они были крепко сколоченные, угрюмые люди, с сильными руками, изборожденными морщинами и трещинами. Халип снял их втроем.
Не обошлось без глупостей. К нам привязался военный уполномоченный; пристал, что БТ-5 снимать можно, а танк Т-26 нельзя. Этот старый танк представлялся ему чуть ли не секретной машиной последней конструкции. Напрасно я пытался ему объяснить, что этому танку уже много лет, что множество таких разбитых танков Т-26 осталось на территории, занятой немцами. Ничего не действовало, и он мешал Халипу снимать. Разозлившись, я поговорил с ним на басах, и оказалось, что это нужно было сделать с самого начала. Он сразу стал обходителен и, очевидно, решив, что я откуда-нибудь из особого отдела, завел меня в заводскую контору и стал мне плести какую-то длинную кляузу насчет начальника цеха и еще кого-то, что кто-то там соответствует, а кто-то не соответствует, и так далее и тому подобное. Чувствовалось, что этот маленький нудный человек даже сейчас, здесь, на заводе, где люди не спали ночей и работали как дай бог всем, все-таки ухитрялся держать в памяти какие-то старые препирательства и клеветы мирного времени. Я отвязался от него, и мы уехали.
С завода мы решили заехать в госпиталь, где, как нам говорили, лежал татарин-подполковник, командир балашовского полка.81 Оставив машину у госпитального двора, мы вошли внутрь. Въезд во двор преграждали большие ворота. В них было прорезано окошечко, через которое выдавали пропуска. Перед воротами толпилось много народу. В Одессе одни части формировались, а другие пополнялись за счет местного населения, и родственники узнавали о том, что ранен муж или брат, обычно в тот же день, когда это происходило, или в крайнем случае на следующий день. Фронт был так близко, что раненых привозили в Одессу через час-два после ранения. Словом, все было так наглядно, как нигде.
Шли жестокие бои. Во двор один за другим въезжали грузовики; их сгружали и тут же нагружали ранеными, которых надо было эвакуировать дальше морем. В ожидании погрузки на госпитальном дворе в скверике лежали носилки с ранеными.
Мы долго искали подполковника по разным палатам. Всюду было битком набито. Сестры и санитары сбивались с ног. Все койки до одной были заняты, и между ними на полу лежали тюфяки или носилки. Каждый метр в госпитале был накрыт чем-то белым, на чем стонали, а иногда кричали.
Подполковника так и не нашли. Его уже эвакуировали.
Из госпиталя мы заехали к себе. Выяснилось, что вечером должен уходить в Севастополь эсминец, и я пошел на морскую базу с запиской Азарова, а Яша тем временем взял нашу полуторку и поехал на станцию Раздельная снять построенный одесскими рабочими бронепоезд.
На базе меня встретил контр-адмирал, высокий, бородатый, в морских брюках, заправленных в сапоги.82 Он написал резолюцию на записке Азарова. И в ту же минуту все кругом зазвонило и загудело. Началась очередная воздушная тревога, которую здесь с одесским юмором успели прозвать «УБ» – «Уже бомбили».
Я вышел от адмирала и пошел обратно в штаб пешком. Надо было идти километра четыре. Была тревога, трамваи не ходили. Я шел пешком через солнечный, раскаленный за день жарой южный город. На улицах, через которые я проходил, было мало следов бомбежки, и если бы не безлюдье и не погромыхивающие выстрелы зениток, могло бы показаться, что никакой войны в Одессе нет.
Добрался незадолго до того, как уже надо было отправляться на эсминец. Бочарова не было на месте, и я оставил ему в политотделе записку, что мы уезжаем в Севастополь, чтобы передать оттуда первые материалы, и, очевидно, через несколько дней снова вернемся в Одессу.
Халил вернулся из Раздельной в последнюю минуту, и мы поехали в порт.
Последнее воспоминание об Одессе. По трапу эсминца ведут под руки двух людей с мешками на головах. Как потом оказалось, это были наши старые знакомые – румынский майор и румынский капитан, которых мы видели в лагере военнопленных и которых теперь отправляли на Большую землю.
Эсминец отшвартовался уже в темноте,83 и через несколько минут Одесса скрылась из виду.
Ночью мы сидели в кают-компании. Моряки расспрашивали о Западном фронте. Я начал рассказывать и вдруг почувствовал огромную усталость. Еще продолжал говорить, а потом вдруг ничего не помню. Проснулся, сидя за столом. Кругом никого, а за иллюминаторами уже светло.
В одиннадцать часов дня без всяких приключений мы оказались в Севастополе. Надо было связываться с Москвой. Я решил, что, поскольку транспортные самолеты все равно идут из Симферополя, есть смысл ехать прямо туда и звонить в Москву оттуда.
Мы быстро нашли Демьянова, сели в машину и, не заходя в штаб, махнули в Симферополь. Во второй половине дня мы были уже там и, по газетной традиции, заехали первым делом на несколько минут в редакцию «Красного Крыма». Заведующий военным отделом газеты Муцит – милый и расторопный парень – обещал, что если никакое начальство не поможет мне связаться с «Красной звездой», то он попробует устроить это сам.
Из редакции мы пошли в штаб недавно сформированной в Крыму на правах фронта 51-й особой армии.
В коридорах штаба меня поразило обилие генералов. Мимо нас прошел по коридору высокий генерал-полковник, которого мы почему-то приняли за Апанасенко, оказалось, что это был командующий армией Кузнецов.
В Военном Совете армии мы познакомились с его секретарем Василием Васильевичем Рощиным – большим умницей; я потом не раз имел случай убедиться в этом. Это был спокойный, деловой, точный, иронический человек, всегда немножко грустноватый от сознания, что слишком многое делается не так,84 как это нужно.
Рощин представил нас члену Военного Совета армии, бригадному комиссару Малышеву. Если не ошибаюсь, это был один из только что посланных в армию работников ЦК. Мы спросили Малышева об обстановке, которая складывалась вокруг Крыма. Мы уже слышали, что немцы в эти дни упорно пытались форсировать Днепр у Каховки.85 Малышев подтвердил нам это и обещал помочь связаться по-телефону с редакцией. Но через час оказалось, что по армейской линии это не выходит, телефонной связи нет.








