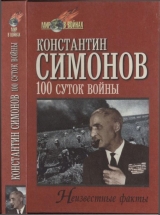
Текст книги "Сто суток войны"
Автор книги: Константин Симонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 37 страниц)
– А не ранило ли? – спросил он.
Я потрогал ногу – она не болела. Стал смотреть, где же другая дырка в штанах? Раз пуля вошла, она должна была и выйти. Но другой дырки не было.
Наконец пулеметы замолчали. Мы снова поднялись и пошли, что-то мешало в сапоге.
– Мешает ступать, – сказал я. – Может, пуля провалилась?
– Вполне возможно, – сказал Николаев. – Вот дойдем до лагеря, переобуешься и посмотришь.
И в эту секунду – мы даже не услышали ни гула, ни свиста, это было скорей ощущение не звука даже, а самой силы удара – что-то рванулось рядом. Мы упали на землю. До сих пор не понимаю, как никого из нас не задело, просто повезло. Мина разорвалась на совершенно голом месте в каких-нибудь десяти метрах от нас. И едва она разорвалась, едва мы упали, как Николаев вскочил и крикнул:
– Скорей перебегайте, пока дым!
Мы перебежали метров сорок и легли. И сразу разорвалась следующая мина. На этот раз – подальше.
– Левей, – сказал Николаев, – левей, к воде.
Мы добежали до самой воды и пошли по берегу.
– Теперь что слева, то не страшно, – сказал Николаев, – В воду попадет – не убьет.
И, словно торопясь подтвердить его слова, слева от нас, вздымая водяные столбы, у самого берега разорвалось еще две мины. Мы присели, а Николаев даже не пригнулся.
– Это ж в воду, что вы пляшете? – сказал он.
Немцы провожали нас минометным огнем еще пятьсот метров. Разорвалось еще с десяток мин, но уже гораздо дальше от нас, чем первые две.
Наконец мы дошли до пионерлагеря. Не забуду чувства, с которым я зашел за первый дом. Из-за него не было видно Геническа. А значит, из Геническа не было видно меня. Я и сейчас помню это чувство. Дом был жиденький, мины с одинаковым успехом могли разорваться и перед ним, и за ним, но чувство, что ты уже находишься не на голой земле, что тебя не видно сейчас, после всего пережитого, давало ощущение почти полного спокойствия и отдыха. Мне казалось, что я еще никогда не чувствовал себя в такой безопасности, как сейчас, стоя за этой хибаркой.
– Ну что же, где же машина? – спросил Николаев.
Стоявший у хибарки боец сказал:
– Товарищ водитель, которая там была, велела передать вам, если приедете, что она сейчас будет. Она ящики с минами поехала отвезти вон туда, налево за бугор.
– Ну вот, теперь, значит, будем сидеть ждать ее, – сказал Николаев сердитым голосом, но по глазам его было видно, что он очень доволен тем, что «товарищ водитель» повезла мины за бугор, и готов ее подождать.
Мы ждали минут пятнадцать. Напились воды из колодца. Я переобулся. Действительно, пуля ударилась о магазин и, разворотив его, проскочила в широкий сапог. Она и мешала мне идти.
– Сохрани, – сказал Николаев. – Это удача. Эту пулю либо жене, либо мамаше, либо еще кому надо подарить.
Через четверть часа подъехала полуторка, и одновременно с ней пришел оттуда же, откуда и мы, уполномоченный особого отдела полка, рослый, красивый парень с серыми глазами. Как я потом узнал, разговорившись с ним в следующую поездку сюда, он проделал финскую кампанию шофером и только после нее перешел в особисты. Он доложил Николаеву, что комиссар полка тяжело ранен и что он думает вынести его оттуда.
– Когда думаете выносить? – спросил Николаев.
– Сейчас, – сказал уполномоченный. – Ничего, возьму с собой кого-нибудь еще и вдвоем вынесем. А то погибнет. Там врача нет.
– Хорошо, делайте, – сказал Николаев. Он ласково посмотрел на этого рослого парня, который только что сделал ту же самую дорогу, что и мы, сейчас снова проделает ее обратно, а потом будет делать ее в третий раз, вынося раненого.
– Делайте, – повторил Николаев. – Правильно.
Уполномоченный повернулся и пошел обратно. Как я потом узнал, им повезло: они благополучно вытащили комиссара полка.
Мы сели в полуторку и поехали. Когда мы проезжали обратно мимо морской батареи, туда уже прибыла рота прикрытия. И вообще как будто на Стрелке начинали наводить порядок. По дороге мы встретили начальника штаба батальона, старшего лейтенанта; он двигался вперед на новый командный пункт. На его старом командном пункте, когда мы туда добрались, мы нашли помощника командира дивизии, полковника Ульянова (он потом утонул, когда мы высаживали десант в Керчи). Тут же был и Келадзе. Увидев Николаева, он засуетился и стал поспешно объяснять, что не выехал с нашей машиной, потому что в это время побежал к телефону, а потом, когда он поговорил по телефону, наша машина уже отъехала, он нам кричал и махал руками, но мы не остановились.
Николаев выслушал его, закинул за спину руки, как мне показалось, чтобы удержаться и не ударить, и сказал Келадзе, не повышая голоса:
– Вы трус и мерзавец. Вы больше не командир полка. Я вас снимаю и отдаю под суд. Вы временно будете командиром полка, – обратился Николаев к Ульянову. – Позаботьтесь, чтоб его, – он кивнул на Келадзе, – доставили в Симферополь.
Келадзе побагровел и задрожал в буквальном смысле этого слова. Он трясся, как лист, и, заикаясь, говорил какие-то жалкие слова о том, что он виноват, но он не трус, что он готов, что он…
Николаев молча слушал его. Я стоял сзади и видел, с какой силой он сжимал сцепленные за спиной пальцы.
– Вы трус и мерзавец, – еще раз повторил он раздельно. – Я вас буду судить.
И в том, как он медленно, во второй раз повторил ту же самую фразу, чувствовалось, с каким трудом он сдерживает себя.
Сидя у стога сена с Ульяновым, Николаев тихо отдавал ему какие-то распоряжения, а я прилег поодаль на траву. Начинало вечереть. Мне вспомнились разные дни, проведенные на войне. За исключением самых первых, этот, пожалуй, был печальнее всех. Вся сумма впечатлений от той мертвой вырезанной роты, брошенного оружия, от генерала Савинова, которого я остро возненавидел, от необстрелянности людей, от общего непорядка, существовавшего к нашему приезду здесь, на Стрелке, и даже от того, что Николаев, в человеческое поведение которого я просто влюбился, все-таки, по моему смутному ощущению, делал что-то не то, что нужно было ему делать как члену Военного Совета,100— все это вместе взятое поразило меня, и у меня впервые мелькнула горькая мысль: неужели все-таки немцы возьмут Крым? И я не нашел тогда в себе твердого ответа: нет, не возьмут.
Мы сели в машину и уже в вечерней дымке добрались до лодки. Здесь мы простились с Пашей Анощенко. Она своим неторопливым говорком произносила какие-то ласковые слова, жалела, что ранен комиссар полка, и просила, если мы опять приедем, чтобы непременно ездили с нею. Потом мы сели в лодку, и моторка взяла ее на буксир. Оба доставлявших нас генических рыбака сидели на моторке, а на лодке остались мы втроем – Николаев, Мелехов и я. Николаев был без плаща и без шинели и ни за что не соглашался взять ни то и ни другое ни у меня, ни у Мелехова.
В Сиваше мелкой рябью колыхалась вода. Моторка шла медленно.
– Сам я виноват, – вдруг тихо и угрюмо сказал Николаев. – Сам виноват. Все позиции объездил, все до одной проверил, как укрепили, а вот на Арабатскую не поехал, на Савинова понадеялся. «Все в порядке». Сам виноват, сам виноват, – повторял он.
И по упрямому выражению его лица я понял, что он еще поедет на эту Арабатскую стрелку, что он внутренне взял на себя ответственность за эту мертвую роту, что он себе этого не простит и не успокоится, пока не облазит тут все, не проверит своими глазами каждый окоп.
На том берегу Чонгара нас ждала машина, и мы, сняв с фар маскировочные сетки, на максимальной скорости поехали в Симферополь.
Когда мы подъехали в Симферополе к зданию, Николаев прямо пошел к командующему, а Мелехов повел меня в комнату, где остановились адъютанты.
Вскоре туда пришел Василий Васильевич Рощин, и мы с Мелеховым, перебивая друг друга, стали рассказывать ему все происшедшее. Он сидел, смотрел на нас своими умными грустными глазами. Кажется, его мало волновали наши переживания. Но то, что стояло за всем этим, то, о чем я не говорил вслух, но о чем думал и тревожился, рассказывая о всех сегодняшних безобразиях на Арабатской стрелке, видимо, глубоко расстраивало его. Наверно, он тоже думал об этом. Он грустно кивал головой, потом молча взял меня за руку, повел к себе и уложил спать на диване. Я заснул мгновенно, как в яму провалился.
На следующий день в Симферополе происходили похороны Героя Советского Союза Трубаченко. Я помнил его еще по Халхин-Голу. Он погиб во время воздушного боя, и хоронили его торжественно, с оркестром, знаменами и речами.
Почему-то, когда сейчас я думаю о том, что в Симферополе немцы, перед моими глазами возникает то утро похорон и заботливо украшенная, засыпанная цветами могила Трубаченко. Мысли о разоренной могиле почему-то рождают у меня даже более горькое чувство, чем мысль о разоренном городе.
Вернувшись с похорон, я засел на весь день в нашей пустой квартире, записывал и приводил в порядок всякие свои соображения по поводу виденного вчера.
Халип застрял в Севастополе – снимал там моряков и летчиков. Покончив со своими записями, я на следующий день собрался ехать за ним.
В это время в Симферополь явился еще один назначенный нам в помощь корреспондент. Он привез записку от Ортенберга, адресованную мне, с приказанием чередоваться в Крыму и Одессе.
Этот человек сразу произвел на меня тяжелое впечатление. Во-первых, он был очень похож на Ежова, и это одно уже было неприятно; во-вторых, войдя к нам, он сразу зыркнул по сторонам, увидел три бутылки вина на подоконнике, и я понял, что он записывает это обстоятельство в свой духовный блокнот. Затем ему не понравилось, что у нас целая квартира – он и это занес в свой духовный блокнот: «Ага, запишем, зажились в Симферополе». После этого произошел разговор об Одессе. Я собирался еще раз поехать на Арабатскую стрелку и побыть немного в Крыму и поэтому предложил ему, поскольку нам нужно чередоваться, поехать в Одессу сейчас, а я его сменю там через десять-двенадцать дней. Он ни за что не хотел ехать один, без Халипа. Я сказал, что Халип только три дня назад вернулся из Одессы, привез все, что нужно для редакции, и пусть теперь снимает оборону Крыма. Тогда начались намеки, что вот мы хотим послать его одного, что мы боимся ехать в Одессу и т. д. и т. п. Мне все это надоело, я посадил этого товарища вместе с собой в машину и сказал ему, что раз есть приказание редактора меняться, а он только что приехал на фронт – пусть или едет в Одессу, или сам доложит редактору, что отказывается это сделать. В конце концов я привез его в Севастополь и устроил ему место на пароходе. И тут состоялось целое представление. Сначала выяснилось, что у него не то катар желудка, не то язва, не то еще что-то, – он все время хватался за живот, потом у него случился сердечный припадок, и он лежал с мокрым полотенцем на груди. Мне надоело слушать его стенания. Сказав, что все для его поездки устроено, а дальнейшее на его усмотрение, я поехал обратно в Симферополь. Как потом выяснилось, он еще дня три поволынил в Севастополе, но, видя, что никуда не денешься, все-таки поехал в Одессу.
Это был мой последний приезд в Севастополь, и он мне очень запомнился. Я ходил к севастопольскому Орлу в последний раз купаться, бродил по Графской набережной, смотрел на воду и на корабли.
Художественный руководитель театра Лифшиц снова развивал мне свои идеи о синтетическом театре, а я опять отмалчивался. Все это было так ни к чему!
В Симферополь мы вернулись среди ночи. Я на всякий случай заехал в штаб к Николаеву. Оказалось, что он завтра же утром поедет на передовые – сначала на Сиваши, а потом еще раз на Арабатскую стрелку.
Утром Халип поехал на нашей машине, кажется, куда-то к летчикам, а я с Николаевым поехал на Сиваши. Ехал и думал, как мне быть дальше. С одной стороны, я много увидел и, наверное, еще многое увижу здесь, а с другой стороны, было совершенно не понятно, как все это печатать в газете. То ли писать без обозначения места действий, без пейзажа, без моря, то ли гримировать все под Одессу, то ли уже будет можно писать о боях на подступах к Крыму. Все это надо было выяснить, и я сначала подумал, а потом и сказал об этом Николаеву, что после нашей нынешней поездки или после следующей я на два-три дня слетаю в Москву, чтобы отвезти материалы и выяснить, как же писать дальше – что можно и что нельзя.
Весь этот день мы провели на Сивашах, которые были порядочно укреплены. Здесь все было заминировано – и земля, и отмели; проволочные заграждения шли не только по суше, но и были протянуты через мелководные лиманы. На возвышенностях стояли бетонные точки, железные колпаки, и все это соединялось довольно разветвленной системой окопов и ходов сообщения.
Немцы уже начинали активно действовать в воздухе над Крымом, и за день мы попали под две бомбежки. Но на земле все еще было тихо. На том берегу показывались мелкие группы немцев – пехота, мотоциклисты. Наша артиллерия открывала по ним огонь. Небольшие группы наших разведчиков, засланные на тот берег, вели там мелкие стычки с немцами. Было очень хорошо простым глазом видно, как наша артиллерия накрыла огнем взвод немцев, пробиравшихся вдоль отмели, как они падали, бежали, опять падали.
В общем, было предгрозье, тихий день, ничем особенно не примечательный. Халип дал мне один из своих фотоаппаратов, и я кое-что снял. Потом эти фотографии появились в «Красной звезде».
Николаев досконально обследовал позиции, ходил по окопам, спрашивал обо всем, начиная от стирки белья и кончая куревом, вникал в разные подробности быта, пробовал еду из котелков. И потому что он был человек простой и умный, все это не выглядело у него показной заботой большого начальства, а было самым настоящим необходимым и естественным делом.
Сиваши обороняла хорошая дивизия, в основном кадровая, командовал ею полковник Первушин. Впоследствии во время отступления дивизия дралась лучше всех и была выведена из Крыма в порядке после очень тяжелых боев. Первушину дали за это генерала, и он командовал потом 44-й армией. Я был у него в армии во время нашего десанта в Феодосии, но его самого не видел. Насколько я знаю, он был тяжело ранен не то 15-го, не то 16-го января там же, в Феодосии, а член Военного Совета армии был убит той же бомбой. С этого началась Феодосийская катастрофа.
Не знаю, как потом Первушин командовал армией, но здесь, на Сивашах, в роли командира дивизии он мне очень понравился. Это был волевой, сдержанный человек, очень жесткий и строгий; было видно, что он как следует подтянул свою дивизию. Такая же подтянутость и строгость чувствовалась и у его командиров полков.
В середине дня в дивизию подъехал генерал Дашичев, командовавший корпусом. Я не мог понять, что это за человек. На груди у него было три ордена Красного Знамени за гражданскую войну; но был и какой-то такой странно равнодушный взгляд, что у меня возникло тоже странное ощущение его незаинтересованности в происходящем. Казалось, ему было лень спорить, волноваться или огорчаться, и он никому не хотел дать возможности вывести себя из того состояния спокойствия и равнодушия, в котором он пребывал.
Заехал на позиции дивизии Первушина и командующий 51-й армией Кузнецов. Он, так же как и Николаев, приехал сюда проверять систему обороны. Они были взаимно подчеркнуто вежливы, но за этим чувствовался холодок.
Мы ходили вдоль окопов, когда появились над головой немецкие самолеты. Все быстро полезли в окопы, и это, конечно, было совершенно правильно. Только Николаев торчал на бруствере окопа и, поворачивая голову, следил, откуда и как пикируют самолеты. Кузнецов, который был тут же, рядом, в окопе, сердито крикнул:
– Андрей Семеныч! Спуститесь! Вы же демаскируете.
Николаев послушно спустился в окоп, недовольно, досадливо крякнув. Мелехов сказал мне, что у корпусного комиссара с командующим прохладные отношения возникли с тех пор, как они несколько дней назад ездили вместе, и Николаев обнаружил, что командующий излишне поспешно, по его мнению, выскакивает из машины, едва заслышав гул самолетов. Впрочем, не берусь судить, насколько это соответствовало действительности.
К вечеру мы из Сивашей поехали на Чонгар. Там, как и прошлый раз, заночевали у Савинова, а утром двинулись на Арабатскую стрелку. Николаев хотел сам убедиться, какие там приняты меры. На этот раз он, не скрывая иронии, спросил у Савинова:
– Вы ведь теперь там были?
– Да, – сказал Савинов.
– Вы ведь теперь все знаете?
– Да, – сказал Савинов.
– Так вот вы меня и свозите утром, покажете принятые вами там меры.
Савинову ничего не оставалось делать, и мы утром на моторной лодке снова переправились на Арабатскую стрелку.
Там, где раньше был командный пункт батальона, теперь располагался со своим штабом Ульянов. Пока Николаев и Савинов разговаривали с ним, я отыскал Пашу Анощенко, которая теперь со своей полуторкой была прикомандирована к штабу полка. Мне хотелось при случае написать о ней. Присев рядом с ней На копне сена, я стал расспрашивать об ее жизни. Это была самая обычная простая история, рассказанная милой девичьей скороговоркой с южным хаканьем и горячей жестикуляцией. Девушка так и не успела переобмундироватъся. Ее и без того худое лицо стало совсем худеньким, на нем были видны только огромные глаза.
Рассказав, что происходило у них здесь в последние два дня, она потащила меня за руку к своей полуторке, чтобы показать, в каких местах вчера вечером, когда она вывозила раненых, пробили ее машину осколки мин. Так я ее и снял около ее пробитой полуторки – в косынке и платьице. Этот снимок потом был напечатан в «Красной звезде».101 Поговорив с ней, я вернулся к Николаеву. Как раз в эту минуту к нему привели какую-то женщину с мешком за плечами. Она оказалась жительницей Геническа и перебралась на Арабатскую стрелку ночью по мосту, который, как теперь выяснилось, был затоплен настолько неудачно, что через него можно было перебраться по грудь в воде. Она перешла на этот берег и была задержана нашим патрулем. Патрульные, как водится, пожалели ее, отдали ей половину своих харчей, а тот из них, что вел ее в штаб, по дороге сетовал, что не может отпустить ее в деревню Геническая Горка, куда она, по ее словам, шла, потому что такой уж приказ командования, чтоб всех отводить, а то, конечно, он бы с радостью… Словом, ее доставили в штаб.
По словам особиста, который допросил женщину предварительно, она не представляла особого интереса и не внушала подозрений. Выбралась из Геническа и шла теперь на Геническую Горку, где когда-то работала, а отсюда хотела пройти к своей замужней сестре, жившей в Керчи.
Женщина была невысокая, с темным невыразительным лицом, некрасивая, какая-то вся черная. Все было у нее черное, не только платье, но и лицо.
Николаев поглядел на нее недоверчивым взглядом и, отпустив особиста, стал допрашивать ее сам. Первое подозрение ему внушило содержание узла этой женщины. Николаев приказал развязать его. В узле было совсем не то, что может взять с собой человек, тщательно и обдуманно готовившийся идти в большую дорогу, было напихано не самое необходимое, а все, что попалось под руку, все, что можно было сунуть для вида, второпях. А женщина, по ее словам, с самого прихода немцев уже несколько дней готовилась к побегу.
Разговор был длинный и тяжелый. Она не обладала ни умом, ни хитростью, но была озлоблена и запугана. Видимо, ее научили, что она должна говорить от «а» до «б», и она упорно твердила урок, даже когда это стало явной нелепостью.
Всех подробностей допроса я не запомнил. Он длился около двух часов. Из нее приходилось выматывать слово за словом. Сначала она не признавалась ни в чем, потом призналась, что под угрозой оружия немцы заставили ее перейти сюда, чтобы она принесла им сведения. Но что она этого не хотела делать и что это было для нее только способом бежать от немцев. Потом выяснилось, что у нее был пропуск на обратный переход и что было условлено, как она перейдет обратно. В общем, вся нехитрая картина вербовки этой случайной шпионки стала полностью ясна. Женщина была одним из тех шпионов, которых немцы в большом количестве с самого начала войны то здесь, то там засылали к нам на авось: вдруг выйдет. В редких случаях они пробирались благополучно, чаще попадались. Но немцам это было наплевать: пропадут – и ладно. Зато в случае удачи они могли принести кое-какие сведения. Эта должна была узнать, какие у нас противотанковые укрепления здесь, на Арабатской стрелке, и, придя обратно, сообщить об этом. За это ей обещали десять тысяч рублей. Слова «десять тысяч рублей» она произносила почти с благоговением. Видимо, для нее это была такая цена, называя которую она как бы оправдывала свой поступок. Это были такие деньги, за которые, по ее понятию, можно было сделать все.
Она была дочерью богатого куркуля, раскулаченного здесь в тридцатом году. Она тоже ездила с семьей куда-то в ссылку, потом вернулась. Круг ее знакомых тоже был из бывших ссыльных, убежавших оттуда или вернувшихся. Ее любовник Костюков – я запомнил эту фамилию, – по ее словам, бежал из ссылки еще до войны и не только пробрался в армию, но и в «школу командиров». Он пришел в Геническ вместе с немцами из Николаева. И именно через него она и стала шпионкой.
Ее не расстреляли, потому что была надежда, что через нее удастся выловить этого Костюкова. Она тут же дала понять, что для спасения своей жизни готова продать своего любовника.
И вдруг, когда кончился этот допрос, в блиндаж, где он происходил, вошла Паша Анощенко. Они встретились глазами, эти две женщины, и Паша, повернувшись к Николаеву и дернув его за рукав – она не имела никакого представления о чинах, званиях и тому подобном, – сказала:
– Товарищ начальник, когда же поедем? Машина готовая, ждет. Только я с вами на самые передовые. Чтобы вы меня теперь не оставляли. А, товарищ начальник?
Я вышел из блиндажа вслед за Пашей.
– Товарищ начальник, – сказала она, теперь дергая за рукав меня так же, как до этого дергала Николаева. – Что вы на нее глядите? Я бы убила ее, и все. Ведь вы не отпустите ее, нет?
– Не отпустим, – сказал я.
Через четверть часа мы сели в Пашину полуторку и двинулись на передовую.
На этот раз с нами поехал Савинов.
Сначала мы побывали у артиллеристов, потом поехали дальше. Оставив машину там же, где в прошлый раз, мы дошли до окопов, где два дня назад увидели первых наших убитых. Теперь там сидела морская пехота. Моряки тщательно окапывались. Точно так же основательно окапывались и пехотинцы, стоявшие сзади них и непосредственно прикрывающие батарею. Батарея была морская, и командир роты моряков попросил Николаева, нельзя ли сделать так, чтобы всех их, моряков, соединить вместе, чтобы они сами прикрывали свою батарею? Такую же просьбу высказывал раньше и командир батареи, кода мы через нее проезжали. Там, на батарее, Николаев согласился, а здесь, к моему удивлению, вдруг сказал:
– Нет-нет. Здесь стоять будете. Здесь и окапывайтесь.
Мы немножко побыли у моряков. Было сравнительно тихо, немцы вели редкий беспокоящий минометный огонь каждые пять-шесть минут по одной мине.
От моряков мы возвращались уже в сумерки. Я обратился к Николаеву:
– Товарищ корпусный комиссар, ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос.
– Да.
– Почему вы командиру морской батареи сказали, что переведете к нему моряков, а морякам сказали, что оставите их на месте?
Николаев усмехнулся:
– Почему, почему! Конечно, переведем. Пехоту перебросим вперед, а их – назад, к батарее. А им не сказал… Вы русского человека знаете?
Я сказал, что да.
– Нет, не знаете. Если этим сказать, что перебросим их назад, они для других не будут заканчивать свои окопы. А так – они всю ночь будут трудиться, копать. Устроят все для себя по-хорошему, а потом утром мы их перебросим. Погорюют, что, по их мнению, зря потрудились, но окопы уже будут в полный профиль. Вот так! – Он рассмеялся.
На обратном пути я снял батарею – эти снимки потом появились в газете, – и на берег лимана приехали совсем поздно. Была совершенно черная южная ночь. Мы немножко проплутали, ища причал, где стояла моторка. Во время этих поисков Савинов что-то беспрерывно говорил Николаеву заискивающим тоном. Николаев молчал – он был недоволен. Дело в том, что, как он и ожидал, Савинов без него не ездил никуда дальше командного пункта Ульянова, хотя и говорил ему, что все осмотрел. Как только мы пошли вперед от командного пункта полка, ему сразу же стало ясно, что Савинов нигде впереди не был.
Николаев ничего не сказал ему прямо, но дал почувствовать, что хорошо все понял. Именно поэтому Савинов теперь разговаривал с ним таким заискивающим тоном.
На лодку мы уселись уже ночью. Была холодная вода, вся в барашках от сильного ветра, но главное – было абсолютно темно. Только на горизонте виднелось зарево Геническа.
Везли нас двое рыбаков, сидевших впереди на моторке, а мы были на простой лодке, на буксире. Темно было так, что я с трудом различал лицо Николаева, сидевшего против меня. Мы тихо переговаривались. Рыбаки могли бы в такую ночь завезти нас куда угодно, если бы они польстились на немецкую награду, которая, наверное, была бы немалой за генерала и корпусного комиссара сразу.102 Мы лавировали по волнам, причем геническое зарево оказывалось то слева, то справа от нас, и скоро мы потеряли всякую ориентировку по отношению к берегам. Завезти нас куда угодно, ссадить на тот берег не составляло никакого труда.
Переправлялись мы часа полтора. Наконец лодка уткнулась в мелководье, и мы вылезли прямо в воду, набрав ее в сапоги. Оказалось, что, несмотря на полную тьму, рыбаки привезли нас точно на то самое место, откуда мы переправлялись утром. Неподалеку ждала машина. Совершенно продрогшие, мы влезли в нее и, простившись с Савиновым, поехали в Симферополь. Гнали вовсю, с полным светом. Патрули на дороге страшно кричали, когда мы проскакивали мимо них, и я все время ждал, что нам всадят пулю в спину.
Мы добрались до Симферополя глухой ночью 23 сентября. Николаев сказал, чтобы я явился к нему в девять утра – поедем завтра на Перекоп. Но когда я на следующий день в девять утра пришел к нему, он сказал, что поездка откладывается еще на день или на два.
Я спросил его об обстановке. Он сказал, что пока тихо.103 Тогда, не желая сидеть без дела эти два дня, я сказал ему, что раз поездка откладывается, то я слетаю в Москву не после этой поездки, как собирался, а перед ней.
Николаев спросил, на сколько дней я полечу?
Я сказал, что на три.
Он рассмеялся и сказал, что раньше первого он меня обратно не ждет, но я должен дать ему слово, что к первому буду.
Я дал слово.
Простившись с Николаевым, я заехал за Халипом, и мы вместе с ним махнули на аэродром. Я не стал брать с собой ни шинель, ни чемодан, вообще ничего, кроме полевой сумки, – не видел смысла все это таскать с собой, рассчитывая вернуться через три дня. Шинель, винтовка, чемодан – словом, все имущество – все осталось там, в Симферополе, и ничего этого я так уже и не увидел.
На аэродроме пришлось довольно долго ждать. На Ростов должны были идти два ТБ-3, но оба улетали только через несколько часов. Было безразлично, в какой садиться – можно было и в тот, и в другой. Я сел в левый. Он взлетел первым. Когда мы поднимались, Халип махал мне с земли пилоткой. Мы должны были до наступления темноты быть в Ростове, но нам это не удалось: прогорели патрубки, из них начало вытекать сильное, хорошо видное в темноте пламя. В конце концов сели, не долетев до Ростова шестьдесят километров, заночевали, а утром снова вылетели.
В Ростове оказалось, что самолет на Москву уже улетел, а других не предвидится до завтра или даже до послезавтра. Решив, что так или иначе надо улететь, я засел у диспетчера и стал дожидаться какого-нибудь летчика. Наконец, я увидел в окно садящийся СБ. Я спросил, откуда он и куда полетит. Мне сказали, что полетит он в Москву, но этот самолет фельдсвязи и на него никого не возьмут. Я дождался летчика и пристал к нему. Это был старый летчик гражданского флота, и он, махнув рукой, сказал, что возьмет меня. Диспетчер, должно быть, озлившись на мое упрямство, сказал, что на СБ по инструкции нельзя без парашюта лететь, а на меня нет парашюта. Летчик подмигнул мне и сказал диспетчеру, что у него как раз в Ростове высадился пассажир и есть один лишний парашют. Мы взяли с ним в буфете по решету винограда, залезли в самолет и поднялись в воздух.
Через четыре часа СБ сел на аэродроме фельдсвязи в Мячиково, под Москвой. Я летел в одной гимнастерке, и у меня всю дорогу не попадал зуб на зуб. Какой-то ехавший из Мячиково в Москву полковник подвез меня на своей машине до Москвы.
Я слез на Трубной, рядом с квартирой матери, зашел к ней и позвонил оттуда в редакцию. Оказалось, что редакция уже не на старом месте, а, укрываясь от бомбежек, перебралась в подвальные этажи театра Красной Армии. В семь часов вечера я уже сидел там перед редактором и докладывал ему о поездке.
Он сразу же засадил меня за работу, и я этот день до ночи и следующие дни писал свои крымские очерки. Два пошли в газету целиком, а третий был разрублен надвое. Одна половина пошла, а вторая половина – нет.
В печати все еще ничего не говорилось ни о том, что взят Херсон, ни о том, что немцы переправились через Днепр, поэтому пришлось, пользуясь тем, что я перед этим побывал в Одессе, подгонять очерки под одесский колорит. Так их многие и восприняли, как написанное в Одессе.
В эти дни мне пришлось пережить несколько неприятных минут. Товарищи спрашивали у меня, где я был последнее время. Я отвечал, что в Крыму. «Сколько там пробыл?» – «Две недели». У них в глазах было удивление и даже неодобрение – чего это я две недели сидел там на курорте? Не осведомленные о действительном положении вещей, люди в Москве были далеки от мысли, что немцы уже подошли к Перекопу и Чонгару. Но объяснить им это в то время я не имел права. Вообще надо сказать, что в нашей корреспондентской работе самое тяжелое время было с июня по октябрь сорок первого года. Это было время, когда официальные сводки настолько резко не согласовывались с тем, что реально происходило на фронте, что писать было очень трудно, а рассказывать все, что видел, просто невозможно.
Двадцать седьмого сентября, сдав последний очерк, я зашел к Ортенбергу. Как раз в это время ему принесли сообщение ТАСС о том, что в боях на Мурманском участке фронта принимают участие английские летчики. Он сейчас же загорелся и сказал, что туда надо немедленно послать человека, а поскольку именно я находился в этот момент у него в кабинете, то, естественно, продолжением его мысли оказалось – послать меня. Я сказал, что готов ехать, но Николаев ждет меня в Крыму.








