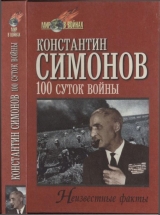
Текст книги "Сто суток войны"
Автор книги: Константин Симонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 37 страниц)
5 «Мы вскочили, довольные, что наконец-то появились наши самолеты. Но они полили нас хорошей порцией свинца»
Рассказ о вытащенном из кабины нашего истребителя полусгоревшем трупе немецкого летчика сейчас кажется мне маловероятным, хотя сообщения о схожих случаях можно разыскать в архивных документах того времени, например, в приказе начальника штаба 21-й армии от 13 июля 1941 года: «Противник использует захваченные у нас самолеты для действия по нашим частям, бомбардируя и обстреливая с бреющего полета».
Тогда я думал, что немцы могли захватить эту тройку наших И-15 и наскоро научить летать на них своих летчиков. Но вряд ли это правда. Немецкие истребители в те дни хозяйничали в воздухе, и посылать немецких летчиков в воздух на самом отсталом типе наших истребителей – И-15 – значило подвергать их совершенно реальной опасности быть тут же сбитыми собственными «мессершмиттами».
То, что рассказывали мне люди, вытащившие из кабины полуобгорелый труп якобы немецкого летчика, – просто-напросто отвечало их душевной потребности. Они не могли примириться с тем, что первые увиденные ими за день наши самолеты по ошибке нас же и расстреливали с воздуха. Поверить в это было нестерпимо тяжело – отсюда, наверно, и родилась версия о трупе немецкого летчика.
Что касается истребителей И-15, то они по своим данным считались отсталыми машинами еще в 1939 году на Халхин-Голе. В начале халхин-голского конфликта их особенно часто сбивали японцы, и вскоре был отдан специальный приказ выпускать их в воздушные бои только вместе с другими, по тому времени более совершенными нашими истребителями.
Когда на Халхин-Гол прибыла группа наших летчиков-«испанцев» на новых истребителях И-153, похожих очертаниями на И-15, но с убирающимися шасси и с большей скоростью, то в первом же воздушном бою было сразу сбито больше десятка японских истребителей, ошибочно посчитавших, что они встретились один на один с И-15, и нарвавшихся на неожиданный для себя отпор.
Чтобы сравнить возможности, которыми располагали в 1941 году для боя с «мессершмиттами» эти взятые нами на вооружение еще в 1935 году И-15, стоит привести несколько красноречивых цифр.
И-15 располагал скоростью 367 километров, «мессершмитт-109», принятый немцами на вооружение в 1938–1939 годах, располагал скоростью 540 километров; потолок был соответственно 9000 и 11700 метров; мощность моторов – 750 и 1050 лошадиных сил; калибр пулеметов – 7,62 миллиметра и 20 миллиметров.
Естественно, что при таком превосходстве «мессершмитты» имели все возможности для того, чтобы расправляться с устарелыми по всем показателям самолетами.
По другим типам наших истребителей – И-16 и И-153, которые были на Халхин-Голе еще новинкой, – соотношение данных по сравнению с «мессершмиттами» в 1941 году складывалось не столь разительное, но тоже достаточно тяжелое для нас: разница в потолке около двух тысяч метров и в скорости около ста километров. А все эти вместе взятые устарелые машины, к нашему несчастью, все еще составляли к началу войны восемьдесят девять процентов нашей истребительной авиации.
6 «Я сказал, что мне надо явиться в штаб фронта, в политуправление. Он покачал головой. Он не знал, где штаб фронта…»
В записках наряду с недоумением перед всем, что делалось кругом, тогда, 26 и 27 июня, еще оставалась вера, что все это случайность, что все это вот-вот будет поправлено. Это чувство мне и теперь, издали, хорошо понятно. Основанная на всем нашем воспитании страстная вера, что так не может, не имеет права быть, толкала нас в первые дни на поиски более легких объяснений происходившего на наших глазах, чем те, которые содержала в себе действительность. Мы не хотели верить своим глазам и, в сущности, ждали чуда. Но чуда в те дни произойти уже не могло, тем более на нашем Западном фронте, где немцы наносили свой главный удар и где и обстановка, и соотношение сил оказались наиболее невыгодными для нас. Чуда произойти не могло. Об этом говорят записи в «Журнале боевых действий войск Западного фронта» за эти дни – 26–27 июня.
Двадцать шестого в 4.00 в штаб фронта поступили данные о прорыве танков противника в направлении Заславль – Минск. Штаб отдельными группами выехал в Бобруйск. Часть групп в пути, а часть уже в Бобруйске получила новое приказание – штаб фронта перемещался в район Могилева. Управление войсками в этот день фактически отсутствовало. Данных о положении войск 3-й армии в штабе не было. 10-я армия продолжала отходить. Но положение ее частей было неизвестно. 4-я армия продолжала отходить на Бобруйск. И только в донесении из 13-й армии был ободряющий пункт о том, что 24-й стрелковой дивизии удалось временно задержать противника и нанести ему значительные потери.
Двадцать седьмого июня штаб фронта занял командный пункт в лесу, в десяти километрах северо-восточнее Могилева; узла связи на КП не было. Связь с Москвой поддерживалась через могилевский телеграф. Связь с войсками – преимущественно через делегатов. В этот день данных о положении 3-й и 10-й армий по-прежнему не было.
Таким образом, корпусной комиссар Сусайков, у которого я имел наивность спрашивать посреди леса, где мне искать редакцию газеты, действительно еще не знал и не мог знать тогда, где находится штаб и политуправление фронта. Он узнал об этом лишь на следующий день из приказания, направленного ему штабом фронта уже из Могилева.
В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» за 28 июня есть текст этого распоряжения корпусному комиссару Сусайкову, согласно которому на него, как на начальника Борисовского танкового училища, была возложена оборона района Борисова.
«Командующий войсками приказал тщательно организовать разведку и не допустить захвата противником переправ через реку Березина. Со всеми неповинующимися, подрывающими дисциплину расправляться со всей строгостью. То же относится ко всем сеющим панику…»
Распоряжение было подписано начальником штаба фронта генералом Климовских.
Корпусной комиссар Иван Захарович Сусайков, которому было поручено оборонять район Борисова, прежде чем стать политработником, был начальником штаба отдельного танкового батальона Московской Пролетарской дивизии и в 1937 году в звании капитана окончил Бронетанковую академию с аттестацией: «Целесообразно использовать на должности командира танкового батальона».
Однако судьба решила иначе и отправила его на политработу, правда, тоже в танковую часть. Как и многие в то время, стремительно повышаясь в званиях, он за два-три года стал из батальонного комиссара корпусным, членом Военного Совета округа, но перед войной вдруг вновь попал на строевую должность – начальником Борисовского танкового училища.
Встретив там войну, он вместе с Лизюковым, который стал у него начальником штаба, оборонял Борисов.
В документах штаба Западного фронта я обнаружил такую телеграмму:
«2. VII-41. Приказание. Штаб Западного фронта, Могилев. Товарищам Сусайкову и Юшкевичу: „Примите все меры уничтожения прорвавшегося на Борисов противника и удержания за собою мостов. При невозможности удержания мосты взрывать. Еременко, Фоминых, Маландин“».
(К этому времени бывший командующий фронтом Павлов и бывший начальник штаба фронта Климовских были уже сняты.)
Группе под командованием Сусайкова и частям 44-го корпуса, которым в те дни командовал Юшкевич, удержать Борисов не удалось, но, оставив Борисов, они в последующие дни продолжали вести в этом районе тяжелые бои с немцами, ожесточенно сопротивляясь и переходя в контратаки. В «Журнале боевых действий 44-го корпуса», у которого в оперативном подчинении находилась группа Сусайкова, есть несколько упоминаний об активных действиях этой группы:
«6. VII. 11.00. Группа товарища Сусайкова пошла в наступление, оттеснив противника, и вышла к реке Бобр».
«7. VII. 8.00. В результате контратаки 5-го механизированного корпуса, Первой мотострелковой дивизии и Борисовского отряда (которым командовал Сусайков. – К. С.) наши части взяли обратно Толочин».
За этот же день в «Журнале» появляется еще одна запись: «7.VII. 11.30. Связь с группой тов. Сусайкова была нарушена».
Начинавший войну в жесточайших боях в районе Борисова в качестве начальника танкового училища и командира той наспех сколоченной группы войск, первый день формирования которой я видел 27 июня, Сусайков в дальнейшем, после ранения под Борисовом, вернулся на политработу и кончил войну генерал-полковником танковых войск, членом Военного Совета Второго Украинского фронта и председателем Союзной контрольной комиссии в Румынии.
7 «…полковник-пограничник вдруг сказал, что сегодня убили одного писателя. Я спросил – где
– А там, в лесочке, где мы стояли. Это наш писатель-пограничник»
Хочу восстановить эту фамилию, не названную в моих записках. В архивных документах с помощью белорусских товарищей удалось разыскать упоминание о том, что на Западном фронте 26 июня 1941 года при воздушной бомбардировке погиб писатель-пограничник, батальонный комиссар Иван Евдокимович Шаповалов.
8 «Когда мы доехали до поворота на Оршу и повернули, то впервые увидели войска. Не движущиеся вразброд, а стоявшие на позициях…»
Стоявшие вдоль шоссе вечером 27 июня войска, виду которых я так обрадовался тогда, были частями группы резервных армий, созданных по решению Ставки еще 25 июня.
К 28 июня эти войска должны были уже полностью занять рубеж Витебск – Орша – Могилев.
Создание группы резервных армий было результатом того, что в Москве уже пришли к выводу, что наш дезорганизованный и ослабленный большими потерями Западный фронт не сможет один остановить продвижения немцев. Надо было выиграть время, и ради этого принимались все меры. В частности, действовавшей впереди на Минском шоссе Борисовской группе приказывалось во что бы то ни стало оборонять Борисов и возможно дольше задерживать немцев на Березине.
9 «…сказал нам, что штаб Западного фронта находится в восемнадцати километрах от Могилева»
На самом деле штаб фронта находился ближе, примерно в десяти километрах от Могилева. Допускаю, что комендант был вполне точен, а я не разобрал закорючки в собственном блокноте…
Вообще надо сказать, что сейчас, когда я многое проверил по архивным документам и мемуарам, да и просто заново объехал и обошел все эти места, я понял, что именно с этими самыми первыми днями войны в моих записках связано наибольшее количество неточностей и неясностей. В том наиболее тяжелом за всю войну душевном состоянии, в котором я был в те дни, я очень мало записывал. Не было сил, да и, наверно, казалось, что вовек ничего из этого не забуду. Но в марте – апреле 1942 года, когда я, диктуя записки, мысленно восстанавливал те дни, при огромном количестве подробностей, которые действительно навсегда запали в память, сами дни уже путались, переходили один в другой, и, как теперь выясняется, я не всегда с абсолютной точностью помнил, что вслед за чем было.
Вот почему, комментируя эти дни, я в нескольких случаях изложу события не в той последовательности, в какой я их записывал весной 1942 года, а в той, которая представляется мне более достоверной согласно лежащим сейчас передо мной документам.
10 «Лестев вытянулся и начал рапортовать:
– Товарищ маршал…»
Дивизионный комиссар Дмитрий Александрович Лестев, начальник политуправления, а впоследствии член Военного Совета Западного фронта, решивший мою судьбу, приказав мне работать в газете Западного фронта «Красноармейская правда», был одним из тех людей, о которых в противоречивой обстановке войны так и не сложилось разных мнений. Я видел его всего раз в жизни, тогда, 28 июня, под Могилевом. Но все, с кем мне довелось говорить о нем и во время войны, и после нее – самые разные люди, – неизменно вспоминали о нем как об очень справедливом, храбром, прямом и честном человеке и, характеризуя при этом его качества политработника, часто употребляли слова: «Это был настоящий комиссар», хотя в строгом смысле слова он по своей должности никогда не был комиссаром. Эти слова были просто данью уважения к нему, данью его высоким политическим и человеческим качествам.
Уже с середины войны, когда введенный в критические дни июля 1941 года институт военных комиссаров был упразднен, я вообще много раз замечал, что особенно хороших замполитов часто называли этим словом – «комиссар». И в этом слове обычно содержалась оценка личности человека, оценка его поведения и образа жизни на войне.
Лестев был убит в ноябре 1941 года в дни боев за Москву осколком бомбы в висок.
Когда я увидел выходящих из машины Ворошилова и Шапошникова, мне показалось, что они только что приехали в штаб Западного фронта. На самом деле это было не так или не совсем так. Во всяком случае, если говорить о Ворошилове, в «Журнале боевых действий войск Западного фронта» еще накануне, за 27 июня, есть запись: «На КП прибыл маршал Советского Союза Ворошилов».
11 «Все кругом было полно слухами о диверсантах, парашютистах, останавливавших машины под предлогом контроля»
Опасения, которые я испытывал, возвращаясь из штаба фронта в Могилев, не были такими уж неосновательными, а готовность в случае чего стрелять первым в той обстановке, пожалуй, была благоразумной.
Я упомянул в записках только об одном случае нелепой гибели товарища из нашей редакции. Но сейчас, разбираясь в документах того времени, наткнулся на множество случаев таких нелепых смертей в самых неожиданных обстоятельствах. Приведу несколько выдержек из этих документов:
«Неизвестный командир остановил автомашину с командным составом штаба, заявив им, что они шпионы, и пытаясь расстрелять…»
«Младшим политкомандиром 141-го стрелкового полка из зенитного пулемета была расстреляна группа работников Управления государственной безопасности в количестве шести человек».
«В ночь на 25-е начальник 3-го отделения отдела продснабжения штаба фронта, интендант 2-го ранга Тимофеев В. В. в городе Минске встретил патруль, который вел задержанного слушателя Академии имени Жуковского военинженера 1-го ранга. Фамилия не установлена, т. к. все документы уничтожены, которого заподозрил в шпионаже и приказал расстрелять, что и было сделано». Преступник арестован и предан суду.
«26 июня 1941 г. в 23 ч. 15 м. по дороге в Борисов на автомашину, следовавшую с мобилизационными документами Слуцкого и Старо-Дорожского райвоенкоматов, напала диверсионная банда. Имеются убитые… Прошу вашего распоряжения о командировании отряда для ликвидации банды… В ту же ночь в деревне южнее Старых Дорог обстрелян из пулемета воинский обоз».
В датированном 13 июля, очень спокойном и трезвом по тону документе, составленном начальником разведотдела штаба 21-й армии и озаглавленном «Краткие сведения по тактике германской армии. Из опыта войны», дается первая попытка обобщения складывавшегося опыта:
«Отдельные диверсионно-десантные группы одеваются в красноармейскую форму, форму командиров Красной Армии и НКВД… проникая в район расположения наших частей. Они имеют задачу создавать панику и вести разведку».
Сказанное в этом документе подтверждается немецкими данными о действиях подразделений особого полка «Бранденбург»; в частности, мост у Даугавпилса был захвачен диверсантами из этого полка, переодетыми в красноармейскую форму.
А в общем, оглядываясь на те дни, надо прийти к выводу, что было и то и другое. В одних случаях действовали немецкие диверсанты, а в других – в обстановке тяжелого отступления и широко распространившихся слухов об обилии немецких диверсантов – свои задерживали и даже расстреливали своих. В тяжелой неразберихе разные люди вели себя по-разному.
В том же самом политдонесении, где сообщается о расстреле прямо на улице Минска военного инженера 1-го ранга работником отдела продснабжения, рассказывается и о том, как заместитель начальника воинского склада № 846 батальонный комиссар Фаустов, добиравшийся после объявления войны с курорта в горящий Минск, увидев, что его склад покинут, организовал вокруг себя командиров-отпускников и отставших от разных частей красноармейцев, вооружил их брошенным оружием и с боями вывел из окружения отряд общим числом ни много ни мало – в 2757 человек.
Когда роешься во всех этих архивных документах, невольно думаешь о том, как много еще предстоит нам разбираться в самых разных – и героических, и постыдных – событиях тех дней. И без анализа и той и другой стороны дела невозможно восстановить во всей их совокупности ни подлинной атмосферы того времени, ни хода последующих событий.
12 «Это был фельдфебель с железным крестом – первый немец, которого я видел на войне»
Мне не удалось найти подтверждения того, что этого летчика действительно допрашивал один из маршалов. Но я обнаружил протокол допроса, очевидно, этого самого летчика. И, пожалуй, сопоставление этого документа с непосредственным впечатлением, сложившимся у меня тогда, представит известный интерес.
Летчик был допрошен в разведотделе фронта не 29 июня, как об этом можно судить по моим запискам, а 28-го. Видимо, я спутал дни, ибо целый ряд совпадений почти не оставляет сомнений, что речь идет об одном и том же человеке. Вот этот документ с сокращениями некоторых не представляющих интереса подробностей:
«Опрашиваемый – Хартле, 1919 года рождения, служил четыре года в германских ВВС, в последней должности – в качестве радиста на борту бомбардировщика и дальнего разведчика „хейнкель-111“, который был подбит 23.VI-41 зенитной артиллерией под Слонимом во время первого полета над советской территорией.
Экипаж самолета, состоявший из командира машины капитана Хиршауэра, старшего фельдфебеля Потт, старшего фельдфебеля Индрес, фельдфебеля Функе и самого опрашиваемого Хартле – пять человек, – выполнял задачу по разрушению коммуникаций в тылу за линией фронта.
Самолет получил серьезное повреждение мотора от огня зенитной артиллерии при первом полете над территорией СССР, имея полную бомбовую нагрузку. Не выполнив задачи, самолет сбросил бомбы в открытое поле и совершил посадку с катастрофой, при которой легко раненным оказался допрашиваемый Хартле…
Экипаж самолета принадлежал 217-й эскадрилье, прибывшей из Франции… Опрашиваемый Хартле не является членом национал-социалистской партии, так как, по его словам, солдатам и унтер-офицерам приказано заниматься военными, а не политическими делами. Не принадлежит он также к союзу гитлеровской молодежи. Социальное положение – крестьянин. Образование – 10 лет, вначале 7 лет нормальной народной школы. Данные о самолете „хейнкель-111“ дать отказался по двум мотивам: как преданный солдат Германии, не желает терять совесть перед родиной. На вопрос, идет ли речь о чести или страхе, ответил, что только честь не позволяет ему открывать военные тайны. Второе: самолеты „хейнкель-111“ передавались Советскому Союзу и поэтому не представляют никакого секрета для русского командования. Поэтому было бы оскорблением требовать от него потери чести без всякого повода.
О летных и других качествах прочих германских самолетов ничего не знает, так как летал только на „хейнкель-111“. Участвовал в боях в Польше, Франции и Англии. За боевые заслуги во Франции награжден орденом железного креста…
На вопрос о политико-моральном состоянии германской армии ответил, что настроение солдат и офицеров хорошее, боевое…
Перспективы войны с СССР рассматривает как полную победу Германии, и что такого же мнения все солдаты в армии Германии. Офицеры разъясняют солдатам, что Германия не имела территориальных претензий к России, что все в Германии встретили с неожиданностью и даже с ошеломлением войну между Германией и Россией. Солдатам и офицерам разъясняли только одно, что отражено в приказе Гитлера, – это факт сосредоточения Россией 160 дивизий против Германии с целью напасть на нее сзади. Германский народ не имеет ненависти к Сталину. Возможно, и русский народ не имеет ненависти к Гитлеру, какую разжигают русские радиостанции против Гитлера. В Германии все уважают Гитлера, его гений.
На вопрос, как встретит германский народ Советскую Армию, если она через некоторое время вступит на германскую территорию, отвечает, что народ Германии хорошо встретит народ России, так как из опыта войны в Польше и во Франции ему известно, что после поражения этих стран народы быстро сдружились, дружат и солдаты. Если воюют между собой государства и правительства, то, по его мнению, это не дает оснований к вражде между народами.
Вопрос: Почему же ваши офицеры истребляют мирное население при вступлении на русскую землю, а летчики бомбардируют население городов, разрушая мирные дома?
Ответ: Мне неизвестно об этом. Сам я не бомбил мирного населения ни в одной из воевавших с Германией стран и считаю целесообразным разрушать военные объекты, а не тратить бомбы на мирное население.
О применении парашютистов ему ничего не известно. О заброске по воздуху диверсантов в форме советских командиров ему ничего не известно. Сам он их не сбрасывал, так как его самолет не приспособлен к этому.
Далее он заявил, что Германия хотела всегда жить в мире с Россией, и эта война явилась и для него и для солдат неожиданностью.
На вопрос, что ему известно о рассуждениях Гитлера в – книге „Майн кампф“ об Украине, ответил, что он такой книги не читал. Далее добавил, что, несмотря на войну, книги Сталина продаются в Германии для всех. На требование о прекращении этой наглой лжи он ответил, что лично сам видел эти книги…
На вопрос, почему он убежден и думает, что все солдаты убеждены в победе Германии, он ответил, что такое убеждение, очевидно, есть и в русской армий, но немцы не считают русскую армию слабой и считаются с ней. Данные о количестве самолетов на Варшавском аэродроме и количестве известных ему аэродромов дать отказался категорически…
Опрашивали: военный переводчик разведотдела штаба Западного фронта интендант 2-го ранга (подпись неразборчива), младший лейтенант (подпись неразборчива)».
Прочитав сейчас, через двадцать пять лет, этот протокол, я заново вспомнил свое тогдашнее ощущение от допроса этого первого на моей памяти пленного и от того сплава храбрости, нахальства и чувства воинского долга, который чувствовался в его ответах. Мне было интересно прочесть в протоколе допроса не запомнившееся тогда место о том, как встретит германский народ Советскую Армию, если она через некоторое время вступит на германскую территорию. В данном случае уклончивый характер ответа психологически понятен. Вопрос, очевидно, абсолютно не задел самолюбия пленного и в обстановке всего происходившего тогда на фронте показался ему просто-напросто нелепым. В его голове в те дни не могло возникнуть даже слабого подобия сколько-нибудь реальной мысли о том, что Советская Армия через какое бы то ни было время может действительно вступить на их германскую территорию.
И его нельзя осуждать за недальновидность. Не только он, но и наступавшие тогда по сорок-шестьдесят километров в сутки генералы Гудериан и Гот, и уже вышедший передовыми частями к Березине командующий 4-й армией фельдмаршал Клюге, и главнокомандующий сухопутными войсками Браухич, и начальник генерального штаба Гальдер – что бы там некоторые из них ни писали потом, после войны, – никто из них тогда не допускал, разумеется, и мысли, что эта «полностью разгромленная» ими на Восточном фронте Советская Армия когда-нибудь вступит на территорию Германии.
О Гитлере не приходится и говорить. Всего через неделю после того, как пленный фельдфебель разговаривал с нами под Могилевом, Гитлер в одной из своих неофициальных бесед, записанных с его разрешения Борманом, думал уже не о Могилеве, и не о Смоленске, и даже, в конце концов, не о Москве, – Москва была теперь в его мыслях лишь промежуточным пунктом, который «как центр доктрины должен исчезнуть с лица земли». На четырнадцатый день войны Гитлер заглядывал уже гораздо дальше: «Когда я говорю: „По эту сторону Урала“, то я имею в виду линию двести-триста километров восточнее Урала… Мы сможем держать это восточное пространство под контролем».
Чего уж тут спрашивать с фельдфебеля? Честно заявив до этого, что он, как все солдаты, убежден в победе Германии, он в ответ на явно нелепый, по его мнению, вопрос, связанный с возможностью появления Советской Армии на германской территории, ответил чисто риторически. В силу своего положения пленного он не желал обострять разговор там, где речь шла не о выдаче военной тайны, а о каких-то мифических проблемах.
Читая протокол, я подумал и о другом: а почему же все-таки наши разведчики задали немцу этот вопрос, показавшийся ему таким нелепым: «Что будет, если через некоторое время Советская Армия вступит на территорию Германии…» Каким представлялось им тогда, в той обстановке, это «некоторое время»? Видимо, молодые офицеры разведотдела, несмотря на все неудачи, обрушившиеся на наш Западный фронт, все-таки продолжали верить, что через некоторое, не столь уж продолжительное время дело повернется к лучшему. Если бы они этого не думали, у них не было бы ни внутренней потребности, ни нравственной силы задать этот странно прозвучавший тогда вопрос.
И второе, что меня заинтересовало, когда я сравнивал этот документ со своими записками: откуда появилась в записках подробность, что немец, будучи сбит и имея компас, пошел не на запад, а на восток? Действительно ли он говорил, что немцы по плану должны были к 28 июня взять Смоленск, а если говорил, то почему это не попало в протокол допроса? Сейчас, задним числом, думаю, что вряд ли он говорил это. Просто был факт: от места катастрофы немец пошел по компасу не на запад, а на восток. И, очевидно, после допроса, обсуждая этот факт, кто-то из наших сам предположил, что летчик шел на восток, потому что немцы, по их плану, уже должны были занять Смоленск.
В те дни, после первых неудач, потрясших душу своей неожиданностью, было много разговоров на эту тему. В них мы искали тогда хоть какую-то отдушину. Хотелось поверить, что, несмотря на все наши неудачи и на всю быстроту продвижения немцев, они рассчитывали на еще большее и у них не все выходит так, как они запланировали.
Впоследствии эта вера начала оправдываться. Чем дальше, тем чаще немцы встречались с не запланированной ими силой сопротивления, вносившего все большие изменения в их планы. Но в те дни, о которых идет речь в записках, на Западном фронте такого положения еще не было.
За первые девять дней боев немцам не удалось целиком решить поставленные перед собой задачи на Юго-Западном направлении и в известной мере на Северо-Западном. Но как раз здесь, на Западном фронте, где наносила удары главная группировка немцев, они точно вышли на намеченные ими по плану рубежи.
И надо отдать должное нашим военным – они поняли: для того, чтобы строить реальные планы дальнейших действий, необходимо, как это ни горько, трезво оценить масштабы поражений, понесенных нами на Западном фронте.
В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» можно познакомиться с теми первыми выводами, которые сделал штаб фронта после девяти дней боев.
Вот как выглядят эти выводы, подписанные генерал-лейтенантом Маландиным:
«В итоге девятидневных упорных боев противнику удалось вторгнуться на нашу территорию на глубину 350–400 километров и достигнуть рубежа реки Березина. Главные и лучшие войска Западного фронта, понеся большие потери в личном составе и материальной части, оказались в окружении в районе Гродно, Гайновка, бывшая госграница… Все части требовали переформирования и доукомплектования.
Характерной особенностью немецких ударов было стремительное продвижение вперед, не обращая внимания на свои фланги и тылы. Танковые и моторизованные соединения двигались до полного расхода горючего.
Непосредственное окружение наших частей создавалось противником сравнительно небольшими силами, выделяемыми от главных сил, наносивших удар в направлениях Алитус – Вильно – Минск и Брест – Слуцк – Бобруйск.
Второй характерной особенностью являются активные и ожесточенные действия авиации, небольших десантных отрядов по глубоким тылам и коммуникациям с целью парализации управления и снабжения наших войск… На направлениях главных ударов противник сосредоточивал почти все свои имеющиеся силы, ограничиваясь на остальных направлениях незначительными частями или даже вовсе не имея там сил, а лишь ведя разведку».
История потом внесла ряд поправок в эти первые выводы. В последующие недели и месяцы из окружения пробились с оружием в руках или просочились мелкими группами десятки тысяч людей, считавшихся погибшими. Некоторым из этих людей потом еще довелось брать и Кенигсберг, и Берлин. А другие десятки тысяч людей тоже оказались не в плену у немцев, а три года воевали в партизанских отрядах Белоруссии и в 1944 году сказали свое последнее слово, содействуя разгрому в Минском и Бобруйском котлах той самой немецкой группы армий «Центр», которая в июне 1941 года брала Минск и Бобруйск.
Думая об этих поправках, внесенных историей, можно лишь гордиться мужеством своих соотечественников. Но, оставляя в стороне эмоции, надо сказать, что только такие, шедшие вразрез со многими предвоенными настроениями, жестокие и трезвые выводы, как выводы Маландина, могли тогда, через девять дней после начала войны, стать предпосылкой наших последующих частных, а затем и более весомых успехов на Западном фронте.
Я привел лишь один документ, но решимость сказать обнаружившуюся правду проходит через множество документов того времени и дивизионного, и корпусного, и армейского, и фронтового масштабов. Отдавая должное людям, ставившим свою подпись под этими документами, не надо забывать два осложнявших дело обстоятельства: во-первых, масштабы несоответствия между тем, чего мы ожидали, и тем, что с нами произошло, и, во-вторых, еще свежую память о всей силе того отрицательного давления, которое вплоть до последнего предвоенного дня прямо или косвенно оказывалось на людей, стремившихся обрисовать истинное положение и воззвать к благоразумию и предусмотрительности. Эта память была еще сильна и обострялась воспоминаниями о целом ряде новых арестов в предвоенные месяцы. Память была свежа, но, к чести людей, о которых я говорю, тревога за судьбу своей родины и связанная с этим прямая необходимость сказать полную правду о сложившемся положении вещей оказалась для них в этот, пользуясь более поздней терминологией самого Сталина, «момент отчаянного положения» выше всех других привходящих соображений.








