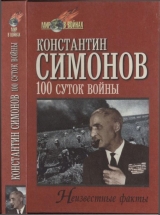
Текст книги "Сто суток войны"
Автор книги: Константин Симонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 37 страниц)
Второй немец продолжал крутиться над местом катастрофы. Наш шофер Панков, обычно очень спокойный, выдержанный, вытащил из машины винтовку и стал стрелять по «юнкерсу», а в общем, в божий свет, потому что место, где мы стояли, не вписывалось в тот круг, который делал «юнкере».
Трошкин побежал вперед – в сторону от дороги, ближе к месту катастрофы стояло какое-то каменное строение с наружной лестницей, которая шла вдоль стены на чердак. Трошкин взбежал по лестнице. Я – за ним. Он лихорадочно стал вставлять в аппарат телеобъектив, и в эту секунду самолет, разворачиваясь, прошел как раз над нами. Мы здесь на крыше были метрах в десяти от земли, и он прошел над нами на высоте каких-нибудь тридцати метров. Прошел со страшным ревом, так, что была видна каждая деталь, какие-то тросики, кабина летчиков, огромные свастики на крыльях.
Трошкин приложился, но запоздал на секунду и успел снять только хвост уходившего по кругу самолета. Он стал ждать следующего круга, но самолет, недовернув и продолжая поливать огнем землю, видимо, решив, что спасти товарищей не удалось, пошел к Днепру. Кажется, потом сбили и его. Всего в тот день над дорогой между Днепром и Дорогобужем было сбито три «юнкерса».
Трошкин рвал и метал, что ему не удалось снять самолет так, как ему хотелось. Мы кинулись к машине и, свернув с дороги, поехали по полю, туда, где в пшенице горел самолет и было заметно движение людей, наверно, искавших летчиков. Остановились на меже. Трошкин выскочил первым и бегом понесся вперед. Он ходил в ту поездку в кожаной куртке на молнии поверх гимнастерки, с немецкой «лейкой» на груди и в синей авиационной пилотке.
Даже не тревога, а какая-то тень тревоги мелькнула у меня, и я крикнул ему: «Подожди меня!» – но он уже побежал, не оглядываясь. Я влез на капот, осмотрелся, увидел, в какой стороне на поле происходит самая большая толкотня, и приказал Панкову ехать туда. Там слышались выстрелы, кричали люди, скакало несколько всадников. Потом они сгрудились в кучу, и туда подъехал грузовик.
Я оставил машину и пошел через поле пешком. К грузовику я подошел в тот момент, когда туда сажали трех пойманных летчиков. Руки их были скручены ремнями. Трошкин тоже сидел в кузове машины.
Не поняв, в чем дело, я подошел к грузовику и сказал Трошкину, чтобы он пересаживался в нашу машину, я подогнал ее.
– Костя, выручай, – сказал он, – Меня забрали.
– Как забрали?
– Да вот, – кивнул Трошкин на какого-то парня в каске с совершенно ошалелым лицом, с тремя кубиками на петлицах.
Кругом нас было человек пятнадцать народу.
– В чем дело, товарищ политрук? – спросил я. – Почему вы его задержали?
Политрук, оказавшийся уполномоченным особого отдела стоявшего здесь полка, посмотрел на меня диким, ничего не соображающим взглядом и завопил:
– Арестовать и его! Арестовать и его! Скорей арестовать и его!
В руках он держал браунинг, с десяток людей вокруг него тоже размахивали оружием. Все были так взвинчены, словно тут высадился по крайней мере целый парашютный десант. Я сказал уполномоченному, что он с ума сошел, что я сейчас предъявлю ему документы.
– Руки вверх! – заорал он. – Руки вверх! Стреляйте в него без предупреждения, если он не будет держать руки вверх! – крикнул он стоявшим возле него двум или трем младшим командирам. – Отберите у него наган! Это диверсант!
О нагане я как раз и забыл.
Я повторил ему, чтобы он не валял дурака. Тогда, тыча в меня пистолетом, он заорал:
– Поднимите сейчас же руки – или я вас застрелю!
Пытаться оказать сопротивление, стоя в этой толпе считавших меня за диверсанта людей, было делом бесполезным и опасным. Я всегда особенно остро боялся именно такой вот глупой смерти. Пришлось поднять руки. После этого у меня вынули из кобуры наган. Пока я не поднял руки, никому это в голову не пришло. Очевидно, им казалось, что я сначала должен поднять руки, а потом уже надо меня обезоруживать.
Последний раз взывая к остаткам здравого смысла, я опустил руку и полез в карман гимнастерки, чтобы достать документы.
– Сейчас я вам покажу, – сказал я, стараясь быть спокойным, думая, что хоть это спокойствие приведет их в чувство.
– Застрелю! – заорал уполномоченный. – Руки вверх!
Я снова поднял руки. Было совершенно идиотское чувство: одновременно и глупо, и смешно, и страшно. Никогда еще, даже в минуты паники, я не видел людей в таком невменяемом состоянии. Потом уже, когда я смог спокойно вспоминать об этом, я, кажется, понял, в чем было дело. Этот уполномоченный был, может быть, и неплохим, но глупым парнем. Полк прибыл на место только три дня назад, не участвовал еще ни в одном бою, и вдруг они огнем с земли сбили «юнкере», да к тому же еще «юнкере», который возвращался из только что сожженного Дорогобужа, и из этого самолета выпрыгнули живые немцы. А полк еще всего неделю назад проезжал Горький. И они окружили этих немцев, и взяли их в плен. Наверно, уполномоченному казалось в эти минуты, что ему дадут за это по крайней мере Героя Советского Союза. А тут вдобавок ко всему на поле прибежал неизвестный человек в кожаной, не похожей на нашу куртке, в синей пилотке, с какими-то иностранными аппаратами на груди и начал фотографировать немцев. Странно одетый человек снимает немцев! А потом подъезжает машина странного вида – наверно, тут сыграло свою горькую роль и то, что у нашей «эмочки» был непривычный закатывающийся брезентовый верх, – и из этой машины вылезает не известный никому батальонный комиссар и хочет освободить этого подозрительного человека, забрать его к себе в машину. То есть, несомненно, хочет увезти его. В общем, душу храброго уполномоченного охватили безумные подозрения, и мы были арестованы. И если бы мы тогда не сохранили некоторого хладнокровия и вздумали сопротивляться, то, наверно, я не писал бы этих записок, а уполномоченный доложил бы, что, кроме трех захваченных немецких летчиков, им уничтожено на месте двое оказавших сопротивление диверсантов.
Немцам на машине еще раз для надежности закручивали за спиной руки, а я, как дурак, стоял около с поднятыми руками. Так продолжалось минуту или две. Я спросил уполномоченного, что же мы будем делать дальше, раз он не хочет смотреть мои документы.
– Я вас доставлю в штаб дивизии! Там с вами поговорят!
Это меня несколько успокоило, и я сказал ему, что доставка в штаб дивизии как раз и является моим единственным желанием, что я был там несколько часов назад. Но предварительно я все же хотел бы, чтобы он посмотрел мои документы и обращался со мной и с моим товарищем не как с диверсантами, а в крайнем случае как с людьми, взятыми им под подозрение.
– Я не подозреваю! – крикнул он. – Я знаю, знаю! Ишь, орден надели, так уже думаете, что мы не узнаем, что вы диверсант! Шпалы надели! В машину! Сейчас же в машину!
Я предложил: пусть он даст нам какую-нибудь охрану и мы поедем следом за ним на своей машине.
– Нет! – И он приказал какому-то лейтенанту вести нашу машину вслед за грузовиком. – А шофера тоже сюда, чтобы не убежал!
Приволокли ровно ничего не понимавшего Панкова и всех нас посадили в кузов машины. Наверно, запомню навсегда: по правому борту сидят трое немцев, рядом с ними – Трошкин, по левому борту – двое красноармейцев с винтовками, и между ними – Панков, у заднего борта – я и плохо понимающий по-русски сержант-среднеазиатец с автоматом в руках и с круглыми от служебного рвения и полного непонимания всего происходящего глазами. А напротив меня, прислонясь спиной к кабине, скрестив руки на груди, стоит в наполеоновской позе уполномоченный. Впереди – зарево горящего Дорогобужа. Над дорогой – возвращающиеся с бомбежки немецкие самолеты. На земле и в воздухе – дикая пулеметная стрекотня. Сзади грузовика – наша «эмка» с ее подозрительным тентом. За рулем в «эмке» – лейтенант, а кругом грузовика и «эмки» – человек пятьдесят красноармейцев и младших командиров, упоенных и разгоряченных своей первой удачной встречей с немцами.
И на нас, и на сжегших только что Дорогобуж немецких летчиков они смотрят одинаково ненавидящими глазами, и если бы дело дошло до самосуда, то, наверное, и от нас и от немцев остались бы одинаковые клочья.
Шофер высовывается из кабины и спрашивает уполномоченного, можно ли ехать.
– Погоди, – говорит уполномоченный и приказывает красноармейцам, сидящим в кузове: – Снимите ремни, свяжите руки этим троим. (То есть нам.)
Первому связывают руки Трошкину. Как потом оказалось, он был в этот день болен. Вечером в санчасти дивизии ему смерили температуру, оказалось – сорок. Наверно, этим объяснялось его особенно лихорадочное состояние в течение всего этого дня. Трошкин протягивает руки и срывающимся от злости голосом говорит уполномоченному:
– Ты дурак! Ты мальчишка! Нате, связывайте. Ты дурак. Я третью войну воюю, а ты первых немцев видишь. Панику устроил, дурак.
– Молчать! – визжит уполномоченный.
– Хорошо, я молчу, – говорит Трошкин. – Вяжите. Только отсадите меня от фашистов. Не хочу рядом с этой сволочью сидеть.
Следующий – Панков. Молча пожав плечами, он протягивает руки, и ему их связывают. Теперь дело доходит до меня. И вдруг, вместо того чтобы подчиниться этому дурню уже до конца, доехать до штаба дивизии и там показать ему кузькину мать, вместо этого я чувствую, что, прежде чем мне свяжут руки, я сейчас дам ему в морду, а потом меня убьют. Я чувствую, что будет именно так – и то и другое. И, оттолкнув уже протянувшиеся ко мне с ремнем руки красноармейца, говорю уполномоченному:
– Прежде чем начнете вязать мне руки, я дам вам в морду. А потом вы меня расстреляете и будете отвечать. Потому что я прибыл сюда по приказанию Мехлиса.
Не знаю, почему у меня вырвалась эта фраза, наверно, потому, что приказ о моем назначении в «Красную звезду» был подписан Мехлисом. Не знаю, что из двух больше подействовало на уполномоченного – что я здесь по приказу Мехлиса или что я успею дать ему по морде, – но он вдруг сказал:
– Хорошо, не вяжите ему руки. Но теперь ты, – крикнул он сержанту, – уставь ему в живот ППШ, раз он не хочет, чтобы вязали руки! Вы руки держите вверх! А если опустит – (это уже снова сержанту), – стреляй сразу!
Машина рванулась с места и на предельной для грузовика скорости поехала по ухабистым, с выбоинами, дороге на Дорогобуж. Только тут я понял, что отказ дать связать себе руки может мне дорого обойтись. Я сидел в кузове грузовика у задней стенки, за спиной у меня лежали пулеметные диски. Машину дико дергало, я колотился спиной о диски – потом у меня недели две болели почки, так я их отбил. Руки у меня были подняты, я то и дело валился с боку на бок, не имея возможности опустить руки, боясь получить в живот порцию свинца. Сержант, вдавивший мне в живот дуло ППШ, все время держал палец на спуске. Машину трясло, и он мог в любую минуту случайно нажать на спуск.
– Поставьте хоть на предохранитель, – сказал я.
Сержант молча продолжал смотреть на меня.
– Скажите ему, чтобы он поставил на предохранитель, – обратился я к уполномоченному.
Уполномоченный подозрительно посмотрел на меня и крикнул сержанту:
– Не ставь на предохранитель! У тебя на сколько стоит?
– На один, – оказал сержант.
– Поставь на семьдесят один.
Теперь я был обеспечен, в случае какого-нибудь особенно неожиданного толчка, целой очередью в живот. Ехали мы, наверно, минут сорок пять или пятьдесят. Они показались бы бесконечными, если бы мы с Трошкиным не утешались тем, что всю дорогу по-всякому, и просто так, и по-матерному, ругали уполномоченного. Мы говорили ему, что он дурак, идиот, что его отдадут под суд, что он ответит, что он мальчишка, что он войны не видал и что напрасно он надеется получить Героя Советского Союза за этот подвиг.
Нужно отдать должное этому человеку. Уже решившись доставить нас в штаб как опасных диверсантов, он стойко переносил все эти личные оскорбления и не предпринял попытки разделаться с нами, хотя, судя по выражению его лица, ему этого очень хотелось. Он только от времени до времени орал:
– Молчать! Стрелять буду!
Или, обращаясь сразу ко всем нам вместе – и к фашистам, и к нам троим, – кричал, показывая на горевший впереди Дорогобуж:
– Смотрите, мерзавцы, что вы наделали! Смотрите, что вы наделали, негодяи!
Чем ближе мы подъезжали, тем зарево становилось все огромнее, и у меня, когда я слушал эти крики уполномоченного, было какое-то нелепое чувство. С одной стороны, я, казалось, сам был готов своими руками разделаться с любым из этих трех фашистов, только что сжегших этот зеленый мирный городок, который мы еще несколько часов назад видели совершенно целым. А с другой стороны, вся та искренняя ненависть, которая слышалась в голосе уполномоченного, адресовалась наравне с фашистами мне, Трошкину и Панкову. А в общем, это была совершенно бредовая поездка. Несмотря на всю опасность их собственного положения, как мне показалось, немецкие летчики смотрели на нас не только с удивлением, но даже с сочувствием. Может быть, они решили, что мы и правда диверсанты или что-то в этом роде, и от этого было еще нелепее и противнее на душе.
Больше всего я боялся, что по дороге какой-нибудь из возвращавшихся со стороны Дорогобужа немецких самолетов вдруг спикирует на нашу машину и наши конвоиры – кто их знает! – прежде чем кинуться в кюветы, могут пострелять немцев, а заодно и нас.
Наконец мы подъехали к самому Дорогобужу. Дорогобуж горел. Даже нельзя сказать, что он горел. Утром мы оставили за собой мирный, тихий деревянный городок, а сейчас его просто-напросто не было. Было сплошное море огня. Горел весь город. Весь целиком. Многие дома уже сгорели, торчали только одни трубы, другие догорали. Местами, где не обрушились еще стены, казалось, за пустыми окнами сзади подложена сплошная красная материя. Через эти дыры горящих окон, через обвалившиеся дома город был виден весь насквозь. Стоял невероятный треск и грохот. Когда горят и коробятся одновременно сотни железных крыш – это похоже на залпы.
К штабу дивизии ближе всего было проехать прямо через город, но ехать через такое сплошное море огня было невозможно. Грузовик двинулся в объезд – мимо маленьких домов окраины, тоже горевших и слева и справа от дороги. Отсюда, с окраины, немного поднимавшейся по склону над городом, горящий город был виден чуть-чуть сверху, и это было еще страшней.
На наших глазах покачнулась и упала пылавшая верхушка колокольни.
Наконец мы добрались до спуска в ту балку, где размещался штаб дивизии, и вылезли из машины. Взяв себя в руки, я как можно спокойнее сказал уполномоченному:
– Сейчас вы поведете нас к начальству через все расположение штаба, мимо бойцов. Я требую, чтобы вы, во-первых, вели нас отдельно от фашистов, и, во-вторых, вели так, чтобы бойцам не бросалось в глаза, что вы ведете задержанных командиров. Это лишнее.
Близость штаба, кажется, отрезвляюще подействовала на уполномоченного, и он ответил, что так и будет сделано.
Трошкину и Панкову развязали руки. Трошкин едва шел, еле-еле передвигая ноги. Как потом оказалось, у него была гнойная ангина.
Немцев вели впереди нас и, проведя мимо особого отдела дивизии, положили их на землю и поставили к ним часовых. А нам пришлось сесть у блиндажа особого отдела в ожидании, пока с нами разберутся.
Не везет так не везет. Командир дивизии полковник Миронов уехал куда-то в полк и должен был вернуться только под утро. После проверки документов и получасового ожидания наконец пришел начальник политотдела дивизии полковой комиссар Поляков. Он долго и придирчиво проверял наши документы, а потом, когда все стало совершенно ясно, вдруг начал нам же делать внушение: мы сами виноваты, зачем мы снимали немцев? Кто нас звал туда, к сбитому самолету? Это не наше дело и так далее и тому подобное.
Уполномоченный, не то для того, чтобы выпутаться из этой истории, а может быть, просто в силу воспаленного воображения, стал городить при начальнике политотдела совсем уж невероятные вещи: что там, в поле был еще какой-то полковник с двумя орденами – тоже диверсант, которому удалось бежать, что я и Трошкин хотели освободить немцев, в общем, нес уже совершенно несусветную ересь.
В довершение всего полковой заявил нам:
– Если вы корреспонденты и зарабатываете здесь себе на хлеб, и в редакции за это требуют от вас снимки или статьи – это еще не причина, чтобы вы совали свой нос куда не надо!
Это так взорвало нас с Трошкиным, что мы в ответ сказали ему, что он чинуша, никогда не видевший фронта, и что прежде, чем говорить другим, что они на войне зарабатывают себе на хлеб, ему самому надо было бы хоть немного повоевать. Назревал крупный скандал, но, к счастью, наконец пришел комиссар дивизии и разрядил атмосферу.
В довершение ко всем нашим бедам неизвестно куда делась наша «эмка». Лейтенант, севший за руль там, на поле, угнал ее в неизвестном направлении.
Трошкин не мог стоять. Он сидел на земле; его лихорадило и колотило. Начинало темнеть. Курносая девчушка-санитарка, увидевшая его состояние, принесла ему свою шинель, а потом – котелок супа. На улице было холодно. Ночь обещала быть студеной. А о нашей машине все еще не было ни слуху ни духу. Трошкину сунули под мышку термометр, дали проглотить несколько порошков, и мы все трое, решив, что не миновать заночевать здесь, полезли в узкий закоулок одного из блиндажей политотдела.
Спали, как сельди в бочке, на земляном полу и отчасти один на другом. Я втиснулся последним, перед этим постояв еще полчаса у входа в блиндаж. Отсюда, из глубокой балки, Дорогобуж не был виден, но небо, сколько хватало глаза – и налево, и направо, и впереди, – всюду было багровое. Пожар продолжался.
Когда рассвело, Трошкин, которому так и не стало легче от порошков, с трудом вылез из землянки, лег и задремал на откосе, немножко пригревшись на солнышке.
Мне сказали, что командир дивизии приехал, и я пошел к нему.56 Оказывается, ему даже не доложили о происшедшем. Он был удивлен и рассержен. Я сказал ему, что, вернувшись в редакцию, доложу и о поведении уполномоченного, и об отношении его начальника политотдела к корреспондентам.
Крайне разозленный всем происшедшим, полковник сказал, что он будет только рад этому.
Тогда, там, в то утро, я был убежден, что именно так и сделаю. Но потом, когда приехал в Москву и первая острота всего происшедшего сгладилась, наша русская привычка – ладно, сойдет – взяла свое, и я никому ничего не докладывал.
Командир дивизии приказал немедленно вызвать уполномоченного и разыскать нашу машину. Нас покормили. Я сразу подобрел и стал относиться к происшедшему уже с некоторой иронией. Но Трошкин был по-прежнему расстроен до крайности. Ему не только помешали снять нужные газете до зарезу кадры немецких летчиков у горящего самолета, но и засветили всю его пленку – и снятую, и неснятую. Абсолютно все, что у него было. У него не осталось теперь ни одного кадра пленки, и нужно было ехать за ней в Москву.
Машины нашей по-прежнему не было; ее разыскивали по разным частям дивизии. Я пошел в политотдел и потребовал, чтобы нам все-таки разыскали машину. Там, в политотделе, со мной вдруг поздоровался какой-то человек и сразу начал извиняться. Я его не узнал и в первую минуту не мог понять, в чем он извиняется. Оказалось, что это тот самый уполномоченный, который вчера нас арестовал. Но вчера он был в каске и лицо у него было до того искажено волнением, что сейчас, когда он оказался в пилотке, а на его лицо вернулось нормальное выражение, я просто-напросто не узнал его.
Разговор наш был прерван тем, что меня вызвали к командиру дивизии. Оказывается, нашу машину пригнали, но она была уже наполовину «раскулачена». Очевидно, ее сочли трофеем, отнятым у диверсантов – а трофеи тогда были в новинку, – и шоферы, которым она была сдана на хранение, взяли из машины все, что их интересовало. Командир дивизии, узнав об этом, пришел в ярость и приказал комиссару того полка, в котором отыскалась машина, под личную ответственность найти все до последней мелочи.
Поехали в полк. Пришлось по дороге проехать через Дорогобуж. Странное и страшное зрелище представлял собой этот город, через который мы тем же маршрутом, в том же направлении, по тем же улицам ехали сутки назад. Улиц не было. Были только трубы, трубы. Немцы сбросили на город не так много фугасок, он сгорел главным образом от зажигалок. К счастью, Дорогобуж был заранее эвакуирован, жителей в нем не оставалось и во время налета погибло только несколько шоферов, остановившихся или проезжавших через город во время бомбежки. У двух городских водяных колонок сгорели выставленные к ним часовые.
Возможно, немцы бомбили Дорогобуж, имея ложные сведения, что там находится какой-то из наших штабов. Хотя, вообще говоря, они часто ради паники сжигали с воздуха, а иногда и с земли маленькие деревянные города, в которых не было никаких войск и жило только мирное население.
С нескольких полуразбитых бомбежкой каменных домов свисали полотнища перегоревших железных крыш. Перегоревшее легкое железо колыхалось и шумело на ветру.
В полку мы прождали час, пока нам собирали все растащенное из машины. Наконец собрали, и мы, обогнув Дорогобуж с севера, выехали на вяземскую дорогу.
Я обратил внимание на то, что Дорогобуж был довольно сильно укреплен. Кругом него было много противотанковых рвов, блиндажей, укрытий, отсечных позиций. Местами было пять-шесть рядов колючей проволоки. Очевидно, тут был подготовлен один из узлов второй линии обороны. Но если мне потом правильно говорили, то тут, под Дорогобужем, сильных боев с немцами не было. Они, как и во многих других случаях, обошли этот узел сопротивления.
Объезжая Дорогобуж, попали под небольшую бомбежку. Два немецких самолета, неизвестно почему, бомбили именно этот участок дороги, совершенно пустой. Легли в канаву, переждали и поехали дальше.
Дорога от Дорогобужа на Вязьму во многих местах минировалась. По ней шло довольно много машин. Трошкин совсем разболелся и лежал на заднем сиденье «эмки». Я, открыв брезентовый верх, сидел на спинке переднего сиденья и, высунув голову через крышу, наблюдал за воздухом.
Должно быть, немцы пытались терроризировать всю эту коммуникацию от Вязьмы на Дорогобуж. В течение трех часов мы только и делали, что вылезали из машины, ложились в кюветы, пережидали там очередную бомбежку, опять лезли в машину, опять ехали, опять лезли в кюветы. За три часа вся эта процедура повторялась раз двенадцать. Самолеты так и крутились над дорогой, гоняясь за машинами. Многие машины, дожидаясь темноты, стояли по сторонам дороги в лесу. Кое-где стояли целые колонны. Но мы все-таки продолжали ехать и потому, что нам все это осточертело, и потому, что мы надеялись благодаря нашей крыше, а верней, благодаря отсутствию ее, своевременно замечать самолеты и лезть в канавы. А кроме того, был уже вечер 26-го, а утром 27-го я должен был явиться в Москву.57
Когда до Вязьмы оставалось около часу пути, немецкие самолеты тройками одна за другой пошли над дорогой со стороны Вязьмы навстречу нам. За некоторыми из них гнались наши истребители. Как потом оказалось, немцы после сожжения Дорогобужа решили таким же образом спалить Вязьму, но их налет был отбит нашими истребителями; сбросить бомбы на Вязьму им не удалось, и они, возвращаясь, сбрасывали их куда попало, на дороги, на автомобильные колонны и даже на одиночные машины. Снова раз за разом пришлось вылезать и ложиться.
Трошкин выглядел так, что краше в гроб кладут. Пошел дождь. Мы раскатали брезент на крыше, застегнули его на барашки и уселись, чтобы ехать. Панков нажал на стартер, а Трошкин, глянув в заднее стекло, сказал мне:
– Смотри, какая туча. Теперь уж больше не будут бомбить.
Но едва он успел это договорить, как мы услышали даже не гул, а свист уже пикирующего самолета и, открыв дверцы, бросились на дорогу прямо у машины. Бомба рванулась метрах в пятидесяти сзади нас, скосив несколько деревьев и завалив ими дорогу. Трошкин поднялся и хрипло сказал, что наше счастье, что все это сзади, а не впереди, а то бы пришлось еще растаскивать с дороги деревья. Мы снова влезли в машину и решили больше ни за что не вылезать из нее, что бы там ни было.
Уже недалеко от поворота на Минское шоссе мы встретили втягивавшуюся на дорогобужскую дорогу дивизию. Машин было сравнительно мало; повозки, лошади, растянувшаяся, сколько видит глаз, пехота. Нам, недавно пережившим мгновенный прорыв немцев к Чаусам, показалось тогда, при виде этой дивизии, что такая «пешеходная» пехота – уж очень несовременный вид войска в нынешней маневренной войне. Но я не мог представить себе тогда, в июле, что всего через пять месяцев, в декабре, когда я окажусь в только что отбитом у немцев Одоеве, меня охватит противоположное, такое же острое ощущение при виде идущей мимо замороженной и застрявшей немецкой техники конницы Белова, у которой все с собой, все на лошадях и на санях, а не на машинах, и которая вдруг, в условиях зимней распутицы, стала более маневренным войском, чем немецкие механизированные части.
В вяземской типографии у телефона мы встретили Белявского и Кригера, которые, оказалось, вернулись накануне. Было уже десять вечера. Они дожидались разговора с редакцией «Известий». Панков заправил машину, мы обнялись с Кригером и Петром Ивановичем и поехали. И того и другого я увидел только в начале декабря, вернувшись в Москву с Карельского фронта.
Проехав через ночную, темную Вязьму, мы выбрались на Минское шоссе. Трошкин, совершенно больной, тяжело дыша, спал сзади в машине. Панков, который последние несколько суток не слезал с машины, все время тер глаза – ему тоже хотелось спать от усталости. А мне не спалось. Тревожное чувство, как и много раз потом при возвращении с фронта в Москву, охватывало меня. Я понял, до какой степени моя жизнь связана с Москвой и как я люблю Москву, только в эти дни, когда узнал, что Москву бомбят немцы.
Я ехал с тревогой. Мне хотелось как можно скорее увидать Москву. Я не представлял себе, в каких масштабах происходят бомбежки. И когда после первой бомбежки, в течение всех этих ночей, над нами высоко с гудением проходили эшелоны немецких самолетов на Москву, я каждую ночь, считая дни, думал о том, что, пока я вернусь, будет еще, и еще, и еще одна бомбежка, и еще какие-то новые разрушения и новые опасности для всех близких мне людей.
Ночь была черная как сажа. Как и в прошлый раз, неделю назад, нам навстречу летели гудящие грузовики без фар, груженные снарядами. Почти всю дорогу до утра я, открыв дверцу, стоял на подножке для того, чтобы мы могли быстрее ехать, видя хотя бы край дороги. К утру от этого напряженного вглядывания в темноту у меня заболели глаза.
Ехали без приключений. Только в двух местах немцы недавно сбросили на шоссе бомбы; были огромные воронки, и рядом с одной из них – обломки грузовика и оттащенные в сторону, на обочины, тела убитых.
На шоссе было куда больше порядка, чем неделю назад. Патрули проверяли документы и указывали путь на объездах. На последнем контрольно-пропускном пункте нам сказали, что сегодняшней ночью бомбежка была незначительной и без крупных пожаров. Мы подъехали к Москве на рассвете. Впереди в двух местах, догорая, еще дымились развалины домов. Мы въехали через Дорогомиловскую заставу и с тревогой глядели направо и налево, ища разрушений. У самой заставы был разрушен дом. Потом на берегу Москвы-реки – еще один. Дальше все было цело. На Садовой справа была разрушена Книжная палата.
Трошкин остался лежать в машине, а я поднялся в редакцию «Красной звезды». Там еще не спали, и я наскоро доложил Ортенбергу о поездке. Он сказал, что ближайшие дни я должен буду оставаться в Москве, а сегодня могу отдыхать.
Из «Звезды» поехали в «Известия», где нас, как и в прошлый приезд, тепло, по-дружески встретил Семен Ляндрес. В «Известия», оказывается, попала бомба – в главный вестибюль и в кабинет редактора. Но, по счастью, никого не убило, потому что в редакции в этот момент уже никого не было.
Я обещал к следующему дню написать в «Известия» подвал о разведчиках и, позвонив матери, поехал к ней. Трошкин остался в редакции; к нему вызвали врача. А я, выпив у матери кофе, заснул, что называется, без задних ног.
На следующий день, приехав в «Известия», чтобы сдать свой последний, шестой по счету подвал «Разведчики», я узнал, что Трошкина на несколько дней положили в больницу. Потом был трудный разговор с Ровинским, который не хотел отпускать меня а «Красную звезду».
Явившись к Ортенбергу, я выдвинул перед ним план поездки вдоль всего фронта от Черного до Баренцева моря. Я попросил, чтобы мне для такой поездки подготовили хорошую надежную машину и чтобы вместе со мной послали фотокорреспондента. Мы начнем с крайней точки Южного фронта и будем постепенно двигаться на север, с тем чтобы все мои статьи и все фото шли в «Красной звезде» под одной постоянной рубрикой: «От Черного до Баренцева моря». Ортенбергу эта идея понравилась. Он сказал, что доложит о ней Мехлису и постарается, чтобы сопроводительный документ был подписан самим начальником ПУРа для больших удобств в этой работе.
Оказалось, что для того, чтобы капитально отремонтировать «эмку», выделенную для этой поездки, требуется шесть-семь дней. За эти семь дней мне было предложено написать несколько стихотворений для газеты, что и было сделано. Кроме них, в эти дни я написал «Жди меня», «Майор привез мальчишку на лафете» и «Не сердитесь, к лучшему».
Первым читателем «Жди меня» был Лева Кассиль. Он сказал мне, что стихотворение, в общем, хорошее, хотя немного похоже на заклинание. Я ночевал на даче у Кассиля в Переделкине и у него же в тот раз остался на весь день писать стихи. Накануне вечером мы вместе с Кассилем были у Афиногенова. Афиногенов безвыездно жил на даче с женой и дочкой, и все у них было по-прежнему, как зимой сорокового года во время финской кампании. И я невольно вспомнил вечера, проведенные у него тогда, в ту трескучую зиму, за игрой в маджонг и слушанием английского радио, говорившего о еще чужой и далекой тогда от нас европейской войне с немцами. По-моему, в тот вечер я видел Афиногенова в последний раз.
Поездка затягивалась – сначала из-за неготовности машины, потом еще на трое суток из-за того, что мой будущий спутник Халип вдруг прямо во дворе редакции подвернул еще раньше вывихнутую ногу и ему что-то с ней делали.
В один из этих дней мне позвонил Евгений Петров и сказал, что он хочет организовать американскому писателю Колдуэллу встречу со мной как с человеком, недавно вернувшимся с Западного фронта.
Встреча состоялась на квартире Вирты. Американец был большой, крепко сшитый, одетый в широкий мешковатый костюм. Он занимался во время бомбежек Москвы передачами по радио в Америку и вообще, по мнению Петрова, вел себя в Москве очень хорошо. В разговоре он показался мне довольно дотошным человеком. Но по понятным причинам я многого не мог ему рассказывать.








