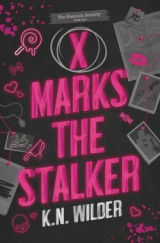
Текст книги "Метка сталкера (ЛП)"
Автор книги: К.Н. Уайлдер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
Глава 7. Окли
Чёрное. Маленькое. Безобидное. Устройство лежит у меня на ладони, словно крошечный жучок, не больше пуговицы на сорочке.
Мои руки дрожат, пока я смотрю на камеру, которую нашла зажатой между моими книгами о преступлениях. Я заметила её только потому, что опрокинула кружку с кофе, и брызги попали на объектив – блеснуло там, где ничего не должно было быть.
– Чёрт.
Камера. В моей квартире. В моём убежище.
Сердце колотится о рёбра. Я делаю два шага к кухонной стойке, где рядом с пакетом карамельного попкорна лежит мой перцовый баллончик.
Из коридора снаружи доносится тихий скрип.
Я замираю на полуслове. Это не дом осел. Это был шаг. Лёгкое давление веса на старую древесину.
Взгляд метнулся к окнам. Заперты? Дверь в ванную приоткрыта, занавеска отодвинута. Кто–то может прятаться там. Или за диваном. В гардеробном шкафу. Повсюду.
– Есть кто? – кричу я, мой голос звучит твёрже, чем пульс.
В ответ – лишь тишина. Та самая тишина, что кричит о том, что кто–то очень старается не издавать ни звука. Или это просто я параноик. Оба варианта возможны.
Я на цыпочках подхожу к двери своей квартиры. Глазок не показывает ничего, кроме пустого коридора.
Я приоткрываю дверь ровно настолько, чтобы выглянуть. Свет в коридоре мерцает, отбрасывая дрожащие тени вдоль плинтусов.
Пусто.
– Есть кто? – снова кричу я, мой голос отражается от стен.
Ответа нет.
Я выхожу в коридор, оглядываясь по сторонам. Ничто не движется. Никакие шаги не затихают в лестничном пролёте. Лишь гул древней отопительной системы здания и приглушённый телевизор за дверью миссис Патель.
Я отступаю внутрь и перепроверяю засов. Руки дрожат, когда я прислоняюсь к двери.
– Ты сходишь с ума, Окли.
Я уставилась на крошечное чёрное устройство. Может, смерть Мартина заставляет меня пугаться собственной тени. Но камера реальна, осязаема, её стеклянный зрачок отражает верхний свет.
Я отступаю, пока ноги не натыкаются на край дивана, и плюхаюсь на него, всё ещё не отрывая взгляда от устройства.
Чувство нарушения накрывает меня, перехватывая дыхание. Кто–то наблюдал за мной. Как долго? Дни? Недели? Пока я спала? Пока я переодевалась? Пока я разговаривала с фотографией родителей?
Взгляд метается по комнате, выискивая другие нежелательные глаза. Их больше? Сколько? Кто их установил?
Я вскакиваю и бегу на кухню, хватаю zip–пакет и бросаю туда камеру. Улика. Затем достаю телефон, чтобы с трясущимися руками всё задокументировать.
– Соберись, Окли, – бормочу я, залезая в карман куртки за экстренными мармеладными мишками, которые я храню на случай кризиса. Это определённо подходит.
Я отправляю в рот трёх, пережёвывая, заставляя себя думать как журналист, а не как жертва. Я расследовала дело Галерейного Убийцы. Я копала под Блэквелла. Мартина только что убили. Это не случайность.
Меня осеняет. Кто–то выбрал меня. Конкретно меня. Они проникли сюда, когда меня не было дома. Они знали, над чем я работаю. Что я могу знать.
Моя квартира теперь кажется клеткой, а не домом. Я крадусь по своему пространству, глаза выискивают каждую полку, светильник, вентиляцию, розетку. Я проверяю за картинами, под мебелью, внутри абажуров.
Детектор дыма в моей спальне разбирается у меня в руках, обнажая камеру, запрятанную внутри, словно клещ под кожей. Моя вторая находка за час. Я отступаю, окидывая спальню свежим взглядом.
Стены смыкаются, пока я представляю каждый запечатлённый момент. Как я переодеваюсь, сплю, плачу над фотографией мамы и папы.
В груди сжимается. Дыхание становится коротким и поверхностным.
– Чёрствые крекеры, – бормочу я, уже расхаживая. – Пустые обёртки и чёрствые крекеры!
Я смотрю на камеру в zip–пакете.
– Эй, мудак, – говорю я, наклоняясь ближе к ней. – Скажи мне, сколько их. Две? Пять? Дюжина? Ты опутал всю мою квартиру, как какое–то больное реалити–шоу?
Я прочесываю ванную, проверяя за зеркалом, под раковиной, вокруг душевой кабины. Пока ничего, но по коже ползут мурашки при мысли о глазах, наблюдающих за мной там.
– Ты смотрел, как я принимаю душ? – мой голос звучит всё громче, негодование жжёт щёки. – Дрочил на то, как я переодеваюсь? Смотрел, как я занимаюсь сексом, извращенец?
Я замолкаю, осознав, что только что сказала, и издаю резкий смех.
– Ах, да, у меня нет секса. Я знала, что в моей несуществующей личной жизни есть свои плюсы.
Я ловлю своё отражение в зеркале в прихожей – дикие глаза, волосы всклокочены от того, что я постоянно проводила через них руками, разговариваю с неодушевлёнными предметами.
– И теперь я разговариваю сама с собой. Журфак не готовил меня к этому. – Я стону, прижимая ладони к глазам.
Сердце продолжает бешено колотиться, но теперь не только от страха. По венам бежит странный электрический ток.
Кто–то счёл, что за мной стоит наблюдать. Кто–то считает меня угрозой.
Я охотилась за историей, и теперь кто–то охотится за мной.
Мои губы изгибаются в улыбку, которая удивляет даже меня. Это не просто нарушение – это подтверждение. Подтверждение того, что я напала на след чего–то достаточно крупного, чтобы оправдать слежку.
Я достаю камеру из zip–пакета, крошечную и чёрную, с почти незаметным объективом, и кладу её на кухонный стол, проводя кончиком пальца по её краю. Качество изготовления – точное, дорогое, профессиональное.
– Ты не из Best Buy, не так ли? – бормочу я, изучая её под разными углами. – Кто–то потратил серьёзные деньги, чтобы смотреть, как я ем рамен в пижаме.
Я отодвигаю стул и сажусь, облокачиваясь локтями на стол. Ярость всё ещё клокочет под кожей, но любопытство горит ярче.
– Итак, – говорю я камере, доставая из кармана толстовки пачку арахиса в шоколаде, – ты выбрал меня. Почему?
Я разворачиваю шоколад, знакомый запах возвращает меня к реальности, пока мозг лихорадочно перебирает возможности.
Я перечисляю в уме свои текущие проекты, те, что я делаю для «The Boston Beacon», чтобы платить по счетам. Те, что будят меня посреди ночи.
– Посмотрим. Я заканчиваю разоблачение того члена городского совета, что копил с паркового фонда восстановления. Мелочь, на самом деле. Около пятнадцати тысяч недостачи, и, честно говоря, история едва стоит чернил.
Я откусываю ещё шоколада, продолжая говорить.
– Есть материал о приюте для бездомных в Саут–Энде, который теряет финансирование. Важно, но не совсем сенсация.
Я облизываю пальцы.
– Трёхсерийный материал о выбоинах и заброшенной инфраструктуре в бедных районах. Детектив, уходящий на пенсию после сорока лет службы. Ах да, и та пустышка о столетней фабрике, которую обчистили до нитки.
Я отправляю в рот последний кусочек шоколада.
– Чёрт. – Я роняю недоеденный шоколад, у меня в животе всё сжимается. Кто–то подслушал мой разговор с Мартином? Так они нашли его? Из–за меня?
Руки снова трясутся, пока я прокручиваю в голове наш последний телефонный разговор. Я упоминала о встрече с ним? Где я буду? Кто–то проследовал за мной до мотеля?
Но тогда... если бы люди Блэквелла знали о моём расследовании, если бы они видели, как я слежу за ним, я бы сейчас лежала рядом с Мартином с пулевыми отверстиями в груди. Они бы не стали заморачиваться с камерами.
Я делаю глубокий вдох.
– Не Блэквелл, – шепчу я, снова поднимая шоколад и откусывая, чтобы успокоиться. – Если бы это был Блэквелл, я бы уже пробовалась на роль трупа.
Так что же ещё в моей работе оправдывает такой уровень вторжения?
– Галерейный Убийца. – Я вскакиваю так резко, что стул скрежещет по полу. – В этом дело? Ты следишь за мной, потому что я подбираюсь близко?
Я хожу вокруг стола, кровь стучит в висках.
– Так ты выбираешь? Превращаешь своих жертв в невольных актёров, прежде чем они станут твоим холстом?
Мысль переносится к Ассоциации джентльменов Бэкон Хилл. К тому парню из службы безопасности, который поймал меня при попытке проникновения. По шее ползёт жар, опасный, не имеющий ничего общего со страхом.
Подозрение расцветает, внезапное и электризующее. Я сохраняю нейтральное выражение лица, помня о немигающем глазе камеры. Лучше не раскрывать своих карт. Пока нет.
Я занимаю себя шуршанием обёртки, отворачивая лицо, пока на меня обрушиваются вспышки памяти. Его руки, с длинными пальцами, движущиеся точно, когда он выпроваживал меня с территории. То, как он наклонился близко, его дыхание согрело моё ухо, когда он предупредил меня не возвращаться. Его тонкий запах, дорогой и чистый, с чем–то более тёмным внутри.
Щёки пылают. Пульс стучит в висках. Я сжимаю бёдра, пытаясь заглушить гул, бегущий по телу.
Что это за журналистка, которую возбуждает мысль, что за ней может следить тот самый человек, которого она расследует? Та, которой срочно нужен психотерапевт.
И всё же.
В том, как он смотрел на меня, было что–то особенное. Не просто подозрение или раздражение на нарушительницу. Что–то ещё. Любопытство, возможно.
Я бросаю взгляд на свою доску с уликами, стараясь не смотреть на неё слишком долго. Размытые фотографии, которые я сделала различных членов клуба. Но его среди них нет.
Эта опасность должна была бы ужасать меня. Вместо этого она заряжает меня, перекачивая по венам тёмный адреналин. Охотник и жертва, их роли смешиваются с каждым ударом сердца.
Я медленно выдыхаю. Если моё чутьё право, он не должен знать, что я подозреваю его. В этом моё преимущество.
Я хватаю телефон, листая его, пока мысли несутся в голове. Если это он – тот парень из службы безопасности с пронзительным взглядом – я всё ещё дышу. Всё ещё здесь. Это что–то значит. Да?
Я не думаю, что он хочет причинить мне вред. Я думаю, ему любопытно. Так же, как и мне.
Эта опасная игра в кошки–мышки, в которой я не уверена, какую роль играю.
– Господи, Окли! – я бью ладонью по столу. – Он может наблюдать за тобой прямо сейчас, решая, под какую картину эпохи Возрождения уложить твой труп!
Я трясу головой, пытаясь прочистить мысли. Это безумие. Я безумна.
Я кладу камеру обратно на стол.
– Знаешь, что странно? – говорю я, снова садясь. – Я должна быть в ужасе прямо сейчас. Но я не в ужасе. – Я наклоняюсь ближе к камере. – Я даже... польщена? Это же ненормально? Наверное, где–то между «тревожно» и «срочно к психиатру».
Странное чувство силы разливается по мне. Кто–то наблюдает за мной, потому что думает, что я важна. Потому что моё расследование важно.
– Должно быть, ты считаешь, что я хороша в своём деле, – продолжаю я, входя во вкус этого странного одностороннего диалога. – Ты, наверное, беспокоишься о том, что я могу найти. Или впечатлён. Может, и то, и другое?
Я разворачиваю ещё один кусочек шоколада, на этот раз смакуя его, пока смотрю прямо в объектив камеры.
– Что ж, надеюсь, тебе нравится шоу, – говорю я, и уголки моих губ трогает улыбка. – Потому что я только начинаю.
Мой телефон на столе завибрировал рядом с камерой. Я поднимаю его, улыбающееся лицо Зары загорается на экране рядом с её именем жирными буквами. Я делаю глубокий вдох, прежде чем провести по экрану, чтобы ответить.
– Привет, – говорю я, вкладывая в голос бодрость, в то время как мой взгляд не отрывается от объектива камеры.
– Окли! Скажи мне, что ты прямо сейчас не сгорбилась над ноутбуком. – Голос Зары звучит в моём ухе, тёплый и знакомый.
– Я? Никогда. – Я выдавливаю смешок, гадая, записывает ли камера ещё и звук. Наверняка да. – Просто... делаю перерыв.
– Перерыв? Ты? Инопланетяне заменили тебя на клона? – Она смеётся. – Я звоню, потому что мы с Марко идём ужинать в то новое тайское место на Бойлстоне. Там, с теми пончиками из манго–клейкого риса, о которых ты всё твердила.
Живот урчит при упоминании еды.
– И, – продолжает Зара, её голос приобретает тот оттенок, что означает неприятности, – Марко берёт с собой друга. Того архитектора, о котором я тебе рассказывала? Того, что только что переехал сюда из Чикаго?
Я отхожу от камеры.
– Дай угадаю. Высокий, красивый и неженатый?
– Рост под метр девяносто, с ямочками на щеках, и да, восхитительно свободный. Его парфюм пахнет одобренной ипотекой и эмоциональной стабильностью.
Интересно, что мой таинственный наблюдатель думает об этом разговоре. Ему забавенa попытка моей подруги свести меня с кем–то? Он записывает информацию о моих друзьях? Зара в опасности?
– Я не смогу сегодня, Зи. – Я вздыхаю, стараясь, чтобы это звучало сожалеюще, а не испуганно. – У меня дедлайн по материалу о совете, и я всё ещё работаю с источниками по делу Галерейного Убийцы.
Я добавляю дополнительный акцент на «Галерейный Убийца», пристально наблюдая за объективом камеры в ожидании какой–либо реакции. Конечно, никакой нет. Это же камера, идиотка.
– Серьёзно? Ты отказываешься от пончиков из манго–клейкого риса и горячего архитектора ради работы? Снова? – Разочарование Зары доносится через телефон.
– Знаю, знаю. Я ужасна. Сам Сатана звонит, чтобы перенять мои навыки дружбы. – Я накручиваю прядь волос на палец, разыгрывая спектакль небрежного сожаления. – Перенесём?
– Ладно, но тебе нужна жизнь помимо убийств и коррупции, Окли. Я за тебя волнуюсь.
Если бы она только знала о камерах. О Мартине. О том, что я играю представление для того, кто вломился в мою квартиру.
– Я в порядке, правда. Просто занята, – говорю я. – Передай Марко привет, ладно? И съешь за меня пончик из клейкого риса.
– Хорошо. Но в следующий раз ты выйдешь, даже если мне придётся тащить тебя силой.
– Договорились, – говорю я, зная, что лгу. Зная, что не могу втягивать Зару в это. Она должна держаться подальше от моего мира. – Хватит обо мне. Как ты?
– Вообще–то... – голос Зары меняется, теряя насмешливый оттенок.
Внезапная серьёзность в её тоне заставляет меня выпрямиться.
– Что случилось?
– Это мои родители. – Она вздыхает, и звук этот тяжёл от беспокойства. – В ресторане дела идут плохо.
Я бросаю взгляд на камеру, чувствуя себя некомфортно от этого разговора под наблюдением. Я понижаю голос.
– В каком смысле? Когда я заходила, там всегда было полно народу.
– Да, по выходным, может быть. Но в будни клиентов стало почти на сорок процентов меньше за последние два месяца. – Напряжение в её голосе заставляет мою грусть сжаться. – Они не признают, что есть проблема, но я вижу отчёты, когда мама думает, что я не смотрю.
– Это сезонное? Зимой всегда спад...
– Это не сезонное, – обрывает меня Зара. Горечь в её голосе – это то, что я редко слышу от вечно солнечной Зары. – Это из–за того нового места напротив. «Айленд Фьюжн», или как они там себя называют. У них модные коктейли с дымящимся сухим льдом и вечеринки с диджеями по четвергам. Они в тренде.
Я опускаюсь на кровать.
– Твои родители готовят лучшую ямайскую еду в городе. Люди это знают.
– Расскажи это очереди инфлюенсеров, делающих селфи через дорогу. – Она издаёт звук, полный отвращения. – Знаешь, что хуже всего? Мои родители даже не признают, что есть проблема. Папа продолжает твердить: «Мы переживали и похуже», а мама делает вид, что всё в порядке, пока в три часа ночи пялится в таблицы.
– Насколько всё плохо?
– Настолько, что на прошлой неделе они уволили мисс Клаудию. Она работала у них ещё до моего рождения, Окли. – Её голос дрогнул. – И оборудование разваливается. Вчера сломался большой миксер, и папа скрепил его изолентой, потому что сейчас они не могут позволить себе ремонт.
– Чёрт, Зи. – Я отламываю кусочек шоколада, но не ем его. – Что я могу сделать?
– Ничего. Мне просто нужно было рассказать кому–то, кто не станет читать мне речь о «семейном оптимизме Филлипс». – Она пытается засмеяться, но получается натянуто. – Я трачу все свои доходы от груминга собак, чтобы помочь им с повышением аренды, но этого недостаточно.
Я выпрямляюсь.
– Повышение аренды? В этой экономике? Это хищничество.
– Ещё бы. Скачок на двадцать процентов с уведомлением меньше чем за месяц.
Включается моё журналистское мышление.
– Кто владеет зданием?
– Какая–то управляющая компания. «Уэлнес» что–то.
Леденящее чувство разливается у меня в груди.
– «Уэлнес Метро Холдингс»?
– Да, вроде то. А что?
Я закрываю глаза, кусочки пазла складываются в голове.
– Просто интересно.
«Уэлнес Метро Холдингс». Одна из компаний Блэквелла. Сходится.
Она смеётся, но смех слабый.
– Я боюсь за них, Окли. Они вложили в этот ресторан всё. Это вся их жизнь.
Уязвимость в её голосе сжимает мне горло. Зара всегда была сильной, той, кто заботится обо всех остальных.
– Всё будет хорошо, – обещаю я, хотя знаю, что не стоит давать обещаний, которые не могу сдержать. – Мы что–нибудь придумаем.
– Ага, – говорит она, не звуча убеждённо. – В любом случае, мне пора. Марко ждёт.
– Иди, наслаждайся свиданием. И своим другом–архитектором. – Я делаю паузу. – Эй, Зи? Спасибо, что рассказала мне.
– Спасибо, что выслушала. Люблю тебя, Жёлудь (примечание: это милое прозвище, которое основывается на её имени «Oakley» (дуб – это oak)).
– Я тебя тоже, – говорю я, завершая звонок.
Я сижу на кровати, уставившись в стену. Блэквелл. Снова. Его влияние простирается повсюду, затрагивая даже самых близких мне людей. Сначала мои родители, теперь семья Зары.
– Это была моя подруга, – говорю я камере. – Мы познакомились в колледже. Она не имеет никакого отношения к моим делам. Я могла бы рассказать ей о тебе. – Я указываю на камеру. – О Мартине. Обо всём этом. Она бы бросила всё и примчалась с перцовым баллончиком и бейсбольной битой своего парня.
Я наклоняюсь ближе к объективу.
– Но я не сказала ей, – продолжаю я, глядя в камеру. – Потому что я защищаю тех, кто мне дорог.
Я встаю, пытаясь выглядеть угрожающе, несмотря на абсурдность угроз электронному устройству. Мой голос становится тише.
– Так что позволь мне прояснить для того, кто наблюдает. Зара остаётся в стороне от этого. Мои друзья, мои контакты – они вне игры.
Я расхаживаю вокруг стола, чувствуя себя нелепо, но решительно.
– Хочешь напугать меня? Хочешь следить за мной? Хорошо. Но если что–то случится с Зарой или кем–либо ещё, кто мне дорог, я спалю всё дотла, но найду тебя.
Мой смех вырывается жёстче, чем я хотела.
– Кого я обманываю? Ты, наверное, уже завёл полное досье на меня. Ты слышал каждый мой разговор здесь за... сколько бы эти штуки ни были здесь установлены.
Я поднимаю камеру, осматривая её.
– Ты знаешь о моих запасах сладостей. Моей одержимости этим делом. Моих родителях. – Голос срывается. – Ты, наверное, знаешь, какой зубной пастой я пользуюсь и как пью кофе.
Я кладу камеру обратно, проводя рукой по волосам.
– Так вот договор. Это между тобой и мной. Чего бы ты ни хотел, в какую бы игру ты ни играл – держи это сосредоточенным на мне. Потому что, если ты тронешь Зару или кого–либо ещё в моей жизни, ты узнаешь, что я не просто какая–то любопытная журналистка. Я – дочь детектива и судебного психолога, и я унаследовала все их лучшие качества.
Я наклоняюсь ещё ближе к объективу, мой голос – чуть больше шёпота.
– И худшие тоже.
Глава 8. Зандер
«Нашла тебя», – говорит Окли в камеру, и что–то внутри меня разбивается.
Моё тело замирает в идеальном кадре под названием «Эксперт по слежке, переживающий экзистенциальный кризис». Она смотрит прямо на меня – не на камеру, а сквозь неё. Невозможно. И всё же вот мы здесь.
– Привет. – Она машет рукой, маленький, многозначительный жест, который заставляет моё сердце биться так, как будто я прохожу кардиотест. – Полагаю, нам стоит представиться, раз уж ты наблюдал, как я принимаю душ всю прошлую неделю.
– Это... это неправда! – выпаливаю я в свою пустую квартиру, словно она может услышать меня через видеопоток. Моё лицо пылает так, что его можно считать источником возобновляемой энергии. – Я не ставил камеры в твоей ванной! Это было бы... Я не... У меня есть этические рамки для моего неэтичного поведения, спасибо большое!
Обвинение ранит сильнее, чем должно, учитывая, что я буквально зарабатываю на жизнь наблюдением за людьми.
У меня есть стандарты, чёрт возьми. Я не какой–то затворник–извращенец с коллекцией обрезков ногтей. Я изысканный затворник–извращенец с военным оборудованием для слежки.
– Я даже закрывал глаза, когда ты переодевалась, – бормочу я, затем ловлю себя на этом. – Отлично, Роудс. Разговариваешь сам с собой о том, как иногда не смотришь на женщину, за которой незаконно следишь, пока она переодевается. Это прекрасно пройдёт в суде. «Ваша честь, я хотел бы представить мою базовую человеческую порядочность в качестве доказательства А».
Я это всё сказал вслух? В пустоту? Не то чтобы закрытые глаза отменяли всё вторжение. Но всё же. Принципы.
Оправдание звучит жалко, даже отражаясь в пустой квартире. Что я делаю? Защищаю свою этику слежки перед кем–то, кто меня не слышит, одновременно нарушая её приватность так, что это оправдывает звонок в ФБР, ЦРУ и любое другое агентство, занимающееся жалкими сталкерами с продвинутыми техническими навыками.
Но я не выношу мысли, что она считает меня таким извращенцем. Я профессионал. Джентльмен–сталкер, если такое вообще существует.
Она всё ещё смотрит в камеру.
– Я даже не злюсь, – продолжает она, расхаживая по гостиной, как прокурор, у которого уже есть ДНК–улики, семнадцать свидетелей и подписанное признание. – То есть, должна бы. Вторжение в частную жизнь, сталкинг, общая жуткость – целая корзина психо–сталкера. Но вот в чём дело...
Она наклоняется близко, её дыхание запотевает объектив.
– Я на самом деле польщена.
Моя температура подскакивает так высоко, что я допускаю возможность, что Лазло заразил меня одним из своих воображаемых тропических заболеваний.
Мысленная заметка: создать позже диаграмму для анализа эмоциональных реакций на поимку. Колонка А: Профессиональное Унижение. Колонка Б: Неуместное Возбуждение. Колонка В: Почему Они Никогда Не Должны Пересекаться. Колонка Г: Варианты Терапии.
– Вопрос не в том, кто ты, – продолжает она. – То есть, это вопрос. Но более интересный – почему я? Что я сделала, чтобы заслужить такое внимание?
Она обратила мою же игру против меня, и, Боже правый, я интеллектуально возбуждён так, что Фрейд развёл бы руками и сказал: «Даже я не могу помочь этому парню».
– Обычно я наблюдаю за людьми, которые не подозревают, что за ними наблюдают, – шепчу я своим пылинкам. – Как будто изучаю образцы под стеклом.
На экране Окли расхаживает, её движения точны.
– Я расследовала несколько дел. Это дело Галерейного Убийцы? Слежка за Бэкон–Хиллом, собранные мной файлы членов – это привлекло твоё внимание?
Её голос опускается до заговорщицкого шёпота, от которого у меня по позвоночнику бегут мурашки.
– Если что, я думаю, что ты, возможно, и есть он. Галерейный Убийца. Эти камеры соответствуют его стилю. Дотошный, дорогой.
– Она составляет мой профиль. – Мои пальцы отбивают нервный ритм по столу. Я заставляю себя остановиться. – Объект составляет профиль наблюдателя. Это... статистически беспрецедентно.
Окли извлекает камеру из детектора дыма, поднося её к своему лицу. Ракурс дезориентирует, слишком интимный.
– Вот моя теория, – говорит она. – Ты не работаешь на Блэквелла. Его парни просто убили бы меня. Ты не полиция – у них нет ни бюджета, ни воображения для такой установки. Так что ты нечто совершенно иное. Галерейный Убийца.
Мне следует активировать аварийное отключение. Сообщить Торну. Именно для таких сценариев и были разработаны протоколы.
Вместо этого я наклоняюсь ближе к монитору, почти утыкаясь носом в её пикселизированное лицо.
– Ладно, не отвечай, – говорит она с полуулыбкой. – Я сама во всём разберусь. У меня всегда получается.
Она возвращает камеру на место, но не прежде, чем прошептать:
– А до тех пор, надеюсь, тебе нравится шоу.
Я понимаю, что задержал дыхание.
Я уставился на экран, застыв. Это противоречит всем поведенческим алгоритмам, что я когда–либо составлял. Никто – ни один объект за всю мою обширную карьеру наблюдения – никогда не обнаруживал камеру и просто... не возвращал её на место.
– Что ты делаешь, Окли? – выдыхаю я, осознавая, что сжимал стол так сильно, что костяшки побелели.
Это не просто беспрецедентно. Это невозможно. Это статистический эквивалент того, как каждая молекула в моей чашке кофе спонтанно перестраивается в редкую орхидею.
На экране Окли возвращается к своей доске убийств, но её язык тела изменился – стал более театральным, более осознанным. Теперь она играет – для меня.
Я прижимаю пальцы к экрану, обводя контур её силуэта.
– Я в таком замечательном, эффектно глубоком дерьме. И не в том весёлом смысле, который изредка испытывают нормальные люди с функционирующими социальными навыками.
Она оглядывается на камеру и подмигивает.
Поправка. Я абсолютно в дерьме во всех смыслах, включая несколько тех, которые ещё не открыты человечеством.
Я захлопываю ноутбук, дыша так, словно только что убежал от стаи волков.
– Непрофессионально, – бормочу я, расхаживая по квартире. – Непрофессионально, неуместно и, откровенно говоря, тревожно с психологической точки зрения.
Моё тело предаёт меня недвусмысленным отвердением, от которого джинсы становятся неудобными. Кровь приливает вниз с такой интенсивностью, что у меня кружится голова. Я хватаю бутылку воды из холодильника, прижимаю её ко лбу и думаю окунуть всю голову в лёд.
– Успокойся, парень, – бормочу я своему мятежному телу. – Сейчас не время и не подходящий протокол наблюдения.
Соберись, Роудс. У тебя есть реальная цель. Законная операция. Цель, которая не включает одержимость женщиной, которая только что поймала тебя на слежке и вместо того, чтобы позвонить в полицию, как нормальный человек, превратила это в какой–то извращённый ритуал ухаживания.
Боже, помоги мне, я, кажется, влюбился.
Я качаю головой и разблокирую свою вторую рабочую станцию – ту, что не подключена к интернету, – и открываю файл Венделла. Проверка биографии доктора Малкольма Венделла заполняет мой экран.
Заведующий нейрохирургией в Бостонском мемориале. Гарвардская медицинская школа. Пионер в экспериментальных методах лечения дегенеративных заболеваний мозга.
Монстр, прячущийся за дипломами.
Мои пальцы стучат по клавиатуре, выводя на экран снимки мозга, которые я выкрал из больничных записей. Пациент №1: бездомный ветеран с ранней деменцией. Пациент №4: нелегальный иммигрант с черепно–мозговой травмой. Пациент №9: пожилая женщина без семьи, ранняя стадия Альцгеймера.
У всех – идентичные хирургические модификации, ни разу не задокументированные в официальных отчётах. Все мертвы в течение шести месяцев, их тела кремированы за счёт больницы.
Я располагаю фотографии наблюдения, сделанные за последнюю неделю, в хронологическом порядке. Венделл в больничном паркинге, изучающий истории болезней. Венделл в бесплатной клинике в Дорчестере, наблюдающий за пациентами в зале ожидания. Венделл, делающий заметки, пока наблюдает за лагерем бездомных из своего BMW.
Выбирает себе субъектов.
Я подписываю каждую фотографию, создавая идеальную хронологию его перемещений. Вот в чём я силён. Вот что имеет смысл.
– Ключ – в установлении распознавания паттернов. Венделл посещает клинику каждый вторник, выискивая потенциальных субъектов, соответствующих его экспериментальным критериям.
Я замолкаю, осознав, что снова разговариваю сам с собой.
– И теперь я объясняю методы слежки воображаемой версии женщины, за которой слежу, – говорю я своему отражению в экране монитора. – Определённое доказательство психической стабильности.
Я откатываюсь от стола, потирая глаза. Что бы она подумала об этом деле?
Поняла бы она, почему Венделл должен умереть, или захотела бы его разоблачения, тюрьмы? Увидела бы она эффективность в его устранении или стала бы спорить за системные изменения?
– Сосредоточься на реальной операции, – говорю я себе.
Я возвращаюсь к фотографиям наблюдения. На одной Венделл стоит у поста медсестёр, олицетворение обаяния, смеётся с персоналом. На следующей, сделанной секундами позже, когда он отворачивается, его выражение лица превращается в холодный расчёт. Маска спадает.
Я отмечаю точки для слежки на завтра, оптимальные позиции для наблюдения за перемещениями Венделла без обнаружения. Мне нужно будет фиксировать весь его распорядок как минимум ещё неделю, прежде чем определить лучшую точку для вмешательства.
Я ввожу параметры симуляции в прогнозирующий алгоритм, который я разработал для этой операции. Интерфейс гудит, воссоздавая лабораторию Венделла в идеальных 3D–деталях, основанных на архитектурных планах, полученных мной через сомнительно легальные каналы.
– Тестовый сценарий альфа, – бормочу я, наблюдая за работой симуляции. – Субъект приближается с юго–западного входа. Отключает камеры безопасности в точках соединения здесь и здесь.
Аватар, представляющий меня, движется по пространству.
– Время выполнения: четыре минуты, семнадцать секунд. Приемлемый запас.
Я корректирую параметры, учитывая человеческий фактор и непредвиденные переменные. Симуляция запускается снова. Пять минут, тридцать две секунды. Всё ещё в пределах операционных параметров.
Мой взгляд переключается на модифицированные схемы хирургического оборудования, разбросанные по второму монитору. Собственная разработка Венделла, иронично элегантная в своей простоте. Нейрохирургический зонд, предназначенный для воздействия на определённые области мозга, пока пациент остаётся в сознании.
– Идеальная поэзия, – шепчу я, кончиками пальцев проводя по схеме. – Орудия твоих злодеяний становятся механизмами твоего суда.
Я, конечно, модифицировал конструкцию. Версия Венделла позволяла наносить точный, минимальный ущерб, продлевая страдания его субъектов на месяцы, пока он собирал данные. Моя версия будет более концентрированной.
– Субъект остаётся в сознании на протяжении всей процедуры, – отмечаю я, вводя параметры в документ планирования. – Полное когнитивное осознание сохраняется. Субъект понимает, что происходит, но теряет способность осмысливать опыт.
Венделл будет понимать, что его наказывают, даже когда функции его мозга будут угасать одна за другой.
Я создаю детальную хронологию, работая в обратном порядке от финального момента. Симуляция запускается снова. Я учёл все переменные, все точки отказа. План – обоснованный, подходящий и соответствующий всем протоколам клуба.
Я закрываю глаза, вспоминая выражение лица Окли на месте преступления Кэллоуэя. Не ужас или отвращение, а очарование. Восхищение. Она изучала рисунки крови, словно мазки кисти, положение тела – словно скульптуру.
– Она назвала это «художественным», – бормочу я, снова открывая симуляцию Венделла.
Слова эхом отдаются в голове, пока я смотрю на свой точный, клиничный план убийства. Методологически обоснованный. Операционно безопасный.
Но совершенно незапоминающийся.
– Что заставило бы её заметить именно этот?
Я трясу головой, пытаясь отогнать мысль.








