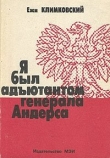Текст книги "Солдаты вышли из окопов…"
Автор книги: Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц)
Новосельский и Бредов вошли в ресторан. Бородатый швейцар, низко поклонившись, принял у них фуражки. Метрдотель, похожий на министра, почтительно склонил лысую голову, оправил крахмальную скатерть на столике и положил перед Новосельским меню в роскошной кожаной папке.
Бредов настойчиво расспрашивал Новосельского, как проходит работа в генеральном штабе. Особенно интересовали его последние достижения военного дела, реорганизация армии.
Новосельский пил вино и, прищурившись, смотрел куда-то в сторону.
– Да как тебе сказать, – неопределенно ответил он. – Рекомендую… подлить шато-икем!
– Ну, как не стыдно! – укоризненно сказал Бредов, наливая в бокал золотистое вино. – Господи, Леонид, тебе ли быть недовольным? Ведь не в медвежьем уголке ты сидишь!
– А я вот подумываю как раз о том, что не плохо было бы послужить в армии, в одном из тысячи медвежьих уголков, о которых ты говоришь.
И положил на руку Бредова свою – широкую, белую, с выхоленными ногтями.
– Со стороны все кажется иначе, – как бы объясняя самому себе вдруг возникшую мысль, говорил Новосельский. – Ну да, существует генеральный штаб, который поставляет для армии полководцев, создает самую передовую военную науку, использует самое драгоценное из прошлого боевого опыта, совершенствует искусство управления войсками, проявляет творческую инициативу… так, по-твоему, обстоит дело?
– Конечно! – горячо подтвердил Бредов. – Я с тобой совершенно согласен, таким мне и кажется генеральный штаб. Новые идеи, новые знания. Ах, как хочется вырваться из провинциальной трясины! Я допускаю, что у вас в штабе есть свои слабые стороны, есть, конечно, и плохие работники, но, если взять в целом, все же свет к нам, в армию, идет от вас!
Новосельский медленно пил вино.
– Да, луч света в темном царстве… – чуть слышно сказал он и улыбнулся.– – Кажется, так Добролюбов назвал свою статью о «Грозе» Островского? Не думай, что… это я так, без всяких аллегорий… Че-еловек! – позвал он лакея. – Кофе нам, черного, с поджаренным миндалем! Кстати, на днях приезжает Пуанкаре. Я тебе достану билет.
Через час они вышли из ресторана и расстались у Казанского собора. Бредов решил прогуляться по городу. Прошел по Невскому до Садовой, потом сел в трамвай. Вылез где-то на окраине и остановился в удивлении. Казалось, что в несколько минут его перенесли в провинцию: так не были похожи эти низкие, грязные домишки, плохо мощенная улица, бедно одетые пешеходы на блестящий центр столицы. Он миновал величественную арку Нарвских ворот и медленно шел по узкому, заросшему по краям травой тротуару, досадуя на себя, что забрался в такую дыру. Улица упиралась в желтый двухэтажный дом и под крутым углом заворачивала вправо. Глухой шум вырвался оттуда, и Бредов увидел вдали красные корпуса и тяжелые черные трубы. Толпа колыхалась возле завода, доносились громкие крики. Бредов подошел к воротам. Слева от завода выполз трамвай, но толпа вдруг загородила дорогу. Из вагона выбегали люди. Тяжело качнувшись, облепленный с одной стороны плотными гроздьями людей, вагон начал медленно валиться и рухнул с грохотом, и скрежетом.
– Что такое? С ума я, что ли, сошел? – недоумевал Бредов.
Заметив городового, жавшегося к стене, он подозвал его.
– Бастуют, ваше благородие! – пояснил тот. – Уже третий день волнения. Разгоняют их, а они опять… Отчаянный народ эти путиловцы! Сейчас наряд приедет. По телефону сообщено.
Бредов смотрел, глубоко пораженный. На его глазах строилась баррикада, красный флаг взвился над ней, кто-то начал говорить, и толпа сразу затихла.
– Товарищи бакинцы, мы с вами! Ваша победа – наша победа!
«Кто такие бакинцы? – подумал Бредов. – Ах, да, ведь в Баку забастовка… Значит, все они заодно?.. Чего хотят они? Чем недовольны?»
Слышно было, как во дворе шумела толпа. Сторож выглянул в окошечко и торопливо отворил узкую калитку, очевидно приняв Бредова за полицейского. Бредов нерешительно шагнул, калитка сейчас же закрылась за ним, и через табельную он прошел во двор. Там его поразило огромное скопление людей, слушавших несколько ораторов. Он со смятением смотрел на решительные, взволнованные лица… Такие лица бывают у солдат перед боем.
Митинг кончился. Толпа хлынула к воротам, но они не открывались. Люди кричали, волновались, стучали в железный заслон. И вдруг ворота распахнулись. Конная полиция галопом бросилась на толпу, пешие отряды городовых с поднятыми шашками появились сбоку (вероятно, они раньше притаились на территории завода). Шашки и нагайки мелькали в воздухе, кони, храпя, напирали на толпу, метавшуюся по двору. Люди не знали, куда спрятаться. Ворота снова были наглухо захлопнуты. Где-то пронзительно и страшно крикнул тоненький, совсем мальчишеский голос. Выстрелы, крики, вой наполнили двор. Недалеко от Бредова стоял пристав и, наклонив толстую, вздрагивающую шею, стрелял из револьвера в толпу.
Бредов очнулся на улице. Он бежал по тротуару, ничего и никого не видя перед собой.
Это был день шестнадцатого июля тысяча девятьсот четырнадцатого года, день расстрела путиловцев…
4
Газеты мало писали о рабочих забастовках. Девяносто тысяч человек бастовали в одном лишь Петербурге, каждый день происходили столкновения рабочих с полицией, но все это отмечалось на последних страницах газет короткими заметками, набранными петитом. Зато передовые статьи, длинные корреспонденции и жирные заголовки извещали о предстоящем визите президента Франции Раймонда Пуанкаре.
В начале июля четырнадцатого года в Ревеле и Петербурге гостила английская эскадра под флагом адмирала Битти. Теперь Франция демонстрировала крепость своего союза с Россией, которую она считала в зените силы и славы. В прошлом году дом Романовых праздновал трехсотлетие своего царствования, и новые события словно подтверждали и укрепляли блеск династии. Дипломаты ставили последние точки в своих соглашениях, превращая тройственное согласие – Англии, Франции и России – в тройственный союз, Антанту.
Еще за год до сараевского выстрела русский посол в Бухаресте в интимнейшей обстановке уверял румынского министра иностранных дел, что Россия отдаст им Трансильванию, если Румыния вместе с нею выступит против Австрии. Министр иностранных дел Сазонов не уставал спрашивать Англию о Дарданеллах, и Бьюкенен, английский посол, советовал ему терпение и терпение, утверждая, что проливы от России не уйдут. Проливы – за гибель морского могущества Германии, дерзко захватывавшей лучшие рынки Англии! Миллиарды франков – за Эльзас и Лотарингию! Никогда еще перспективы войны не казались так заманчивы для России, никогда еще так горячо не работала военная партия при дворе, как теперь. Столица видела у себя в прошлом и позапрошлом годах толстого, усатого человека, с красным лицом сангвиника. Его с пышным почетом принимали русские генералы. Жоффр позволял себе многое. Он инспектировал планы русского генерального штаба, указывал, в постройке каких стратегических дорог на германской границе заинтересована его страна, и даже определял, сколько германских корпусов должна задержать в Восточной Пруссии русская армия. Его указания основывались на веских аргументах. В секретных бумагах генерала хранились копии писем председателя комиссии парижских биржевых маклеров де Варнейля к руководителям российской финансовой и иностранной политики – министрам Коковцову и Сазонову. Де Варнейль, от которого крепкие нити шли к крупнейшим французским банкам, к королям тяжелой промышленности и к пушечным заводам Шнейдера – Крезо, гарантировал России ежегодный выпуск в Париже обязательств на полмиллиарда франков. Эти деньги давались под двумя условиями, которые председатель парижской биржи поставил по предложению французского генерального штаба: во-первых, Россия немедленно приступает на своих западных границах к постройке стратегических железных дорог, признанных на совещании французского и русского генеральных штабов необходимыми для будущей войны; во-вторых, мирный состав русской армии будет значительно увеличен.
Жоффр приезжал как посланец военной силы Франции, опасавшейся воинственной Германии, но фактически он был полномочным лицом французской биржи. Нельзя зевать: вовсю разгоралась борьба между двумя металлургическими концернами. Столицей одного был Париж, другого – Берлин. Подогревая патриотические настроения своих соотечественников и давая деньги на увеличение русской армии, французские биржевики мечтали о саарском угле и лотарингской руде, без которых они не могли развивать металлургию.
Обе империалистические коалиции – Антанта и центральноевропейские державы – лихорадочно готовились к войне. В Германии и в Австрии тоже делали все, чтобы скорее зажечь военный факел. В Германии считали, что настоящий момент благоприятен для выступления. Боеспособность России там расценивали очень низко, новые русские корпуса еще не были сформированы, и немецким банкирам и их оруженосцам грезилась свободная дорога на Багдад, прорубленная победным германским мечом, владычество на Ближнем Востоке и далее – угроза Англии в ее наиболее уязвимых местах. В Берлине хорошо знали, что поддержка венского ультиматума Сербии – это война, и сознательно шли на это. Опасаясь, что Сербия может принять австрийский ультиматум и тем самым предотвратить войну, Вильгельм бешено толкал своего союзника на неуступчивость (тут он, впрочем, ломился в открытую дверь, так как Австрия с неприкрытой поспешностью сама ускоряла события), придумал требования, совершенно невыполнимые для Сербии.
Начальник германского генерального штаба Мольтке-младший уверял, что никогда не будет столь выгодного момента для выступления, как сейчас. В военном ведомстве были так предусмотрительны, что даже заручились согласием вождей социал-демократии не выступать против войны. Все было готово. Начиналась разбойничья драка, в которой обе стороны стремились ограбить своих противников, неся гибель и разорение народам воюющих стран, но прикрывая свои грабительские стремления высокими лозунгами о защите отечества. Россия мечтала о проливах, Германия – о богатых английских колониях, Англия – об уничтожении морского могущества Германии.
Двадцатого июля французский президент на крейсере «Франс» прибыл в Кронштадт, встреченный русским императором, а на следующий день его ждали в Петербурге. Городская дума готовила президенту пышный прием. Из Ниццы были доставлены живые цветы, заказаны обеды на тысячи приборов, украшены набережная и улицы, по которым должен был проехать Пуанкаре. Устроители торжеств с тревогой и опаской везли президента по петербургским проспектам. Каждую минуту можно было ожидать неприятностей. Второй Петербург – рабочий – не встречал Пуанкаре, он бастовал. С утра двадцатого июля Петербург принял облик, напоминающий дни девятьсот пятого года. Кроме казенных заводов, все остальные бастовали. Сто пятьдесят тысяч рабочих вышли на улицы с красными флагами. Стачка, начавшаяся в знак солидарности с бастующими бакинцами, после расстрела путиловцев стихийно разрослась. На улицах останавливали и опрокидывали трамваи, строили баррикады. Все усилия полиции сводились к тому, чтобы не допустить рабочих на Невский к моменту проезда Пуанкаре. И центр был пока спокоен. Окраины же полыхали огнем.
Бредов поехал в Сестрорецк к знакомым. Он сидел у окна, читал газету. Вдруг поезд остановился. Несколько человек побежали к паровозу, и вскоре оттуда донесся пронзительный свист и шипение: выпустили пар из котла. Бредов выскочил из вагона. Во все стороны бежали пассажиры. Толпа рабочих с красными флагами окружала поезд. Старый машинист вылезал из своей будки, не сопротивляясь двум рабочим, легко подталкивавшим его.
– Ваша сила, ваша сила, – громко и как будто весело говорил он, вытирая руки паклей. – Сам я машины не оставлял.
– Что вы делаете? – сердито спросил Бредов, подходя к паровозу. – Прекратите сейчас же это безобразие! Ведь вы мешаете движению!
– Почему же безобразие? – со спокойным недружелюбием сказал пожилой рабочий в узком пиджачке. – Война – это, господин офицер, война!
Бредов почувствовал себя нехорошо: с полной ясностью ему представилось, что он стоит среди чужих, непонятных ему людей. Они такие же русские, как и он, но живут и думают совсем по-иному; в их массе, как в вулкане, скрыто глухое, опасное брожение больших сил, и непонятно ему, что же именно движет эти силы, что заставляет их бороться со старой, налаженной веками жизнью. Он испуганно посмотрел кругом и медленно пошел прочь.
В городе не ходили трамваи. Только пройдя несколько улиц, Бредов смог найти извозчика.
5
Извещения о мобилизации были расклеены по всем улицам Петербурга. Появилось множество пьяных, какие-то подозрительные личности носились с царскими портретами, заставляли всех встречных обнажать перед монаршим ликом головы и петь гимн, избивали чуть ли не каждого, кто недостаточно быстро снимал шапку. К Зимнему шли тысячи людей, но полиция никого близко к ограде не подпускала. Народ, даже патриотически настроенный, был все же подозрителен: и десяти лет не прошло еще с тех пор, когда на этой самой площади стреляли в толпу, как и теперь шедшую с царскими портретами.
Офицеров приветствовали на улицах. Орущие краснолицые люди остановили Бредова на Суворовском проспекте и стали его качать, высоко подбрасывая в воздух. Толстый человек, по виду лавочник, и другой – в очках и чиновничьей тужурке, – держали его за плечи (было больно, неудобно и стыдно) и кричали вместе с другими:
– Да здравствуют русские офицеры! Да здравствует русская армия!
А чиновник визгливо добавлял, влюбленно стискивая Бредова:
– Живио Сербия!
В день объявления войны Германией самая многолюдная манифестация направилась к Зимнему дворцу. Она состояла главным образом из торговцев, мелких чиновников, гимназистов и людей неопределенных занятий. Было известно, что царь прибыл в Петербург. Во дворце шел молебен, громкое пение хора доносилось через открытые окна на площадь. Потом крики толпы усилились, в разных местах нестройно запели гимн и «Спаси, господи, люди твоя». На балкон вышел царь. Толпа опустилась на колени. Непрерывное «ура» перекатывалось с одного конца площади на другой.
Бредов стоял впереди. Он ясно видел лицо царя, его глаза, бородку, усы. Он пристально, с волнением разглядывал это лицо, искал в нем отражения тех великих чувств и настроений, которые, как в фокусе, должны были быть собраны в монархе. Но видел только равнодушные глаза, туповатый нос и толстые губы. Высокая женщина в белом платье вышла на балкон и остановилась немного позади царя. Бредова поразило лицо царицы. Очень белое, оно выражало неестественное напряжение, тонкие губы были сжаты, глаза смотрели куда-то вверх. Царь шагнул вперед и неловко поднял руку на уровень плеча. Казалось, что он хочет говорить, но, постояв, он поклонился, и торопливо ушел вместе с царицей.
Чувство недоумения и горечи овладело Бредовым. С удивлением он сознавал, что не испытывает особого патриотического подъема. Война была ему приятна, она раскрывала перед ним заманчивые перспективы, но в голову навязчиво лезли ненужные мысли о царе на балконе, о насмешливых разговорах Новосельского, о высказываниях полковника Константина Ивановича, в глазах вставала картина бастующих путиловцев и недавняя манифестация у Николаевского вокзала. Манифестация понравилась Бредову: она шла стройно и тихо, без грубых выкриков, в ее рядах было много студентов, интеллигенции. И внезапно со Знаменской площади, захлестывая стремительным, сильным движением памятник Александру III, выдвинулась рабочая демонстрация. Красные флаги почти закрыли грузную фигуру чугунного всадника, и пение «Марсельезы» смешалось с пением гимна. Какой-то человек проворно залез на цоколь памятника и звонко крикнул:
– Долой войну, долой самодержавие! Да здравствует революция!
Через несколько минут появились казаки. Бредов машинально подобрал кем-то брошенную листовку, прочитал, что это, оказывается, демонстрация против войны, организованная большевиками. «Как можно, – думал он, – в дни общего национального подъема и единения перед лицом врага писать такое!»
«…Ко всем рабочим, крестьянам и солдатам, – читал он. – Товарищи, кровавый призрак веет над Европой. Жадная конкуренция капиталистов («Какая чепуха – при чем тут капиталисты?»), политика насилия и захвата толкает правительства всех стран на путь милитаризма… Долой войну! Война войне – должно катиться мощно по градам и весям широкой Руси. Рабочие должны помнить, что у них нет врагов по ту сторону границ («Да ведь это измена, открытая измена!..»). Царское правительство заявило себя «покровителем и освободителем славянских народов», но мы здесь видим не покровительство, а жажду захвата новых владений… Правительство угнетателей русских рабочих и крестьян («Неправда, скольким крестьянам хорошо живется, есть немало богачей среди них»), правительство помещиков не может быть освободителем: всюду, куда оно ни проникает, оно несет с собой кабалу, нагайку и свинец. Еще не успели смыть рабочую кровь с петербургских мостовых, только вчера весь рабочий Петербург, а с ним и вся трудящаяся Россия объявлены «внутренними врагами», против которых пускали диких казаков и продажную полицию, – теперь их призывают к защите отечества («Да, да, но ведь вы русские, и перед грозной опасностью извне надо забыть все споры – не выдавать же родину на разграбление»)… Солдаты и рабочие, вас призывают умирать во славу казацкой нагайки, во славу отечества, расстреливающего голодных крестьян, рабочих, душащего по тюрьмам своих лучших сынов. Нет, мы не хотим войны! Мы хотим свободы России…»
Под листовкой стояла подпись: «Петербургский комитет РСДРП».
На другой день Бредов, закончив все свои дела, простился с Новосельским и поехал на вокзал. Город кипел. Толпы возбужденных наполняли улицы. Люди спорили, кричали, размахивали руками. Незнакомые останавливали друг друга. Пели хриплые, пьяные голоса. Развевались государственные трехцветные флаги. По Знаменской площади метались газетчики. Один сунул Бредову газету. Через всю полосу тянулись жирные буквы:
«Англия объявила Германии войну. Да здравствует благородная Англия, владычица морей!»
Он уезжал, полный тревожных мыслей, сильно потрясенный всем тем, что видел, узнал и пережил в Петербурге. И когда приехал к себе и увидел маленький тихий городок, полк и товарищей, которые готовились к отправке на фронт, услышал их наивные беседы о войне и ее причинах, он болезненно загрустил. Ему казалось, что он отравлен, что вся эта масса страшных, наступающих, как грандиозный смерч, событий не так уж проста и понятна. Мало того, что он – штабс-капитан Бредов – пойдет на войну драться за царя («Какой он был на балконе Зимнего дворца… хоть бы слово сказал тогда!»), за отечество, за веру («А верю ли я в бога?»), – мало, мало всего этого! Ах, все это не так просто, как считают его товарищи, как, может быть, сам он предполагал до поездки в Петербург. Горько улыбнувшись, Бредов подумал, что было бы, пожалуй, лучше не ездить ему в Петербург.
6
Был обычный лагерный день. После полевых занятий и стрельбы роты с песнями возвращались в лагерь, поднимая белую, похожую на дым пыль. Васильев был доволен сегодняшним учением. «Надо будет Карцева и Петрова произвести в ефрейторы, – решил он. – Не забыть завтра написать рапорт об этом».
Он остановил роту, скомандовал «бегом по палаткам» и, улыбаясь, смотрел, как, обгоняя друг друга, солдаты бежали с винтовками в руках.
Чухрукидзе и Гилель Черницкий помещались в одной палатке. Стаскивая потемневшую от пота гимнастерку, Черницкий вспомнил, что вечером надо идти на кухню чистить картошку, и сердито поморщился: наряд он получил не в очередь за то, что, читая полученное из дому письмо, не заметил фельдфебеля и не отдал ему чести. «Ничего, скоро все это кончится!» – подумал он и побежал мыться. Возле умывальников было шумно. Солдаты живо перекидывались словами, и кто-то недоверчиво, с досадой сказал:
– Болтают, болтают, а где правда? Опять брешут!
– Побрешут тебе, – насмешливо отвечал голый до пояса рыжеватый солдат, вытиравшийся грязным бязевым полотенцем. – В поход пойдешь – и то верить не будешь. Сказано, что снимаемся на зимние квартиры. Шутишь, что ли?
Новость эта подвергалась яростному обсуждению. Из газет, из разговоров все знали о том, что было тревожно, что в Австрии объявлена мобилизация, но надеялись, что дело до войны не дойдет.
– С кем воевать-то? С австрияками? Пускай они сами с сербами дерутся, нам-то что?
– Прикажут, вот тебе и «что»! Ты и будешь распутывать.
– Как же так, братцы, война? Скоро хлеб убирать, кто же в деревне-то останется?
– Никак в толк не возьму!.. Тихо все, погоды, слава богу, хорошие стоят, хлеба зреют, никакой у нас обиды ни к кому нет, и вот тебе – война! К чему она народу-то?..
– Так народ и спросили!.. Тут, брат, не народное дело.
– Вот оно, горюшко солдатское… Мне ж осенью домой идти, а тут на свадьбу зовут. Эх, землячки-братцы… кому горше солдата живется? Горе-горюшко!..
Заиграли на обед. Из палаток выбежали солдаты, построились повзводно и торопливо пошли к длинным столам под навесом. Обед был хорош – жирные мясные щи (их хлебали досыта, раза два бегая за добавком) и гречневая каша, заправленная говяжьим салом. После обеда пили кислый сухарный квас и, разговаривая, расходились по палаткам.
Карцев остановил Черницкого:
– Полежим в поле, Гилель, душно что-то под брезентом.
Они направились к дороге, проходившей близко от лагеря, перешли на другую сторону и легли в тени кустов. Закурили, и едкий дым махорки пополз, цепляясь о листья, как разорванная паутина.
– Читаю «Русское слово», – сказал Карцев, – каждый день теперь читаю. Знаешь, какая каша заваривается? Жмут сербов до отказа. Пользуются, что народ маленький, и притесняют. А чем сербы виноваты, что Принцип убил австрийского наследника? Разве может весь народ отвечать за одного человека? Обидно за сербов!
– Выбил я сегодня на «отлично», – продолжал Карцев, – но теперь придется иначе стрелять…
Черницкий поднял голову.
– Можно стрелять и без войны, – сказал он. – Вот в Баку и в Петербурге стреляли в рабочих. Зачем нам идти за границу стрелять? Это можно сделать гораздо ближе. Первая мишень – капитан Вернер. Если даже будет война, он, собака, все равно подохнет от русской пули!
Черницкий скоро уснул. Карцев лежал, подложив под голову руки, смотрел в бледное, точно выцветшее от солнца небо. Война представлялась ему далекой, неопределенной, похожей на маневры. Она не вязалась с чувством ленивого покоя, овладевшим им, с безоблачным небом, с мычанием коров, доносившимся из соседнего хуторка. Зачем, кому нужна война? Конечно, нельзя верить газетам, но все-таки нехорошо, что Австрия прижала маленькую Сербию… нехорошо…
Утром отменили занятия. Приказали солдатам укладывать вещи и разбирать палатки. Офицеры о чем-то тихо переговаривались между собой. Впрочем, не все они одинаково вели себя. Молодежь бравировала своей храбростью, молодые подпоручики маршировали, воинственно выпятив грудь, старые офицеры были сдержанны, некоторые даже грустны.
К вечеру лагерь представлял необычный вид. Брезенты, снятые с палаток, лежали на земле. Всюду валялось военное имущество: груды деревянных щитов, цинковые коробки с патронами, выданные для предполагавшейся в тот день стрельбы, учебные винтовки, мишени. Солдаты собирались кучками, испуганные тем новым и неизвестным, что готовил им завтрашний день. Хотя все знали, что полк идет на зимние квартиры, но официально об этом не сообщалось.
Заиграли сбор, и полк в полном походном снаряжении выстроился у разрушенного лагеря. Оркестр стоял возле первой роты. Подъехал на гнедом коне Максимов, поздоровался с солдатами и сказал:
– По приказу государя императора мы идем на зимние квартиры. Там будем ждать новых распоряжений. Время для России тревожное. Немцы грозят нашей великой родине, хотят нас задушить. Они натравили австрийцев на наших братьев сербов, насмехаются над православной верой. Мы им покажем, что такое святая богатырская Русь, покажем, как колет русский молодецкий штык.
Он грозно посмотрел на солдат и крикнул:
– Ура государю императору!
Вялое «ура» послышалось в ответ.
Максимов подал команду, заиграл оркестр, и полк поротно двинулся к станции. В тот же день полк был в казармах, а еще через сутки начали прибывать первые запасные. В помещении десятой роты, где жило около ста солдат, теперь скучилось человек двести пятьдесят. По всему коридору, одни на тюфяках, другие прямо на полу, лежали запасные. Большинство их состояло из пригородных крестьян, но было немало и фабричных рабочих, несколько служащих, чиновников. В городе происходили манифестации. Торговый люд шагал по пыльным немощеным улицам с иконами, царскими портретами и флагами. Среди запасных попадались и унтер-офицеры, но всех их, хотя там были и георгиевские кавалеры, участники японской войны, зачислили рядовыми под команду молодых ефрейторов. Карцева, которого Васильев представил к ефрейторскому званию, назначили отделенным командиром. Среди четырнадцати человек, подчиненных ему, оказался один старший унтер-офицер Голицын – бородатый, почти сорокалетний человек, любивший длинно говорить, но характера приятного и доброго. Он тут же подробно рассказал Карцеву, что дед и отец у него были крепостными князя Голицына и эта фамилия перешла к ним. Он хозяйственно расположился в углу, застелил тюфяк какой-то пестрой тряпкой, повесил на стенку образок Серафима Саровского и сказал, поглядывая на расположившихся вокруг запасных:
– Скушно без сундучка… Сундучок вроде как дом, солиднее с ним, а так – словно перышко: куда ветер, туда и ты.
Карцеву он говорил шепотком, чтобы не слышали другие:
– Плохо это начальство решило – унтер-офицеров рядовыми зачислить. Понадобимся мы им потом, да поздно будет. Ты хоть мне и начальник, а слушайся меня. Я, брат, на японской был и войну понимаю. Ты не гордися, а держись возле меня. Мне ты нравишься… Только одним виноват – молод. Но и здесь бог поможет – состаришься…
Он всегда так говорил – начнет серьезно и поучительно, а кончит шуткой.
Вскоре всех запасных обмундировали, и на занятия рота вышла в боевом составе – двести пятьдесят человек. Среди прибывших оказалось много таких, которые почти совсем позабыли строй, не умели действовать цепью, жались друг к другу, плохо маршировали и на полевых занятиях все путали.
Вернер и теперь остался верен себе: его рота маршировала весь день, и взводные следили за тем, чтобы все одновременно и крепко ставили ногу.
7
Большая радость ждала Карцева. Возвращаясь в роту, он увидел во дворе Мазурина, подбежал к нему, обнял и от радости не мог говорить – перехватило горло.
– Выпустили, – сказал Мазурин. – Не будь войны, отправили бы куда Макар телят не гонял!.. Ну, что у вас слышно? Я никого еще не видел.
Карцев жадно разглядывал его. Мазурин мало изменился, только слегка ввалились глаза да выросла бородка.
– Среди запасных есть, наверное, хорошие ребята? – озабоченно спросил Мазурин. – Ты не говорил с ними?
– Разве время теперь для этого?
– Почему не время? Теперь, по-моему, самый подходящий момент: пускай знают, за что идут проливать кровь. Нужна им, по-твоему, эта война?
– Но ведь напали на нас! – убеждал Карцев. – Как же теперь быть? Отдать немцам без боя всю нашу землю? Разве тогда лучше будет?
Он в смятении посмотрел на Мазурина.
Мазурин промолчал, закурил. Спросил про Балагина и Казакова. Потом они вместе вышли на Московскую улицу. Там, с пением гимна, неся впереди портрет царя, двигалась толпа. В первых рядах шли именитые горожане – купцы, крупные лавочники, врачи, чиновники, учителя гимназии. За ними – приказчики, мелкие торговцы, дворники. Манифестация остановилась на Соборной площади, перед домом городского головы фабриканта Князева. Тот вышел на балкон в сером английском костюме, бритый, похожий на иностранца, и, вытянув обе руки, приветствовал манифестацию. Наклонившись вперед, он кричал о том, что необходимо великое единение всего русского народа перед дерзким врагом, что нет теперь ни рабочих, ни хозяев, ни бедных, ни богатых, а есть только русские люди, и заявил, что жертвует десять тысяч рублей на нужды Красного Креста.
– Да здравствует победа! Ура его императорскому величеству, самодержавнейшему государю Николаю Александровичу! Боже, царя храни! Ура! – весь налившись кровью, орал он с балкона.
Грузные лавочники в жертвенном порыве лезли вперед. Дамы снимали с себя серьги. Купцы махали бумажниками. Учитель гимназии дирижировал хором, певшим гимн. Плакал усатый пожилой человек в позеленевшем, длинном, как пальто, сюртуке. Дворники сочувственно смотрели на своих хозяев. Соборный протопоп, стоя на паперти, крестом осенял идущих. Мазурин молча и сосредоточенно смотрел на манифестантов.
– Князев… – медленно проговорил он. – Во время забастовки вызывал войска против своих рабочих. Пойдем, Карцев, нам тут не на что смотреть!
Они молча прошли почти целый квартал. Карцев потупился, горечь и недоумение накипали в нем.
– Я вижу, Мазурин, ты сердишься, – наконец заговорил он. – Разве я вместе сними? Я не за царя и не за Князева воевать пойду, а все же я… – Он вдруг с удивлением понял, что не находит слов для выражения чувств, которые казались ему такими простыми и понятными. – А все же я… русский, – неуверенно продолжал он. – Россия – моя отчизна, в ней каждый листочек дерева мне люб и дорог…
– Нет, брат, – с неожиданной для Карцева мягкостью сказал Мазурин, – на этой земле не нам дует ветерок, не нам шумят деревья и не нас с тобою греет солнышко. Родину свою, настоящую родину придется завоевать в революционных боях. Вот так-то оно… Прощай! Потом повидаемся.
Карцев остался один. Ему было нехорошо. Он не спеша шел в казарму и обрадовался, увидев во дворе кучку солдат и между ними Орлинского и Петрова. Среднего роста человек, с розовым лицом и пушистыми усиками над пухлыми губами, говорил:
– Хотели меня назначить к оставлению, а я отказался. Зачем я в тылу буду, если другие идут отечество и веру защищать? Вот и назначили меня в полк.
Он явно ожидал сочувствия, но почти все смотрели на него безразлично, а некоторые – насмешливо.
– Заелся ты от хорошей жизни, вот тебе и плохой захотелось. Это можно. Пробуй на здоровье.
– А ты легче, дурень! Может, он пострадать хочет?
Начался шумный спор. Карцев услышал голос Орлинского:
– Война – это бедствие. Страшное бедствие! Но бывают положения, как сейчас, когда надо воевать.
Его маленькая фигурка выпрямилась, сиреневые глаза, теплые и живые, казались чужими на вялом лице.