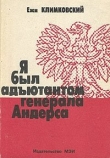Текст книги "Солдаты вышли из окопов…"
Автор книги: Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц)
– Рапорт командира одиннадцатой роты, – доложил он. – Сообщается, что рядовой Грибовский, назначенный в денщики к подпоручику Зайцеву, просит не назначать его на эту должность, оставить в роте.
– Почему? Что за вольности? – раздраженно спросил Максимов. – Как смеет нижний чин отказываться от чести услуживать своему офицеру? Привести сюда этого Грибовского! Немедленно!
И пока Максимов просматривал другие бумаги, Грибовский, доставленный ординарцем, уже дожидался в передней штаба. Из кабинета вышел Денисов, внимательно оглядел солдата, приказал получше заправить гимнастерку и повел его к командиру полка. Максимов сидел в своем массивном, с высокой спинкой кресле, как на троне.
– Ах, вот ты какой? – грозно протянул он, осматривая Грибовского с ног до головы, будто вид рядового объяснял, почему тот не хочет идти в денщики. Затем шумно отодвинулся вместе с креслом от стола, встал и, налезая грузным, большим телом на солдата, как медведь на рассердившую его собачонку, закричал:
– Ну-ка, ну-ка, скажи, голубчик, отчего ты такой гордый, что не желаешь услужить своему офицеру?
– Не могу знать, ваше высокоблагородие!
Максимов, заложив руки в карманы, обошел Грибовского кругом.
– Чем это от тебя так несет? – с отвращением спросил он.
– Чистил сегодня уборные, ваше высокоблагородие!
– Так почему же ты, дурак, не хочешь идти в денщики? Там же чистая работа?
– Не соответствую услужению. Разрешите остаться в роте, ваше высокоблагородие.
Максимов увидел твердые, решительные глаза солдата, не опустившиеся перед его взглядом.
– Уберите его к чертовой матери! – крикнул он.
И когда Грибовский, быстро и легко сделав поворот кругом через левое плечо, вышел из кабинета, командир угрюмо сказал Денисову:
– Не разберешь их, сволочей, какие там у них мысли в голове. Передайте в роту, чтобы взяли его под наблюдение!.. А сейчас я продиктую вам одну важную бумагу… Нечего вмешивать сюда писаря…
5
Про речку Гуслянку в городе шутя говорили, что она семь лет течет и семь лет стоит на месте. Речка и в самом деле была мелкая, загрязненная отходами фабрик: по деревянным четырехугольным, трубам в нее стекала из промывочных цехов бурая, вонючая жидкость, и радужные нефтяные пятна покрывали воду. Вот сюда-то по воскресеньям и ходили гулять солдаты: в роще за рекой они встречались с фабричными рабочими.
Полиция знала об этом и после недавних волнений на фабриках следила за тем, чтобы таких встреч не происходило. Но солдаты все же продолжали ходить в рощу, минуя полицейские посты. Перейдя речку вброд, они вскоре попадали на овражистую поляну, прозванную «Белой ямой», где когда-то добывали известняк. Образовавшиеся овраги и ямы, густо поросшие высокой травой, кустарником, частым ельником и молодыми березками, служили надежным убежищем для сходок. В прошлом году в одной яме нашли убитого городового, и с тех пор полиция не особенно охотно заглядывала сюда. Здесь-то на ближайшее воскресенье и была назначена большая солдатско-рабочая сходка. Полк уходил в лагеря под Рязань, и массовка поэтому приобретала как бы характер прощания.
День выдался ясный, весенний. Молодые листья на деревьях и кустах свежо зеленели, и даже хвоя на елочках окрасилась в матово-голубоватый цвет. Со всех сторон к Белой яме шли маленькими группами рабочие и работницы и отдельно от них – солдаты. В нескольких местах заливисто играли гармони, слышался веселый смех: все делалось так, чтобы воскресное гулянье не вызывало никаких подозрений у полиции.
В роще Карцев увидел Мазурина рядом с белокурой девушкой. Это была Катя, фабричная работница, с которой Мазурин познакомил его еще в прошлом году. И едва Карцев вспомнил, что и Тоня обещала прийти, как заметил ее на тропинке. Тоня шла в синем платье с белым кружевным воротничком и показалась ему сегодня особенно красивой. Он с такой радостью бросился к ней навстречу, что она от смущения покраснела. Они поздоровались и пошли вместе.
– Как хорошо!.. Народу-то-сколько! – весело заметила Тоня.
– Нынче здесь вроде народного гулянья, – ответил Карцев, не отрывая от девушки глаз. – Да, кстати, твое дело как будто устроено. Нашли, где тебе жить, и работа будет. Когда решишь уходить от Максимова – скажи.
– Эй, Карцев! – послышался знакомый голос, и к ним подбежал Петров. – Удрал без увольнительной, – с задором сказал он. – Ну, побегу искать наших…
И он пошел, с любопытством поглядывая вокруг. Все казалось ему необычным: идут, идут рабочие, солдаты, девушки, все веселы, улыбаются, поют песни, слышна музыка, и сама природа будто принимает участие в празднике.
В дальнем от реки конце Белой ямы было больше всего людей. Под деревьями и кустами зеленели гимнастерки солдат, чернели рабочие пиджаки и куртки.
– Пройдем дальше, – предложил Карцев.
За небольшим холмиком начинался лес. Высокие сосны стояли, как бронзовые колонны, и солнце веселыми зайчиками падало на мягкую лесную траву. Рыжая белка метнулась вверх по сосне и, сев на ветке, сердито заверещала.
– Господи, славно-то как! – проговорила Тоня и взяла Карцева за руку.
Они шли молча, и было им легко, точно весна подхватила их и несла куда-то вперед.
– А я ведь и в лесу почти не бывала, – заговорила Тоня. – С малых лет только и знала, что возиться с утра до ночи. Отец в Рязани дворником у купца работал. Ютилось нас пятеро в комнатушке, как птицы в клетке… Мать стирать к господам ходила, на мне все хозяйство лежало. Был, помню, у купца сад – ну прямо рай, да нас в этот рай не пускали. Соловьи там пели – заслушаешься. А вырвалась из дома, тоже не слаще стало. Хуже собаки я жила, Митя. У той хоть своя конура, а у меня и угла-то не было…
– Что вспоминать, Тонюшка! – ласково сказал Карцев. – И я вроде тебя мучился, да и тысячам других не лучше жилось… Вот отслужу – вместе будем, хочешь? – спросил он.
Она молча взяла его за руку.
Со стороны поляны послышалось кукование, повторилось девять раз.
– Вот и оповестили, – сказал Карцев. – Пошли, Тонюшка.
Она крепче стиснула его руку.
– А как хочется, Митя, по-другому жить, по-человечески.
– Будем, будем по-другому жить! – Голос Карцева звучал твердо. – За это и боремся.
Они, быстро и легко шагая, направились к Белой яме.
Какой-то незнакомый старший унтер-офицер прохаживался рядом с Черницким. Семен Иванович стоял под березой, окруженный солдатами. На холмике, укрывшись в кустах, лежал человек с биноклем и наблюдал за дорогой, ведущей в город.
– Вот тогда-то и сделалось страшно. Неужели, думаю, будут в нас стрелять? Не могу смотреть на лица солдат. Вижу, тяжело им, но чувствую, что не ослушаются начальства…
Это говорила пожилая работница, мимо которой шли Карцев и Тоня. Около этой женщины сидели на траве два солдата. Она, теребя бахрому головного платка, продолжала:
– А тут вы, не похожие на тех. Простые такие, свои… Что же это такое получается?..
– Я – девятьсот седьмого года службы, – рассказывал небольшого роста человек с бледным лицом и зелеными, как бутылочное стекло, глазами. – При нас их и увольняли в запас. Все они девятьсот четвертого года призыва, в пятом году служили, почти во всех ротах завели подпольные кружки.
– Вот и Соня! – обрадовался Карцев. – Подойдем к ней!
Соня была в черном платье, в сиреневой косынке. Она о чем-то жарко спорила с солдатом. Тоне хотелось побыть еще хотя бы немного с Карцевым, но она понимала, что сейчас надо быть вместе со всеми.
– Это по-вашему, а по-нашему, по-солдатски, не так, – убеждал Соню солдат. – Вы вот в нашей шкуре побудьте да нашего житья попробуйте, тогда и сравнивайте.
– А почему бы не сравнивать? – возразила Соня и приветливо улыбнулась Тоне и Карцеву. – Вы вот откуда пришли в казарму?
– Известно откуда. Плотники мы, зарайские.
– А когда отслужите, куда пойдете?
– Все туда же, плотничать. От своего Дела не уйдем. Не баре мы, не помещики.
– Ну вот: до службы работали, после службы опять. Значит, тридцать или сорок лет плотничать, а только три года, и то поневоле, быть в солдатчине. Чего же в вас больше – рабочего или солдатского?
– Эт-то будто и так. А только в солдате то отличие, что подневольный он. В этом и беда наша…
– Товарищи! – раздался голос Мазурина. – Наша сходка созвана большевиками. Мы хотим, чтобы рабочие и солдаты, родные братья по кровным своим интересам, могли бы по душам поговорить друг с другом, поделиться своими думами, потолковать о том, как бы им общими силами добиться своего права на свободную жизнь.
Его слушали в глубокой тишине – дальние придвигались ближе, солдаты и рабочие перемешались между собой. Тоня и Карцев вплотную подошли к Мазурину.
– Но сами знаете, товарищи, – продолжал он, – как тяжело живется народу, какую нужду испытывает он, как угнетают его царь, помещики, капиталисты. И никто не поможет нам, если мы сами – весь трудовой народ – рабочие и крестьяне, – не возьмем дело освобождения в свои руки.
Двое людей появились из-за деревьев. Один спокойно предупредил:
– Полиция, конная и пешая.
– Идите в лес, а потом тропинками – во все стороны, – распорядился Семен Иванович. – Не в первый раз от них уходить.
Карцев и Тоня, взявшись за руки, побежали к лесу.
Гуслянка, как синий извилистый шрам, пересекала поле. Красные фабричные корпуса угрюмо стояли за речкой. В полуверсте справа тряслись на лошадях стражники. Растянутой цепью двигались к лесу полицейские.
Большое багровое солнце низко стояло за деревьями, и зелень их светилась словно в зареве далекого пожара.
6
Через два дня Черницкий подозвал Карцева:
– Иди за ворота. В садике ждет Тоня.
Карцев поспешил туда. Тоня сидела, скрытая кустами сирени.
– Ну как здоровье, Тонечка?
Она встала. Руки их переплелись.
– Спасибо, милый. Я на минутку…
В голосе ее звучала тревога.
– Барину привезли срочный пакет. Сам Денисов привез. Они совещались, а я у двери подслушала. Барин велел, чтоб сегодня же был готов приказ выступать, а солдатам распорядился выдать новые гимнастерки. Что это может быть, Митя?
– Не знаю… Во всяком случае, спасибо, что предупредила… – «Неужели опять на усмирение?» – взволнованно подумал Карцев. – Ты только об этом никому, слышишь?
Они разошлись.
В казарме пили чай. На столах высились огромные медные чайники. Черный хлеб был нарезан толстыми ломтями. Павлов и Загибин чаевничали вместе с Машковым, уплетая ситный и колбасу.
Карцев посмотрел на красное, вспотевшее лицо Машкова. «Отпустит на полчаса? Наверняка нет. Ну, тогда надо обойтись без разрешения». Он неторопливо прошел в прихожую и оттуда – во двор. Мазурина он застал у себя в роте. Подложив под медные пуговицы деревянные дощечки с прорезанной щелью, тот чистил пуговицы мазью и тряпочкой. Это полезное занятие позволяло ему разговаривать с несколькими солдатами, сидевшими вокруг него и занимавшимися тем же делом. Карцев, не подавая виду, что пришел именно к нему, стал в тени навеса и ждал минут пять, пока не появился Мазурин. Осмотревшись, нет ли поблизости чужих ушей, он рассказал Мазурину о том, что сообщила Тоня.
…Два дня прошли очень напряженно. Мазурин пытался выведать что-либо через полковую канцелярию, где работал писарем Пронин – свой человек, но так ничего толком и не узнал.
– Что-то есть, – говорил Пронин, – но делается все в большой тайне. Поход – это точно, но куда, когда, с какой задачей – еще не пронюхал.
Однако слухов о предстоящем походе нельзя было скрыть. В ротные цейхгаузы прислали новое обмундирование и сапоги. Каптенармусу кое-что удалось выведать у военного чиновника – интенданта на вещевом складе, и он под страшным секретом поделился новостями с унтер-офицерами Колесниковым и Машковым. Те ходили с заговорщицким видом, значительно переглядывались, и это еще больше всех волновало. Солдаты собирались в укромных уголках, думали-гадали, куда же их могут отправить. Говорили, что в Питере вспыхнула крупная забастовка и будто их гонят туда, на усмирение. Другие сообщали о крестьянских волнениях и даже называли место, где они происходят, – Скопинский уезд Рязанской губернии. Вот куда, должно быть, придется выступать!
В эти же дни на квартире у Семена Ивановича собрались Мазурин, Карцев, ефрейтор Балагин – уральский рабочий, писарь Пронин и – совершенно неожиданно для Карцева – поручик Казаков, рыжеватый, сухощавый человек с внимательным взглядом карих глаз. Был еще молодой рабочий, ничем как будто не примечательный.
И все время, Пока шла беседа, Карцев не мог избавиться от чувства неловкости: ему все казалось, что офицера надо остерегаться. Что поделаешь, солдатская привычка!
Много курили. Казаков, облокотившись на рукоятку шашки, рассказывал:
– Младшие офицеры тоже ничего не знают. Объявили, что полк выступит и поход будет продолжаться три-четыре дня. Все остальное неизвестно.
– А ты что предполагаешь? – спросил Семен Иванович.
– Трудно сказать… Может быть, учение в составе других частей дивизии, боевая поверка…
– А если в Иваново пошлют? – задал вопрос молодой рабочий.
– В Иванове все спокойно, Саша, – ответил Семен Иванович.
– Сегодня спокойно, а завтра буря. Две фабрики тем волнуются, вот и хотят на всякий случай…
Вошла Соня, тихо села, слушала, курила.
– Будут солдаты в народ стрелять? – вдруг спросила она у Мазурина.
Мазурин нахмурился и ничего не ответил.
– Будут! – проговорил Казаков. – В полку – сырая масса с очень маленькой революционной прослойкой.
– Сегодня ночью получим сотню листовок, – объявил Мазурин. – Кроме того, поведем беседы с солдатами. Глядишь, сырые и подрумянятся…
Совещание закончилось поздним вечером. Разошлись поодиночке.
7
Из казарм под разными предлогами просилось в город столько солдат, что встревоженное начальство отпускало только по два-три человека из роты, и то на самые короткие сроки. Тогда стали уходить самовольно, не боясь наказаний.
За городом, на расстоянии не больше версты, беспорядочным скопищем почерневших, плохих строений лежала деревня Шуткино, жители которой почти поголовно работали на фабрике – мужчины, женщины и дети. В Шуткино нередко хаживали солдаты. И в это воскресенье пришло их сюда человек тридцать, и все разбрелись по избам. О предстоящем выступлении полка в деревне уже было известно, и событие это вызывало разные толки.
Наибольшее оживление царило в избе Никиты Курпатова – пожилого рабочего с таким высоким лбом, что казалось, на все остальное – глаза, нос, рот и подбородок – осталось слишком мало места. Здесь собрались шесть солдат и несколько соседей, среди которых был и молодой рабочий Саша.
– Ничего мы не знаем, – раздраженно говорил узкоплечий солдат с острым, как редька, подбородком. – Разве нас спрашивают? Идем в потемках, пока лба не расшибем.
– Против нас идете-то, – горько произнес сосед Курпатова, уже лет пятнадцать работавший на фабрике. – С ружьями идете!
– А если служба? – истерически закричал узкоплечий. – Чего упрекаешь? Будешь на моем месте, и я тебя испугаюсь – застрелишь… Не застрелишь? Врешь, брат, прикажут, как миленький пульнешь… Своя-то небось жизнь дороже…
Шумели и спорили все, перебивая друг друга. Жена Курпатова, черноволосая, еще не старая женщина с отекшим лицом и большим животом, говорила, не переставая вязать и кивая головой:
– Несчастненькие вы, солдаты. Горе-гореваньице ваша жизнь!
– Неволю избыть надо, – прозвучал уверенный голос Саши. – Плакаться – делу не поможет. Тут требуется всему народу быть заодно. И драться еще крепче, чем в пятом году.
– Пятый год у нас из головы никогда не выйдет, – заметил пожилой рабочий с тугой темной бородкой, до сих пор незаметно сидевший в углу и дымивший махоркой. – Фабрика тогда стала. Выбрали мы свой рабочий Совет, и солдаты против нас не шли. Посылали мы к ним в казармы депутацию, и они тоже по Московской улице вместе с нами под красными флагами ходили. И песни заодно пели. Вот какой был девятьсот пятый год-то! Как заря светил… И судили нас – рабочих и солдат – за одно дело. Из полка троих расстреляли, многих в арестантские роты загнали. А сколько по Владимирке пошло – и не сочтешь!
– Деток с тринадцати годков на фабрику отдаем, – жаловалась хозяйка, мелькая спицами. – По двенадцати часов кряду работают… за семнадцать копеек!
– Уж я и не знаю, – застенчиво оглядывая людей и избу, сказал Рогожин. – Уж я и не знаю, – повторил он, – как это получается: солдат идет к вольным людям, хочет от своей постылой жизни отдохнуть, а у них не слаще нашего!.. Какой же выход, какой путь? И кто это объяснить может?
Солдаты хорошо знали, что представляют собою казармы-общежития, где ютился фабричный люд. Их построили вблизи фабрики, как раз за тем изгибом реки, где в бухточке, у берегов, застаивалась вонючая, черная вода, зараженная отходами из цехов. Длинное и низкое деревянное здание тянулось подковой. Двор был залит помоями, завален отбросами. Узкие, маленькие оконца почти не пропускали света. Воздух в казармах – душный, застоявшийся. Огромное, не до потолка перегороженное помещение до отказа было набито сундуками, шкафчиками, койками. Детские пеленки и белье сушились здесь же на веревках. Считалось, что левая, перегороженная часть подковы принадлежит женатым, а на самом деле и холостые и женатые жили вперемежку. Клопы, блохи и тараканы водились в таком изобилии, что бороться с ними было невозможно. К тому же нужда так давила людей, они работали так много и так тяжело, что некогда было и думать о чистоте и удобствах. Некоторые женщины, пытавшиеся наводить порядок в казарме, в конце концов опускали руки. Работали отцы, матери, старшие дети, а семилетние оставались присматривать за самыми маленькими. А те ползали по грязному полу, играли отбросами. На одной койке, на трех квадратных аршинах ютилась целая семья…
Солдатам было строго-настрого запрещено ходить в рабочие казармы. Шпики так и вились вокруг. Но все же иногда удавалось незаметно пробираться к рабочим. Пришли сюда солдаты и накануне выступления полка в неизвестный поход. Карцев и Петров подсели к пожилому, с шапкой седеющих волос, рабочему: Карцев – прямо на койку, а Петров, поглядев на сбитое, грязное, сшитое из лоскутков одеяло, примостился на табуретке. Рабочий улыбнулся.
– Живем вроде свиней, господин вольноопределяющийся, – сказал он и стал разговаривать с Карцевым.
А Петров смотрел на рабочего, на его страшное жилище и думал, что нельзя, нельзя жить в таких скотских условиях, надо во что бы то ни стало менять такую жизнь!
Он поделился своими мыслями с Карцевым, когда они вышли из казармы.
– Ты видишь только эту грязь, – ответил Карцев, – и тебе кажется, что только с ней и нужно вести борьбу. Но главное не в этом! Главное в том, что рабочий вынужден при теперешнем строе так жить. Он ненавидит этот строй и объединяется со своими товарищами, чтобы уничтожить его, добиться лучшей жизни. Ты вот побрезговал сесть к нему на койку, это я так, к слову сказал, а знаешь ли ты, что этот самый Ханаев на баррикадах дрался, в трех забастовках участвовал, книги запоем читает и всегда за себя и своих товарищей не боится постоять!
Петров не во всем был согласен с Карцевым. Он считал себя революционным интеллигентом и снисходительно относился к некоторым высказываниям Карцева, который, по его убеждению, не мог быть так развит и культурен, как он, Петров. Но Карцев, хотя любил и ценил вольноопределяющегося, вступать в спор с ним считал бесполезным. «Жизнь научит», – думал он.
8
Вечером роту выстроили. Проверили людей по списку, пропели молитву, но команды расходиться не давали. Взводные беспокойно косились на дверь ротной канцелярии. Оттуда вышли зауряд-прапорщик Смирнов и капитан Васильев. После поверки капитан никогда не появлялся в роте, и двести солдатских глаз смотрели поэтому на командира с тревогой и нетерпеливым ожиданием. А он, подергивая свои соломенные усики, остановился перед фронтом и сказал:
– Ребята! Завтра часть нашего полка выступает под общим командованием старшего помощника командира полка полковника Архангельского. Из нашей роты пойдет сорок человек. Егор Иванович, огласите список.
Смирнов рысцою подбежал к капитану и начал читать список. Вызвали Загибина, Павлова, Сергеева, Самохина, Рогожина, унтер-офицеров Колесникова, Машкова… Не вызвали ни одного «инородца» (как именовали официально солдат нерусского происхождения). Ни одного из бывших рабочих, ни одного из тех, кто был у начальства на плохом счету. Последним в списке оказался Карцев. Зауряд-прапорщик прочел его фамилию, вскинул на лоб очки, опять прочел и, наклонившись к уху капитана, с недоумением прошептал:
– Как же так, господин капитан? Карцев числится у нас «порочным»! (Так в секретных документах назывались политически неблагонадежные солдаты.)
И шепотом же Васильев ответил ему:
– Что делать, Егор Иванович! Где набрать в роте сорок солдат без пятнышка? А он строевик прекрасный, и фигура у него молодецкая. Пускай едет.
Он приказал назначенным в поход быть готовыми к шести утра и ушел.
Рота напоминала развороченный муравейник. Никто не спал, волнение, страх и любопытство охватили солдат. Куда отправляют сорок их товарищей? Почему не объявили, что за поход? Загибин, побывавший у зауряд-прапорщика, торжествующе улыбался с видом осведомленного человека. Но его так не любили в роте, что даже самые любопытные и те не хотели ничего у него спрашивать.
– Мозги морочат, – убежденно говорил Черницкий. – От начальства ничего хорошего не жди. Почему лишних три месяца держали одиннадцатый год? Почему не говорят, куда посылают наших товарищей? Хорошие дела не прячут… Здесь опять пахнет усмирением.
– Ох, землячки, плохо, плохо подневольным быть, – сокрушался Рогожин. – Ох и скверно же!
– А чем тебе, друг, скверно? – миролюбиво спросил Колымов, солдат второго взвода. Он был круглолиц, упитан, узкая полоска лба незаметно проходила у него между шерстяной дужкой волос и тонкими мазками бровей. – Чем тебе плохо? – повторил он. – Хлеба три фунта в день, сахару два куска, да щи мясные, каша масляная, чай пьешь, обут, одет, богу молишься… Чем же плохо? Ну, чем? Чем?
Солдаты неприязненно посмотрели на Колымова. В роте его звали боровом: пожрать бы да поспать – больше ему ничего не надо. И вдруг Самохин, до сих пор сидевший смирно, завыл, залязгал зубами и, крестясь, полез под койку. Когда его хотели оттуда вытащить, он заплакал и стал умолять:
– Братцы, не надо. Ради Христа, миленькие, не трожьте…
И неожиданно заревел:
– Смирно, мать вашу… Не видите, кто с вами говорит?
И сейчас же затих, вылез и, щерясь, как забитый пес, смотрел вокруг. Все поняли: у Самохина припадок.
Несмотря на позднее время, приходили солдаты из других рот. В полку шло смутное брожение, всем было не до сна. Смирнов не выходил из своей квартиры и приказал дежурному и взводным не очень «налегать» на солдат. Он помнил, как бунтовали в Маньчжурии задержанные после японской войны полки, как при нем с красными флагами шли солдаты, братаясь повсюду с рабочими, как по нескольку дней не смели появляться в ротах офицеры и как, наконец, совсем недавно стрелял в капитана Вернера солдат Артемов.
И сейчас, в неурочное, позднее время, слыша шум в казарме, ворочаясь в постели возле пухлой жены, Смирнов испытывал смутную тревогу. Как хорошо ни знал он солдат, как ни ломал их, ни гнул, но до конца не понимал их и потому, что не понимал, – боялся, зная, что они его ненавидят. «Самая старая шкура в полку» – прозвали его. А разве он виноват, что иначе нельзя? Разве хоть один день держали бы его на военной службе, если бы он не был суров с нижними чинами и они не трепетали бы перед ним?
Отряд полка – шестьсот человек – выстроился на дворе казармы. Полковник Архангельский, высокий старик с подстриженной бородкой и в золотых очках, похожий на профессора, обошел фронт, поздоровался – ему ответили тихо, нестройно, – и отряд двинулся к вокзалу. Офицеры приказали петь песни, но солдаты запели вяло, неохотно. Архангельский вспылил:
– Отставить! Что это такое? Бабы идут или солдаты? Господа офицеры, подтяните ваших людей!
Начался подсчет ноги – раз, два, левой… Сотни сапог гулко били о землю, и взводные глядели – крепко ли, во весь ли след ставится солдатская нога, и ругали тех, кто плохо маршировал.
Эшелон был уже подан: товарные вагоны – для солдат, вагон второго класса – для офицеров. В товарных клетушках было так тесно, что не хватало места сидеть. Солдаты ругались, ворчали. Но вот паровоз прогудел, и состав медленно пополз вперед.
Поезд шел сквозь лес, в свежем аромате цветов, травы, молодой хвои, среди расцветающей зелени. На станциях солдаты бегали за кипятком. Они повеселели, шутили с молодыми крестьянками, которые в коротких ситцевых платьях, толстых шерстяных чулках и мужских, грубых ботинках с торчащими ушками ехали мимо на телегах в поле.
Карцев, поместившись на деревянной доске, служившей сиденьем, разговаривал с товарищами. Вокруг были свои. А в другом конце вагона расположились Машков, Загибин, Сергеев; они закусывали, не обращая внимания на солдат. Карцев рассказывал о волнениях в гвардейском Преображенском полку в тысяча девятьсот пятом году. Полк был недоволен полицейской службой, которую его заставляли нести. Созыв Первой государственной думы усилил волнения. Ожидали, что Дума даст крестьянам землю. Из деревни приходили к солдатам письма, в которых их упрекали, что они стреляют в народ и усмиряют революцию. Солдаты устраивали сходки, многие вступили в военную организацию при Петербургском комитете большевиков. Этот комитет поддерживал подпольные связи с преображенцами, засылал к ним агитаторов.
…Колеса ровно постукивали, и Карцев приспособился так говорить, что солдаты его слышали, а начальство не могло разобрать ни слова, даже если бы настороженно прислушивалось. Карцев радовался, видя, с каким глубоким интересом слушают его, и продолжал:
– Один из шпиков доложил начальству, что солдаты встречаются с рабочими, но офицеры тогда так боялись солдат, что не могли ничего поделать. В Гореловском лесу собралось четыре тысячи человек, почти из всех полков гарнизона. Были там и рабочие. Говорили, что всем надо выступать вместе. И вот вечером распространился слух, что на другой день преображенцам придется идти в Петергоф нести полицейскую службу. В полку начались волнения. Особенно были недовольны солдаты призыва тысяча девятьсот третьего года, которых не отпускали в запас, хотя они отслужили свой срок. Солдаты написали свои требования и предъявили их начальнику дивизии. Они настаивали, чтобы начальство по-человечески обращалось с ними, отменило наказания, оскорбительные для достоинства солдата, не посылало их усмирять народ, не вскрывало солдатские письма, улучшило пищу и разрешало посещать разные зрелища…
– Ну и молодцы! – не удержавшись, воскликнул кто-то.
Машков насторожился, неприязненно спросил:
– О чем вы там?
– Сказки рассказываем, господин взводный! – бойко ответил Рогожин.
– Кто рассказывает? Какие сказки?
– Я, господин взводный! – Рогожин знал, что Машков недолюбливал Карцева. – Об Иване-царевиче и Еруслане-богатыре!
Машков лег на нары, положил под голову скатку. Он был пьян.
Беседа продолжалась. Карцев рассказывал о восстании на «Потемкине», очевидцем которого он был.
Поезд замедлил ход. Подъезжали к довольно большой, оживленной станции. Усатый начальник в красной фуражке поздоровался с полковником Архангельским, жандармский офицер пригласил его к себе.
К товарным вагонам приставили доски, велели выходить. С винтовками и походными мешками отряд выстроился на платформе. Потом солдат отвели за палисадник. Привезли обед. Ели тут же, сидя на земле. Архангельский долго оставался у жандармского офицера, и только в начале сумерек скомандовали в ружье. Офицеры стали уводить солдат небольшими группами. Шли по обеим сторонам полотна. Затем растянулись цепью. Офицеры объяснили, что надо охранять железную дорогу, никого близко к путям не подпускать. Подозрительных задерживать, а если те будут сопротивляться – применять оружие.
Красноватые облака тихо погасали на западе. Воздух свежел. Галки шумно располагались на ночлег в близкой роще. Унтер-офицеры проверяли посты.
Стемнело. Зеленые фонари, как светлячки, замерцали на путях. Прошел крестьянин, его окликнули, изругали, и он испуганно побежал к лесу. В клочьях рваных облаков светились звезды. Где-то жалобно провыл паровоз, точно звал к себе на помощь. Солдаты стояли в одних гимнастерках, со скатками через плечо, опираясь на винтовки, шагах в двадцати друг от друга.
В полночь Самохин вдруг дико закричал. Ему показалось, что кто-то огромный, тяжело дыша, лез на него, ломая кусты. Руткевич бросился к нему с револьвером в руке. Острый луч электрического фонарика выхватил из темноты побелевшее лицо Самохина, его винтовку, направленную вперед, и в двух шагах от него – коровью морду с задумчивыми глазами.
– Трус! Дурак! – накинулся на него Руткевич.. – Коровы испугался!.. Баба, а не солдат!
Стало холодно. Солдаты спросили, нельзя ли надеть шинели. Унтер-офицер отправился за разрешением на станцию и, вернувшись, передал по цепи: стоять в скатках, шинелей не надевать.
Ночь проходила нестерпимо медленно. Глухо стучали о землю сапоги: чтобы согреться, солдаты прыгали на месте.
В лесу противно кричал филин. Пролетел пассажирский поезд, громыхая на стыках рельсов. Освещенные окна промелькнули, словно картина на экране, и красный фонарь заднего вагона быстро потонул в темноте. И снова холод, стук солдатских сапог, снова бьющий по нервам крик филина…
Начало светать. Звезды бледнели, как бы растворялись в небе. На путях показался сторож с фонарем, неприветливо поглядел на солдат, остановился возле Карцева.
– Землячок, нет ли завернуть? – тихо спросил Карцев (не услышал бы взводный!).
Сторож не торопясь поставил фонарь на землю, достал бумагу, махорку. Пока свертывали папиросы, Карцев смотрел на сухое, старое лицо сторожа, на рваный его зипун, на разбитые, в заплатах сапоги.
– Стоите? – насмешливо проговорил сторож. – Стойте, стойте, может, чего и настоите…
– А ты будто знаешь, зачем мы тут? – с досадой сказал Карцев.
Сторож внимательно взглянул на него:
– А ты, служба, не знаешь разве?
– Солдату ничего знать не положено. За нас начальство все знает.
– Так, так, – проворчал сторож. – Е г о поезд скоро пойдет. Только час неизвестен. Так-то…
– Чей «его»? – Карцев придвинулся к сторожу. – Чей поезд, отец?
– Чего притворяешься? Всю ночь стережете дорогу царскому поезду, а будто глухие и слепые…
– Царский!.. Вот оно что… – прошептал Карцев. – Ей-богу, отец, не знали!
– Да оно так спокойнее, – рассуждал сторож. – А то вдруг возьмут да и сковырнут сынка, как папашу его в Борках сковырнули… Вот так-то, солдатик!.. Ну, прощай, царев защитник. Смотри не проспи поезда-то…