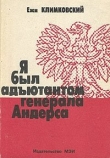Текст книги "Солдаты вышли из окопов…"
Автор книги: Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
– Владимир Никитич, дорогой мой! – воскликнул Бредов. – Не могу передать вам, как горд я сегодняшним днем! Смыл горечь Танненберга – помните те позорные дни? – и как хорошо, что могу опять сражаться в нашем полку, под нашим старым боевым знаменем!
Приехал офицер из штаба корпуса и передал, что со всех участков восьмой армии сообщают о блестящих победах. Особенно хорошо действует артиллерия.
Возбужденный успехом, с яростным и отчаянно веселым выражением лица, Петров бежал с винтовкой впереди своих солдат. Десятая рота продвигалась быстро, встречая лишь слабое сопротивление. Петрову хотелось захватить побольше пленных, трофеев, используя панику, смятение противника и боевое воодушевление своих солдат. Он увидел, как русские полевые орудия, взятые на передки, мчались вперед, на новые позиции. Ездовые понукали крупных, толстоногих лошадей. Пожилой полковник, лихо скакавший впереди батареи, крикнул:
– Валяйте, пехота, валяйте скорее вперед! Мы переносим огонь в глубину позиций противника.
И, ударив коня нагайкой, поскакал дальше, а за ним, тяжело грохоча, неслись орудия и зарядные ящики. Лица у артиллеристов были довольные, как после удачной работы.
Уцелевшие австрийцы сидели в своих убежищах, покрытых толстыми накатами из бревен, и когда к ним врывались русские, они сдавались без промедления – ошеломленные, с тупыми, покорными глазами. Карцеву посчастливилось захватить в одном из таких убежищ целую роту с тремя офицерами. Щеголеватый капитан с нафабренными усами, с опаской поглядывая на него, совал ему в руки свою саблю, быстро что-то говоря. Банька кинулся к капитану, рванул его кобуру:
– А ривольверт не отдает, сволочь! Снимай скорее, пока живой…
Подошел Васильев. Капитан вытянулся перед ним, успокоенный тем, что видит перед собой старшего офицера.
– Полнейшая неожиданность для нас, господин полковник, – пробормотал он, – мы никак не могли ожидать. В планах нашего командования исключалась возможность вашего наступления… и притом мы были уверены в неприступности своих позиций.
– Как будто существуют неприступные позиции, – с иронией заметил Васильев. – Стоит только захотеть – и можно взять любую позицию!
Австриец посмотрел на него с вежливым недоумением, видимо не желая вступать в спор. На его лице появилось снисходительное выражение.
– Варварами нас считают, – проворчал Васильев. – Сколько же еще бить надо их, чтобы переучить!
– Не переучишь, – послышался спокойный голос. – Они и Суворова неучем считали, не по правилам, мол, побеждал.
– Хоть и не по правилам, а лишь бы бить, – раздался второй голос. – А там уж разберемся, кто ученее.
Васильев оглянулся. Говоривших было двое: унтер-офицер с золотистой бородой и карими глазами и коренастый, кривоногий солдат.
Пленных повели в тыл. Австрийцы шли охотно, переговариваясь между собой и с любопытством рассматривая русских.
– Эти рады, – сказал коренастый солдат, – воевать больше не придется… Эй, приятель, – крикнул он, – нет ли у тебя завернуть?
Усатый австриец, к которому обратился солдат, торопливо достал из кармана кисет, вынул щепоть темного, крупно нарезанного табака и с улыбкой отдал:
– Кури.
– Э, да ты по-русски балакаешь?
– Словак я…
– Ну, тогда другое дело, – важно заметил солдат.
И, помяв толстыми пальцами табак, скрутил папиросу, закурил и сказал с видом знатока:
– Против нашей махорки не выдержит, хотя и ядовит…
Иванов шел в бой, плохо владея винтовкой. Грохот орудий оглушал его, так и хотелось лечь на землю и закрыть голову руками. Вдруг что-то рухнуло на него, и он упал, думая, что все кончено. Но чья-то дружеская рука бережно помогла ему встать, и он увидел перед собой улыбающееся лицо Чухрукидзе.
– Ничего, ничего, совсем ничего. – Он подал оброненную Ивановым винтовку. – Привычка надо, потом легче будет. Айда со мной!
И они побежали догонять ушедших вперед товарищей.
Черницкий бежал в атаку рядом с Голицыным. Тот заметил, как у Гилеля сводило скулы от судорожной зевоты. Он хорошо знал это состояние повышенной нервозности в бою и крикнул:
– Первая колом, вторая соколом!.. Держись, Гилель!
Черницкий засмеялся.
– Уже пошла соколом, – Ответил он. – Держусь, дядя, держусь!
И бросился вперед. Вскочил в австрийский окоп и наткнулся на Защиму, который со своим отделением охранял кучку пленных австрийцев. Пленные сидели на дне окопа, и Защима говорил тягучим голосом:
– Царь ихний по-смешному зовется – казер. Почему казер? – неизвестно. Хотя с нашим – два сапога пара. А только противно слышать такое название. За казера, что ли, воюете? – спросил он у пленных.
Они молчали.
– Что же с вами делать? Мне наступать надо… Ну, вы тут тихонько посидите. Ведь не такие же вы дураки, чтобы опять идти за казера. А мы дальше двинем.
И, больше не обращая на пленных внимания, он повел свое отделение вперед.
Бредов руководил наступлением своего батальона и весь был полон неуемной жажды боя и победы. То, о чем он мечтал – сознавать себя крепкой частицей победоносной русской армии, – осуществилось.
Перед ним была вторая линия австрийских укреплений. Тут только что прошел ураган русского артиллерийского огня, и батальон должен был развить уже достигнутый успех. Бредов в бинокль видел, как австрийцы побежали прятаться в укрытия. Наученные горьким опытом, они не торопились вернуться, боясь, что сейчас возобновится огонь. Бредов опустил бинокль.
«А что, если стремительным ударом, не давая противнику опомниться, взять эти окопы и блиндажи?»
Эта мысль обожгла его, и он передал приказ в роты.
– Главное – не терять ни одной минуты! – сказал он и, став во главе одной из рот, размашисто забирая длинными ногами, побежал вперед. На одно мгновение ему показалось, что риск велик, – а вдруг австрийцы успеют вернуться и открыть огонь? «Нет! Они, как суслики, сидят в своих норах», – подумал он и побежал еще быстрее.
Из флангового окопа затрещал пулемет. Понимая, что теперь уже поздно остановиться и что все заключается в быстроте, Бредов протяжно закричал «ура» и вырвался вперед. Им овладело дерзкое чувство удачи. Он первым прыгнул во вражеский окоп, с упоением видя, что разгоряченные солдаты не отстают и набегают широкой цепью.
Он послал донесение Васильеву, думая, что тот прикажет ему закрепиться на занятых позициях, и был поражен, прочитав приказ с аллюром три креста, написанный на листке полевой книжки.
«Первый батальон уже обогнал вас, – сообщал Васильев, – второй продвигается уступом с вашего правого фланга. Используйте удачу и боевое настроение солдат – смело продвигайтесь вперед. В случае нужды – помогу вам. Держите со мной связь. С богом!»
Бредов даже засмеялся от радости: с таким командиром, как Васильев, хорошо воевать! Да, надо полностью использовать успех, гнать ошеломленного врага, не давать ему опомниться. Он зорко поглядел на солдат, уверенный, что и они думают то же, что и он. Многие из них были радостно возбуждены. Но он увидел и мрачные лица… А бородатые ополченцы совсем не имели солдатского вида, вбирали головы в плечи, и ясно было, что они только идут за остальными, а дай им волю – побежали бы назад, в безопасное место.
Австрийцы усилили огонь, пулеметы били с флангов. Солдаты замялись, стали ложиться. Бредов понял, что наступил момент, когда командир своим собственным примером должен увлечь за собой солдат. Он любил вспоминать великие примеры из истории и подумал, что сейчас надо действовать подобно Наполеону на Аркольском мосту, бросившемуся вперед под градом вражеских пуль. Это сравнение не показалось ему смешным, и он пошел впереди одной из своих рот, бывшей в центре атаки. Их встретили усилившимся огнем. Бредов понял, что штурмовать в лоб нельзя. Беспокойно подумал о своей левофланговой роте, которой командовал Казаков: вот если бы тот догадался с фланга охватить пулеметы, погасить их огонь!.. Бредов поспешно вынул полевую книжку, с досадой думая, что, пока будет доставлен приказ, пройдет несколько драгоценных минут, которые могут решить судьбу боя. Но пока он писал, рота Казакова сделала то, чего он хотел. Вражеские пулеметы смолкли, и батальон ворвался в австрийские позиции.
В эту минуту из казаковской роты прибыл связной. Он доложил, что сам Казаков ранен, из строя выбыли все офицеры и командование ротой принял старший унтер-офицер Мазурин.
Узнав, что это случилось еще до того, как ротой был произведен фланговый маневр, Бредов удивился: «Как же это? Значит, фланговый маневр с захватом австрийских пулеметов произвел не Казаков, а Мазурин? Молодец. Право, молодец! Надо представить его к Георгию…»
2
Одновременно с возвращением Мазурина на фронт в штаб полка прибыло секретное донесение о том, что старший унтер-офицер Мазурин политически неблагонадежный и за ним необходимо особо следить. Васильев, раздраженный полицейским вмешательством в военные дела, вызвал Казакова, сердясь, рассказал ему суть дела и спросил, что же им делать с Мазуриным.
Казаков пожал плечами.
– Вы сами знаете, Владимир Никитич, – сказал он, – какая у нас страшная нужда в опытных унтер-офицерах. А Мазурин воюет с начала войны, один из лучших взводных. Заменить его некем.
И резко добавил, зная слабую струнку Васильева:
– Они там, в тылу, любят в наших делах копаться. Их бы сюда хоть на недельку, они бы другое запели!
– Да, да, – согласился Васильев. – Мы его пока не тронем. Но только прошу вас, поговорите с ним по душам, скажите, что сейчас не время заниматься всякими там… ну, сами понимаете… – он строго посмотрел на Казакова. – И предупредите, что в случае чего – пусть не обижается на нас.
В тот же день Казаков наедине переговорил с Мазуриным, и они решили, что Мазурин пока ни с кем не будет видеться, а все, что нужно, передаст Балагину сам Казаков.
Дело как будто обошлось. Но через несколько дней прибыла вторая бумага, в которой сообщалось, что о Мазурине обнаружены новые данные и потому следует его арестовать и держать, пока не будет указано, как с ним поступить и куда направить. Эту-то бумагу Пронин и скрыл, хотя хорошо знал, чем рискует.
Мазурин думал, что победа царской России в войне надолго отдалит революцию. Но в бою он не мог оставаться бездейственным, и это было ему особенно тяжело. Когда он, после ранения Казакова, временно принял командование ротой, то сразу же оценил обстановку. Слева тянулась роща, ярко-зеленая от свежих листьев, достигавшая фланга австрийских окопов. Идти в лоб не было смысла, и, оставив один взвод с пулеметом, приказав поддерживать огонь и погромче кричать «ура», изображая атаку, Мазурин повел остальные взводы рощей, выслав вперед сильную разведку.
Австрийцы были заняты отражением атаки с фронта. Их сторожевые дозоры в роще были бесшумно сняты, и Мазурину удалось пробраться незамеченным к самому неприятельскому расположению. Не теряя темпа, он сразу начал последний бросок. Солдаты так дружно ринулись за ним, что без выстрела ворвались в окопы, прежде чем австрийцы успели очухаться. И сейчас же поняв, что надо поддержать другие роты батальона (сам он действовал на левом фланге), Мазурин приказал пустить в дело захваченные неприятельские пулеметы и стал продвигаться к центру австрийского расположения.
– Ну, я бы тебя командиром полка назначил! – с уважением смотря на него, сказал сероглазый, уже немолодой ефрейтор, украшенный Георгием. – Просто по нотам, как музыкант, разыграл бой!
И другие солдаты дружелюбно смотрели на Мазурина, и ему были необычайно приятны их похвалы. «А что же, – подумал он, – хорошо я роту повел. Если бы пришлось, и с батальоном, пожалуй, справился бы… Нет, не плохо знать военное дело. Кто его знает, как оно еще может нам пригодиться…»
По окончании боя в роту пришел Бредов, и Мазурин обо всем доложил ему…
– Прекрасно действовал! – похвалил Бредов. – Мы, кажется, с тобой еще по Егорьевску знакомы? – нерешительно спросил он.
Мазурин внимательно посмотрел на Бредова (он хорошо помнил предмет их разговора), но не счел нужным напоминать об этом.
«А ведь он тогда говорил мне о войне и как будто намекнул, что она не нужна русскому народу, – вспомнил Бредов. – Что же он теперь – иначе думает? Нет, не похож он на человека, меняющего свои убеждения». На следующий день Васильев прислал в роту нового командира – прапорщика Рылеева. Рылеев служил до войны вольноопределяющимся, затем был направлен в Иркутское военное училище и там за бравый вид и хорошее знание строевой службы оставлен в кадрах. В шестнадцатом году, устыдившись тыловой работы и мечтая о боевой славе и орденах, он отпросился на фронт. Широкоплечий, с упрямым подбородком, узкими монгольскими глазами и черными жесткими волосами, он понравился солдатам: был прост и ласков с ними, курил, как и они, махорку, не прятался от опасности. Но в бою слишком горячился и как-то под сильным огнем приказал штурмовать противника в лоб, правда сам идя среди атакующих. Неразумность приказа была ясна солдатам. Они замялись.
– Не стоит так, ваше благородие, – спокойно посоветовал Мазурин. – Лучше бы обойти, иначе перестреляют нас, а толку не будет.
Рылеев вспыхнул.
– Ты что это? – приглушенно спросил он. – Кто здесь командир? Я у тебя совета не просил. Да ты знаешь…
И сразу замолчал. Во взгляде Мазурина не было никакого вызова, но такая ясная и разумная твердость светилась в нем, такая спокойная сила чувствовалась во всем его облике, что Рылеев понял: нельзя так говорить с этим человеком.
А Мазурин продолжал, будто ничего не произошло:
– Разрешите мне, ваше благородие, с первым взводом обойти их? Местность подходящая, проберемся незаметно через кусты и по вашему сигналу – ударим. Вот здесь – буерачек, а здесь – низинка с болотцем. Не заметят они нас. Мы их ловко обманем…
– Да, пожалуй!.. – согласился Рылеев. – Да, пожалуй! – решительно повторил он и крепко стиснул руку Мазурина. – Прости, взводный. Больше не будем с тобой ссориться…
Они сошлись друг с другом. Рылеев оказался хорошим парнем. Сибиряк родом, сын мелкого акцизного чиновника, он вырос, часто общаясь с отчаянными тобольскими ребятами, которые никому не давали спуска и были известны озорными выходками и проказами.
– Фамилия у вас хорошая, – сказал ему Мазурин, когда они поздним вечером, после боя, сидели в австрийском окопе и курили крепчайшую нежинскую махорку.
Рылеев быстро взглянул на него:
– Ого, взводный, ты и про декабристов знаешь?
Скоро он убедился, что Мазурин во многих областях знает гораздо больше его, а в военном деле разбирается с удивительным пониманием и чутьем, поражавшими Рылеева.
Незаметно для себя Рылеев все больше поддавался влиянию Мазурина и любил беседовать с ним. Мазурин же был сдержан, чаще отвечал, чем спрашивал, но отвечал так, что обсуждаемый вопрос неожиданно освещался в совершенно новом свете.
– Хорошо воюем, – с гордостью сказал ему как-то Рылеев, вытягивая короткие ноги в запачканных грязью сапогах. – Вот какая она, матушка Россия, когда во весь рост поднялась!
Мазурин ничего не ответил, и Рылеев ревниво произнес, придвигаясь к нему ближе:
– Что же ты, взводный, молчишь, не согласен?
– Да так… – неохотно ответил Мазурин. – В рост ли?
– А как же не в рост?! – воодушевился Рылеев. – Ведь весь народ воюет – от Сибири до Москвы и Киева! Это ли не в рост? Нет, ты не спорь.
– Я и не спорю, – в глазах Мазурина Рылеев опять увидел ту убедительную силу, которая так привлекла его. – Народ наш любит свою родину и никому не отдаст ее. Но он за свое хочет воевать, а не за чужое.
– Как – за чужое? – оторопел Рылеев, бросая самокрутку. – Ну, ну, говори. Я послушаю.
– Молчание – золото, ваше благородие, – сказал Мазурин, улыбнувшись, и отошел от командира роты.
3
Русское наступление продолжалось. Главный удар наносился на Луцк, Ковель и далее – на Брест-Литовск, чтобы срезать правый фланг германских армий, действовавших против Западного фронта. Наносившая этот удар восьмая армия уже к вечеру первого дня заняла на широком фронте первую, самую сильную линию австро-германцев, взяла до пятнадцати тысяч пленных, много орудий и другой военной добычи. Вторая линия оказалась слабее первой, и, обессиленные тяжелыми потерями, австрийцы вяло защищали ее. Четвертый кавалерийский корпус русских, войдя в образовавшийся прорыв, прошел в глубокий тыл противника и перехватил железную дорогу Ковель – Сарны и Ковель – Луцк, что сразу затруднило противнику передвижку резервов и маневрирование ими. Австрийцы бросили последние силы, чтобы прикрыть Луцк. Германский генерал фон Линзинген, командовавший на этом участке, был уверен в прочности своего фронта и считал русское наступление несерьезным. Он даже объявлял в своем приказе: «Численность противника и сравнительно небольшие потери, нанесенные огнем его артиллерии, не обещают русским успеха. Это слабое наступление, предпринятое русскими для уравновешения успехов союзников против Франции и Италии, будет сломлено».
Как всегда, немцы недооценивали противника и переоценивали свои собственные силы. В одном только Линзинген был прав: наступление было начато с целью помочь союзникам России – Франции, которую немцы жестоко теснили под Верденом, заставляя стягивать туда свои последние резервы, и Италии, разбитой под Изонцо, где австрийцы угрожали прорваться через горные проходы и выйти на венецианскую равнину.
Начальник австрийского генерального штаба Конрад фон Гетцендорф, один из немногих способных генералов габсбургской монархии, с начала войны с Италией мечтал о военном разгроме бывшей союзницы, изменившей центральным державам и перешедшей в стан ее врагов. Но только весной тысяча девятьсот шестнадцатого года ему удалось накопить против Италии достаточные силы А начать наступление. Первые успехи русских не могли его заставить снять ни одной дивизии из Тироля. Австрии была нужна хотя бы одна победа. Но когда оказалась разгромленной четвертая армия эрцгерцога Иосифа-Фердинанда, когда в полной панике, бросая оружие и оставляя артиллерию, австрийцы, теснимые русскими войсками, побежали через мосты у Борятин и Подгайцы и командование потеряло всякую связь со своими частями, тогда в отчаянии и бессильной ярости фон Гетцендорф был вынужден отказаться от успешно проходившего наступления против Италии и начать переброску войск на русский фронт.
…Подходила осень, небо становилось бледнее, чаще шли дожди, падали листья с деревьев, устилая землю. Так блестяще начатое русское наступление замирало, не достигнув своей главной цели – вывести из строя Австро-Венгрию. Другие русские фронты вовремя не поддержали Юго-Западный, и только союзники много тут выиграли, так как немцы прекратили против них всякие активные действия, оттянув свои силы из Франции на Восточный фронт.
Васильев за военные заслуги был произведен в генералы и получил в командование дивизию. Но он мало радовался этому. Его томило и мучило горькое сознание, что самое главное не было сделано. Опять против русской армии тянется крепкий фронт противника, опять придется все начинать сначала…
Поздним вечером он сидел в избе у раскрытого окна. Надвигалась ночь, тихая, свежая, звезды устало светили в небе. По улице медленно шел офицер, и, когда поравнялся с окном, Васильев узнал Бредова.
– Зайдите, Сергей Иванович!
Он обратил внимание на бледное лицо Бредова, на глаза, в которых виднелись смущение, боль, и тихо спросил:
– Устали?
– Нет, не устал, Владимир Никитич! – Бредов поднял глаза, встретив острый, испытующий взгляд Васильева. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. В глазах Васильева Бредов прочел: «Можете говорить все. Я разрешаю – так нужно».
Но он молчал. То, что мучило Бредова в последние дни, было так глубоко и сложно, столько страшных мыслей приходило ему в голову, столько мучений причиняли ему эти мысли, которые он гнал от себя, полагая, с солдатской прямотой, что ему не дано право так думать, что он никогда не решился бы высказать их, да еще перед старшим начальником.
– А скажите, Сергей Иванович, – спросил вдруг Васильев, – замечали вы у ваших офицеров то, что теперь испытываете сами?
Бредов вздрогнул. Почти неслышно он спросил:
– Что именно думаете вы, Владимир Никитич?
– Ну, вы понимаете… То самое, что тревожит вас. Ведь тревожит, грызет, да? Не скрывайте от меня ничего, ни-че-го. Это мне очень важно знать!
…Всего несколько дней назад Брусилов побывал в дивизии Васильева. Он приехал, как всегда, неожиданно, в сопровождении только двух офицеров, выслушал рапорт Васильева и просто сказал:
– А я уже походил тут у вас. Хорошие полки. Особенно моршанцы. Они ведь и на японской воевали?
– Точно так, ваше высокопревосходительство, воевали, – ответил Васильев. – Мой родной полк, я с ним в Маньчжурии был.
– Да, на нашего русского солдата грешно жаловаться, – задумчиво произнес Брусилов, и Васильев уловил оттенок горечи в его голосе. – Много он вынес и бог весть сколько еще вынесет за отечество свое, за Россию…
Он скоро уехал, и Васильев, для которого самое дорогое в Брусилове были воинская честность и талант, много думал о нем.
Все великое наступление, так талантливо и энергично организованное и проведенное Брусиловым вопреки воле трусливого и бездарного верховного командования, наступление, которое, как это твердо знал Васильев, спасло Францию и Италию от разгрома, могло, при поддержке другими фронтами, вывести из строя и Австрию, изменить всю судьбу войны. Не по вине Брусилова все случилось иначе, и полководец горько переживал крушение своих больших и смелых планов. Так же переживали это и лучшие офицеры Юго-Западного фронта, в том числе и Васильев. Вот почему хотел он узнать – не те ли же горькие чувства, что и его самого, мучат Бредова?
Он близко наклонился к его лицу, покусывая свой светлый ус, и слушал медленные, трудные, отрывистые слова своего старого боевого товарища, офицера, которого он ценил за честность и воинское умение. Он неспроста допрашивал Бредова: та трагедия, что назревала в нем, когда выяснилось, что большое их наступление гасло, не поддержанное другими фронтами, переживалась не им одним. Те же мысли, что мучили его, подметил он и у других офицеров и боялся, что эти мысли, такие страшные на войне, могут проникнуть еще глубже – в солдатскую массу…
– Вы можете с меня взыскать, – говорил Бредов, – но я считаю своим долгом все доложить вам как на духу. Первые дни нашего наступления были для меня очень радостные, самые счастливые в этой войне! Я уже говорил вам об этом. Именно так я представлял себе наш большой удар. Я следил в бинокль за действиями нашей артиллерии. Как она работала!.. С каждым днем возрастал наш успех, с каждым днем! Мы расширяли прорывы, гнали врага, брали десятки тысяч пленных, орудия, пулеметы. Я часто думал: почему создается вокруг нас какой-то заколдованный круг, почему, черт возьми, победа, которая не раз улыбалась нам, уже блистала перед нами в дыму и огне боя, почему она всегда ускользала от нас? Ведь мы дрались, не щадя жизни. Сколько подвигов совершали наши офицеры и солдаты, и все это тухло, как тухнут отдельные искры в костре, который не может разгореться. Надо же хоть раз честно сказать об этом, вложить персты в свои собственные раны!.. Страшно вспомнить Мазурские озера, пятнадцатый год, страшно вспомнить мне нашу ставку, ее чиновников-генералов, которые не поражения боятся, нет!.. а того, как бы не угодить высшему начальству, и думают об одном – как бы получше выслужиться и сделать карьеру… О, бедная, бедная наша Россия! Кто же виноват, кто, скажите, довел ее до такого состояния?!
Он опустил голову.
– Я дрался с японцами, – глухо продолжал Бредов, – в ту пору было еще хуже, еще более мерзко. Когда началась теперешняя война, я подумал: вот оно – искупление, вот она – вторая отечественная война. Помню, как мы сбили пограничный столб с черным германским орлом, как вошли в Восточную Пруссию. Чем это кончилось – известно…
Он машинально потянулся к карману и отдернул руку.
– Курите, – разрешил Васильев.
Бредов достал папиросу, помял ее, покатал между пальцами, закурил.
– Выходит, что я всю историю войны вспоминаю, – сказал он, – но я не историю вспоминаю, а жизнь свою вам рассказываю…
И, подняв на Васильева потемневшие глаза, он сказал с такой болью, что видно было, какие это выстраданные слова:
– Вся история войны говорит за то, что… – он вдруг растерянно замолчал.
Васильев сурово глядел на Бредова, рука его повелительно поднялась. Да, он не мог больше сдержать себя и в то же время не мог понять, что так потрясло его, почему он так ненавидел в эту минуту Бредова? Неужели, вызвав Бредова на откровенный разговор, он теперь не может сдержать возмущения от всего того, что слышит? И тут же признался самому себе: да, не может! Самые горькие и затаенные свои мысли, которые он гнал прочь от себя, считая их неверием в Россию, были брошены ему в лицо Бредовым. Теперь он видел, что все идет не так, как представлялось в начале наступления. Бывает у человека во время сна состояние, когда ему кажется, что на него нападают, а он не может шевельнуться, поднять руку, чтобы защититься. Это ужасное ощущение собственного бессилия, связанных рук было невыносимым для него, и он прятал его от всех, от всех, и вот случилось то, чего он больше всего боялся: это сознание мучит не только его, а многих, очень многих…
Васильев молчал, прижав пальцы к вискам.
– Я пойду, Владимир Никитич…
Согнувшийся, с потухшими глазами, с дрожащей рукой, которая все пыталась застегнуть перчатку на другой руке и не могла, Бредов был исполнен такого мужественного, солдатского горя, что у Васильева сжалось сердце. Он как будто узнал в Бредове самого себя, свои сомнения. Резко шагнул к нему, спросил:
– Так как же, Сергей Иваныч, что полагаете делать?
Бредов ответил ровно и спокойно, только голос был приглушен:
– Драться, Владимир Никитич, драться…
Васильев протянул ему руку, крепко пожал:
– До свиданья, Сергей Иваныч. Желаю успеха.
Оставшись один, Васильев прошелся по комнате, стиснул руки.
«Крылья, крылья связаны, – тоскливо подумал он и поглядел в окно, в черную ночь. – Сколько силы в нас, какое широкое сердце у людей наших… Когда же, господи, взмахнут наши крылья во весь свой размах, во всю русскую силу? Когда же?.. Когда?»
4
Вернувшись из дивизии Васильева, Брусилов прошел в свой кабинет и сейчас же принялся разбирать на письменном столе бумаги. Среди них он нашел пачку солдатских писем с сопроводительной запиской начальника секретной части. Тот докладывал, что, так как задержано очень много писем революционного содержания, он счел необходимым ознакомить с некоторыми из них главнокомандующего фронтом.
Брусилов стал читать письма на выборку.
Вот Павел Соломенников, канонир мортирного дивизиона, скорбит о России:
«…Слабые мы очень, видно, и разорилась наша Россия – довели ее до нехорошего, до горького позору… Если самим не взяться да не кончить, то и в 50 лет не станет Россия на старое место. Нет, так уж воевать нельзя. Разве стерпит народ?»
«А если в самом деле не стерпит? – подумал Брусилов. – Разве мало вынес народ? Где же проходит граница его долготерпения?»
Он взял из пачки следующее письмо.
«Олимпиаде Михайловне Степановой, город Саратов.
Мы воюем, страдаем, а за нашей спиной жиреет всякая дрянь да за нас решает, конечно, в свою пользу, наши собственные дела. Когда читаешь газеты, то ужас до чего обнаглели все эти Питиримы да Распутины, а мало ли их? Понятно: им и подобным им выгодно вести войну без конца, а спросили бы народ, хочет ли он воевать? Я что-то давно не слыхал про победы, все отходы да отходы. Положим, до Сибири еще далеко…»
«И сколько таких писем!.. – вздохнул Брусилов. – Да, недоброе творится в армии, недоброе…»
Он достал еще одно письмо, адресованное солдатом Мещевиновым в Сарапул. Пробежал несколько строк и покачал головой. Страшно подумать, какими стали солдаты, о многом они думают, многое понимают по-своему…
Брусилов перебрал несколько писем, выхватил одно, написанное, как ему показалось, более грамотным почерком. Опять такое же! Значит, подобные настроения становятся массовыми?.. Он стал читать:
«…Напрасно в России народ уничтожается, убивают напрасно, весь народ волнуется, и все готовы к революции. А что революция будет, так это, пожалуй, более чем вероятно. А разве народ, который раньше был слеп, разве народ этот не прозрел, разве он не видит, что измена проникла в верхние слои правительства, которое дискредитировало свою власть? Ну и правительство едва ли добровольно выпустит власть из своих рук. И власть притом безграничную…»
Брусилов вскочил, в волнении прошелся по комнате. И вдруг показалось ему, что ставка и все высшее командование как бы повисли над солдатской пучиной, готовой поглотить их. Ох, страшен будет солдатский счет к тем, кто так преступно управлял ими, бросил в мясорубку войны.
Он не мог больше читать. Ему стало душно. Подошел к окну. Запах свежего сена донесся до него. Где-то негромко заржала лошадь.
– Да, да, это очень страшно, – вслух сказал Брусилов. – А я думал, что знаю русского солдата.
Ему надо было отвлечься. «Проедусь верхом», – решил он и вышел.
– Сам подседлаю, – бросил он ординарцу, быстро входя в конюшню и с наслаждением вдыхая запах сена, наваленного в углу.
Кобыла, стоявшая в деннике, повернула к нему голову, покосилась выпуклым темно-синим, как спелая слива, глазом и обдала сильным, теплым дыханием. Он огладил ее, дал с ладони кусочек сахару, накинул уздечку, потник и седло, затянул подпруги. Кобыла немного поиграла с ним, притворяясь, что хочет укусить.
– Застоялась, ваше высокопревосходительство, – пояснил ординарец. – Утром водил ее по двору, так она рвется, просится, ей-богу!
Ординарец Брусилова служил в гусарах, любил и понимал лошадей и в конюшне чувствовал себя равным генералу.
Брусилов проверил длину стремени и велел ординарцу вывести лошадь. Взяв ногой стремя и ухватившись рукой с зажатыми в ней поводьями за гриву, Брусилов легко поднялся в седло, и в ту же минуту кобыла, играя, встала на дыбы. Нажимом поводьев он опустил ее на передние ноги и толкнул шенкелями. Она охотно пошла легким, танцующим шагом, прося повода, весело мотая головой и пытаясь выброситься вперед. Сдерживая ее, чувствуя каждое ее движение, Брусилов немного проехал короткой рысью и затем галопом поскакал в поле, глубоко дыша, чувствуя себя, хоть ненадолго, освобожденным от тяжелых дум.
Вечером ему доложили, что в штаб фронта приехал французский генерал Савиньи.
Брусилов с досадой подумал, что ему придется возиться с вылощенным штабным генералом, но Савиньи приятно разочаровал его. Это был черненький, сухощавый, очень бодрый старичок, с мушкетерскими, тронутыми проседью усами и воинственной острой бородкой, с живыми глазами, одетый в поношенный мундир и коричневые краги. Вытянувшись, а затем крепко пожав руку Брусилова, француз стремительно заговорил: