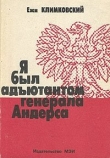Текст книги "Солдаты вышли из окопов…"
Автор книги: Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц)
Сторож поднял фонарь к лицу, открыл стекло, задул свечу.
Над лесом, над путями висело пустое, неживое небо. Вдоль полотна виднелись скорчившиеся от холода солдатские фигуры.
И внезапно вся картина преобразилась. Прибежали офицеры, поддерживая рукой шашки. Проиграл рожок.
– Смирно! Смирно! – пронеслось по путям.
– Слуша́й, на кра-ул!
Солдаты стояли вытянувшись, и винтовки, как длинные коричневые свечи с серыми огоньками штыков, были прижаты у каждого к груди. Стояли долго, измученные холодом и бессонницей, ошеломленные, ничего не понимающие. Наконец из леса вынесся поезд с двумя паровозами, прошел, волоча, как гигантская змея, кольчатое туловище. Зеркальным блеском отливали широкие окна салон-вагонов. Не останавливаясь, поезд миновал станцию. И когда он скрылся в утреннем тумане, раздалась протяжная команда:
– К но-ге!
9
– Вы меня замучили, капитан! – недовольно говорил Денисову командир полка Максимов. – Неужели каждый день нам пишут все эти жандармские управления – губернские, уездные и еще не знаю какие?! Что им от нас надо? Ведь мы же военное ведомство и никакого касательства к ним не имеем. Ну, скажите, чего хочет от нас, например, московское жандармское управление?
Денисов, сочувственно улыбаясь, развел руками. «Кокетничаешь, старая лиса, – подумал он, – а сам всегда рад выслужиться перед жандармами». И доложил:
– Все те же дела о порочных в политическом отношении нижних чинах, господин полковник! Жандармское управление просит переслать ему список призывников четырнадцатого года, живших в Москве и Московской губернии, и особо отметить всех инородцев и рабочих.
– Тоже придумали: «порочный нижний чин»! – проворчал Максимов. – Ну, что там еще у вас?
– Дело Корунченко, Письменного и Рациса, – быстро перечислял Денисов. – Есть еще…
– Да ну их ко всем чертям! – Максимов отодвинул бумаги. – Решайте без меня, Андрей Иваныч!.. Устанавливайте надзор за порочными солдатами и все такое прочее. Пожалуйста. Надоело!
– Теперь самое последнее, – почтительно сказал Денисов, – и больше не буду вас беспокоить. Тут у нас рапорт денщика капитана Вернера, рядового третьей роты Иванкова. Просит вернуть его в строй.
– Он уже, кажется, просил об этом?
– Так точно. Но вы предоставили тогда решение самому капитану Вернеру, а он не согласился… Доволен Иванковым.
– Так что же я могу сделать? – раздраженно спросил Максимов. – Нельзя же отзывать денщика, если офицер им доволен! А чем этому Иванкову плохо у Вернера?
Денисов немного замялся.
– Откровенно говоря, капитан жестковат и… очень требователен.
– Зато какая у него рота! – оживленно возразил Максимов. – Лучшая по выправке и маршировке! А видели, Андрей Иванович, как они прошли на последнем смотру? Прямо, знаете ли, прусская гвардия! Печатали, а не шли. Прелесть! Лучшая моя рота!
Он закрыл глаза, чтобы яснее представить себе, как шла эта самая третья рота, помахивал рукой в такт воображаемому ее маршу, шептал: «Левой, левой!» – и, удовлетворенно вздохнув, сказал:
– Вопрос ясен. Все у вас? Пойду домой. Пора обедать.
– Мария Дмитриевна, кажется, уехала? – с подчеркнутой озабоченностью спросил Денисов.
– Да, в Москву укатила. Холостяк я теперь… соломенный! Хе-хе-хе!..
– Хе-хе-хе! – в тон ему подхватил Денисов и, когда полковник протянул ему руку, согнулся в поклоне.
Максимов молодцевато шел по улице. Встречавшиеся купцы снимали шапки, низко кланялись: они были заинтересованы в поставках полку, в заготовках хозяйственным способом и только искали случая выказать полковнику свое душевное расположение. Они понимали, что если с умом кормить казенного воробья, то возле него можно и всем семейством прожить!.. Шагая, Максимов думал об обеде, о водке, настоянной на черной смородине, и о Тоне, которая должна быть сейчас одна в квартире… «Ну что же: ничто человеческое мне не чуждо», – бормотал он.
Тоня открыла ему дверь, приняла от него фуражку.
– А где Алексей? – справился он о денщике.
– Поехал за продуктами… Прикажете подавать обед?
– Сначала умыться. Кто-нибудь дома есть?
– Никого нет, барин, – ответила Тоня и пошла вперед, в ванную.
Он шел за нею, осматривал ее стройную, легкую фигуру. Потом неожиданно схватил Тоню сзади, поднял на воздух и вместе с нею повалился на диван. Она не кричала, а вся сжалась, подвела колени к груди и отчаянным усилием ног отбросила от себя Максимова. Он свалился на пол, и она побежала из комнаты.
– Стой! Двадцать пять рублей дам… – закричал ей вслед Максимов.
Хлопнула выходная дверь. Он тяжело поднялся с пола, зло взглянул в окно: Тоня перебегала улицу.
Она не знала, куда ей идти. Сильно колотилось сердце. Одинокая, беспомощная… Где приютиться?.. Она непрестанно оправляла платье и волосы, ей казалось, что вся она измята, растрепана и встречные догадываются, что с ней сейчас произошло. Ветер со свистом гнал по улице пыль. Толстая серая туча надвинулась на другую – белую – и закрыла ее. Упали первые капли, скатывая комочками пыль, и вдруг улица покрылась косой решеткой дождя. Тоня шла, не думая, что надо укрыться от непогоды. Увидела знакомого приказчика из булочной и, боясь, что он может заговорить с ней, спряталась в воротах. И тут увидела проходившего мимо высокого солдата с русыми волосами, которого не раз встречала с Карцевым.
Она окликнула его и, пока он подходил, вспоминала его фамилию. Но, так и не вспомнив, протянула ему руку и застенчиво спросила, не может ли он вызвать Карцева. Мазурин внимательно и сочувственно посмотрел на нее.
– Я вас знаю, – сказал он. – Карцев говорил мне про вас. Вы, кажется, служите у полковника Максимова? С вами что-нибудь случилось?
Голос его прозвучал так дружески, глаза так чисто, так искренне смотрели на Тоню, что она сразу ослабела. Едва сдерживая слезы, рассказала о Максимове.
– Мерзавец! – гневно проговорил Мазурин. – Пойдемте, я отведу вас к своим друзьям. Они простые люди и ласково примут вас.
Они прошли два переулка и очутились во дворе одноэтажного домика. Через узкие сени пробрались в чистую, светлую комнату.
– Катя! – обратился Мазурин к невысокой белокурой девушке, встретившей их. – Это – Тоня, друг Карцева. Она ушла, сбежала от своего изверга хозяина. Можно ей пока пожить здесь?
– Ну конечно! – Катя обняла Тоню. – Вам надо переодеться. Сухой нитки на вас нет!
И отвела ее за занавеску.
Мазурин сел за стол и стал писать бесцветной, как вода, жидкостью между строчек письма, в котором говорилось о семейных делах, передавались поклоны родным. Еще до поступления на военную службу он был участником рабочих социал-демократических кружков на Прохоровке. На Пресне он и вырос. В девятьсот пятом году подростком дрался там на баррикадах. Получив партийные явки и убедившись, как вяло и ненадежно шла в полку подпольная революционная работа, он медленно и терпеливо налаживал ее, поддерживал тесную связь с большевистской организацией в городе и за два года военной службы сделал многое. Его последним успехом было привлечение к партийной работе писаря Пронина и поручика Казакова. Мазурин ожидал литературу из Москвы, а пока что сам писал листовку, которую назвал «Царь и народ». В ней он вкратце излагал историю борьбы рабочего класса России за свое освобождение, подчеркивал значение 9-го января и Ленского расстрела, окончательно убедивших народ, что от царя, кроме пуль и тюрьмы, ждать нечего.
С Катей он познакомился, уже будучи солдатом. Она работала на фабрике. Ее старшего брата изувечили полицейские, отец, арестованный во время стачек тысяча девятьсот пятого года, погиб на каторге вблизи Минусинска, ее мать Васена укрывала политических, прятала подпольную литературу…
Мазурин был уверен, что Тоня почувствует себя в этой семье как дома.
Закончив писать, он передал конверт Кате:
– Сама опусти!
Катя молча кивнула. Она знала, что это очередное мазуринское письмо заключало в себе больше чем весточку родным…
…Несколько дней спустя Тоня устроилась на фабрике. Когда, в отсутствие Максимова, она пришла на его квартиру за своими вещами, денщик Онуфрий грустно сказал ей:
– Счастливая ты, Тоня, улетела! А мне еще год страдать…
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1
Капитан Вернер проснулся. Он лежал голым на огромной медвежьей шкуре, покрытой простыней, и внимательно рассматривал свое большое мускулистое тело, поросшее рыжеватыми волосами. Сладко потянувшись, он позвал:
– Иванков!
Вбежал денщик – белокурый, но с узкими, монгольскими глазами и с короткими, не по росту, руками. По всей его напряженной фигуре, по застывшему лицу и прилипшим к бедрам рукам было видно, что он до ужаса боится Вернера.
– Массаж! – приказал капитан.
Иванков вышел и сейчас же вернулся без гимнастерки, с засученными рукавами рубахи, с банкой вазелина. Капитан вытянул ногу, уперся ею в живот денщика, и тот старательно начал втирать вазелин в кожу, разминал мышцы, хлопал по ним ладонями. Закончив массировать одну ногу, он осторожно опустил ее и взялся за другую. А когда Вернер улегся на живот, подставив массажисту спину, Иванков стиснул зубы, с отвращением глядя на капитана.
Он уже полгода служил у Вернера. И, несмотря на животный страх перед ним, попросил однажды отчислить его в роту. Вернер отказал. Тогда Иванков по команде подал о том же просьбу командиру полка. Вернер, узнав, не упрекал его за это. Он только смотрел на него пустыми, холодными глазами и усмехался. И этот взгляд был так страшен, что Иванкова пробирала дрожь. Часто капитан будил его ночью и приказывал подать папиросы, лежащие тут же, под рукой, или налить вина из бутылки, стоящей на низеньком столике у постели. Власть Вернера над солдатом была беспредельна, убийственна, и денщик знал, что всякое сопротивление приведет только к гибели. И тем не менее он всеми силами пытался вырваться из-под власти капитана, но все напрасно. Вернер издевательски говорил ему:
– Никуда не отпущу. Прослужишь у меня весь срок службы.
После массажа капитан напился чаю, оделся и ушел в роту. Шагал огромный, прямой, гордясь своей прусской выправкой, ставил ногу во весь след.
Он обошел выстроившуюся роту, вглядываясь в каждого солдата, будто гипнотизируя его. Как обычно, остановился перед Орлинским, приказал ему выйти из рядов, осмотрел его с ног до головы. Потом, как бы забыв о нем, заговорил с фельдфебелем, но все время следил за Орлинским скошенным, охотничьим глазом. И когда Орлинский шевельнулся, Вернер неожиданно легко для своего тяжелого тела обернулся и мягко спросил:
– Ты что же это шевелишься в строю? Разве можно?..
Орлинский замер, точно почувствовав над собой невидимые хищные когти.
– Проверим, как вы знаете устав, – говорил Вернер, расхаживая перед фронтом. – Скажи мне, Ерлинский, – он нарочно коверкал его фамилию, – имеешь ли ты право идти в театр?
– Так точно, ваше высокоблагородие.
– А не врешь? Во-первых, без разрешения, не можешь. Не все спектакли дозволено смотреть солдату. А во-вторых, на какие места тебе можно идти?
Орлинский промолчал.
– На галерку, понятно? Потому что в кресла ходят только благородные люди, и в том числе – господа офицеры. А как будешь держать себя во время антракта?
– Выйду или останусь на месте, ваше высокоблагородие! – задыхаясь, ответил Орлинский.
– Врешь, Ерлинский. На месте тебе нельзя сидеть во время антракта. Ты обязан встать и столбом торчать до начала действия. Понятно?
И, глядя на роту замораживающими глазами, Вернер говорил, отчеканивая каждое слово:
– Вы не имеете права курить на улице, ездить в трамваях и в вагонах первого и второго классов. Не имеете права ходить в городской сад, когда там музыка. Кто ответит – почему? Отвечай ты, Ермилов.
– Так что, ваше высокоблагородие, уставом запрещено.
– Без тебя, дурака, знаю, что запрещено. А почему запрещено?
И, садясь верхом на стул, разъяснял:
– Потому, что вы нижние чины, н и ж н и е, – то есть вам нельзя быть вместе с высшими.
Он так мог говорить долго, подчеркивая то, чего не должны делать солдаты. Правда, в полку он был единственным, кто занимался подобными нравоучениями. Но солдаты понимали, что при желании любой офицер может последовать примеру Вернера.
Полевым занятиям капитан отдавал мало времени. Тактические упражнения, приспособление к местности, решение боевых задач, даже стрельба были у него на втором плане. Зато шагистика, маршировка опьяняли его. Расставив ноги, он смотрел на марширующую роту и считал мерно, густо:
– Р-раз-два! Раз-два! Левой, левой!..
Солдаты ровно подымали ноги, с силой опускали их, косились направо, чтобы и на дюйм не нарушить равнения в рядах.
– Нет звука, нет звука, – спокойно говорил Вернер (он вообще редко повышал голос). – У всей роты должен быть один удар при опускании ноги на землю. Пройдем еще раз. Но раньше пробежимся разок-другой.
Бег был наказанием за плохую, по его мнению, маршировку. Сам он бегал легко и, становясь сбоку роты, чтобы лучше видеть солдат, протяжно командовал:
– Р-рота, бегом – марш!
Долго бежать в рядах, сохраняя равнение и ногу, со скаткой через плечо, с винтовкой на плече, с походным мешком и лопатой, с патронными сумками и фляжкой было, конечно, трудно. Через две минуты большинство солдат выдыхалось, через три-четыре – лица их наливались кровью. Но каждому было боязно выпасть из темпа бега, «потерять ногу», завалить винтовку. Тогда выведут из строя и заставят бегать в одиночку перед самим Вернером. Кроме того, надо постоянно быть настороже, чтобы по команде «шагом» сильно и всем вместе «дать ногу». Если же «давали ногу» нестройно, Вернер приказывал повторить, опять гонял роту и в конце концов добился, что третья рота маршировала лучше всех в полку. Но она отставала по стрельбе и полевым учениям. Лучшие стрелки мазали в присутствии Вернера: пули отправлялись «за молоком». Как-то в полковом тире Вернер сел сзади одного из худших стрелков его роты и спокойно сказал:
– Не выполнишь упражнения – убью.
И расстегнул кобуру револьвера.
Солдат стрелял лежа, без упора, с руки. Весь дрожа, он стал целиться, но винтовка ходуном ходила у него. В мишени не оказалось ни одной пули. Вернер свирепо взглянул на солдата, облизнул губы.
– Жалко, что нельзя, – пробормотал он. – А то бы вогнал тебе в череп пулю, чтобы знал, как мазать!
2
Приближался полковой праздник. На соборной площади готовился торжественный парад. Максимов созвал офицеров. Большой зал собрания был переполнен. Созыв командного состава происходил редко и всегда вызывал беспокойство у офицеров: во-первых, можно было ожидать разных неприятных сообщений; во-вторых, многие не умели высказывать свои мысли и боялись критиковать начальство. Здесь давал себя знать невысокий культурный уровень большинства офицеров, которые мало читали, мало интересовались военным делом – сходились главным образом на вечеринках, за картами и выпивкой. Там было все проще: можно поболтать, посплетничать и не говорить о надоевшей всем службе.
Максимова еще не было, и офицеры разговаривали не садясь. Отдельно держались штаб-офицеры – пожилые, грузные люди, высидевшие свой чин пятнадцатью, двадцатью, а то и более годами службы. Вторую группу составляли ротные командиры и старые штабс-капитаны, долгими годами мечтавшие о вакансии ротного командира – дальше, они знали, им не продвинуться. И, наконец, третью группу представляли молодые поручики и подпоручики, не полностью еще засосанные провинциальным полковым бытом, болтавшие о чести мундира, о перспективе попасть в академию. И бирюком, ни с кем не разговаривая, стоял штабс-капитан Тешкин, которого не любили и чуждались офицеры и который сам никого не любил и ни с кем не водился.
Тяжело ступая, вошел Максимов, сопровождаемый Денисовым. Полковник Архангельский подал команду, и офицеры вытянулись.
Бредов пробрался в задние ряды. Туда же бочком, по-медвежьи, пролез и Тешкин, очевидно рассчитывая, что здесь никто не сядет, минутку поколебался, увидев Бредова, и, вздохнув, сел рядом.
– Мы покажем наш боевой полк во всей его силе, во всем блеске строевой выучки, – говорил Максимов. – Прошу не забывать, что нас увидят высокопоставленные лица. Нижние чины должны маршировать, как железные: грудь вперед, вид молодецкий. Прошу господ офицеров больше внимания уделять маршировке. Солдат, который умеет хорошо маршировать, будет хорошо и драться.
Командир закончил речь. Офицеры молчали. На вопрос полковника Архангельского, кто желает высказаться, не поднялся ни один человек. На повторное же приглашение Архангельского встал толстый подполковник Телегин, командир четвертого батальона. Запинаясь и кланяясь в сторону Максимова, он привел случай, бывший на высочайшем смотру в Москве, когда один из полков плохо прошел мимо царя и командиру полка был объявлен строгий выговор, несмотря на то что полк считался первым по стрельбе во всем округе.
– Господин полковник высказывает глубокую мудрость, требуя от офицеров особого внимания к маршировке, – заявил Телегин.
– Военные интеллигенты! – услышал Бредов ядовитый шепот Тешкина. – Жучки!.. Сидят, набрав в рот слюны. А у себя в ротах – орлы, Цицероны!..
После собрания Бредов подошел к Васильеву:
– Почему молчали, Владимир Никитич? Разве вы согласны с тем, что говорил Максимов?
– Согласен или не согласен, в данном случае это не играет никакой роли, – недовольно ответил Васильев. – Полагаете ли вы удобным, чтобы обер-офицер выступал с критикой старшего начальника? Да потом, командир полка не сказал ничего страшного. Он был только немного односторонен…
Бредов отошел. Черт с ними! У каждого своя голова на плечах… Его волнует сейчас только одно: выйдет или нет у него командировка в Петербург, которой он, с помощью Денисова, так упорно добивался через штаб дивизии?
Во дворе казарм и на плацах целыми днями маршировали роты, готовясь к полковому празднику. Были отставлены все другие занятия. В полном упоении работал Вернер, полагая, что он должен занять по маршировке первое место в полку. Рано утром он выводил роту на плац, ложился на землю и сбоку смотрел, чтобы все сто ног, подымаясь и опускаясь, давали одинаковый просвет. Он отменил боевую стрельбу, которая по расписанию должна была происходить в это время.
– Успеем отстреляться, – сказал он штабс-капитану Блинникову, напомнившему о стрельбе. – Тут поважнее дела есть.
Полк учился маршировке. Тысячи солдатских ног били о землю, тысячи носков вытягивались, печатая шаг. Осатаневшие взводные и отделенные обрушивали на головы солдат самые заковыристые ругательства. Офицеры спорили о недостатках и достоинствах прусского шага и доказывали, что русская система «шагистики» лучше германской.
В день полкового праздника солдаты с шести часов утра чистили бляхи, пуговицы, сапоги, осматривали винтовки и обмундирование. Вернер заявился в семь часов, осматривал портянки, каблуки сапог – не сбиты ли. Швырнул в лицо Орлинскому неправильно скатанную шинель и, когда тот с побелевшим лицом шагнул к нему, посмотрел сощуренными глазами, точно ожидая, что за этим последует. Орлинский пошатнулся, округлившиеся его глаза с сиреневыми зрачками не отрывались от рыжебородого лица капитана. Вся рота затихла. Орлинский застонал и вытянул руки по швам.
Вернер отвернулся, спокойно сказал:
– Восемь нарядов не в очередь, два часа под винтовку. – И приказал выводить роту во двор.
Целый час заставил он маршировать солдат, остался недоволен ими и предупредил, став перед фронтом:
– Сегодня на параде мы должны быть первыми. Хорошо пройдете, ставлю вам угощение, а плохо – загоняю насмерть!
За два часа до начала парада роты были выведены на площадь. В соборе шло богослужение. Солдатам позволили стоять вольно. Смирнов, туго перетянутый на животе офицерским кушаком, с георгиевским крестом и медалями на груди, хозяйственно осматривал десятую роту и ворчливо указывал солдатам на плохо заправленные гимнастерки.
Зазвонили колокола. Из собора показалось торжественное шествие. Впереди с золотой медалью на черном сюртуке важно выступал городской голова. Командир полка шел рядом с бригадным генералом – маленьким старичком с петушиной походкой. А за ними двигались офицеры в парадных мундирах, украшенных орденами, чиновники в треуголках, купцы, дамы в платьях со шлейфами и в широких шляпах. Заиграл оркестр. Офицеры стали на свои места, послышалась команда, и полк замер. Генерал и Максимов пошли по фронту.
– Здорово, орлы! – кричал бригадный, и «орлы» поротно отвечали ему.
Обход кончился. Подали команду к началу парада. Генерал важно стал на возвышении. Оркестр заиграл фанфарный марш. Волны медных звуков катились по площади, наполнили ее праздничным звоном. Под эту бравурную музыку взводными колоннами пошли роты, упруго подымая ноги, маршировали с обнаженными шашками молодые подпоручики и поручики. Капитаны с последней, оставшейся еще у них лихостью несли тяжелеющие тела. Подполковники шли впереди батальонов, как тяжелая артиллерия. В воздухе плыло боевое знамя полка, побывавшее во многих сражениях. Хмель весны мешался с хмелем бурной и бодрой музыки. Ровные солдатские колонны проходили мимо генерала, офицеры, салютуя, резко опускали горящие на солнце клинки, точно гасили их.
Крепко ставя ногу, маршировал Карцев. Рядом с ним были Рогожин, Чухрукидзе, Петров. Солдаты молодецки топали, захваченные властью музыки и ритмом плавного движения, ощущая дружеский локоть товарища, чувствуя себя как бы единым стоногим существом.
На правом фланге своей роты шел Мазурин. Винтовка точно приросла к его плечу, правая рука рубила воздух, и на лице было спокойное, бездумное удовлетворение – хорошо идти под музыку!
Вот и третья рота. Вернер на ходу командовал:
– Просвет! Ногу бросать, как топор!.. Взводные и отделенные, следить за ногой! Чтоб гудело!
Он выступал впереди роты, как укротитель, как гипнотизер.
Здорово идет третья рота, ничего не скажешь! Генерал доволен. Он вызвал Вернера и перед всем полком поблагодарил за отличную боевую службу. Разгорелся легкий разговор о маршировке, о блеске парадов, о тех блаженной памяти временах, когда солдатам подвязывали под колени лубки, чтобы не сгибали ног при маршировке. Отличные были времена, замечательные!..
– Вот так, петушок мой, всегда бывает, – проникновенно говорил старый капитан своему младшему офицеру после парада. – Обучайте солдат маршировать, рвите из них кишки, пока не дадут ножку так, как вы этого хотите. На смотру вас отметят, вот вам и лучшая награда. Учитесь, петушок, у старого офицера. Плохому вас не обучу…
3
В ротах кончались занятия. Иванков, взглянув на часы, бросил возиться на кухне, обошел все комнаты, осмотрел каждую вещь, каждый вершок чисто вымытого пола. Не дай бог, что не так, капитан всю душу вытрясет!
И вот Вернер явился, отдал ему фуражку, не спеша снял шашку, незаметно осмотрел комнату, покосился на Иванкова. Как будто все в порядке.
Опустился на низкий диван. Иванков бросился снимать сапоги.
– Белье выгладил?
– Так точно, ваше высокоблагородие!
– Показать!
Денщик достал из шкафа простыни, наволочки, сорочки, кальсоны. Вернер что-то промычал под нос, вынул из ящика стола блокнот, написал несколько столбиков мелких букв и отдал листок Иванкову.
– Завтра у меня будут гости. Отнести это в собрание, к буфетчику. Перетаскать домой все, что он даст. Смотри не разбей бутылок.
И он устало повалился на медвежью шкуру.
На другой день Иванков с утра до полудня таскал на квартиру капитана вино и продукты. Одних бутылок было что-то около тридцати. Потом прибрал комнаты, раздвинул стол, накрыл его свежей подкрахмаленной скатертью, сервировал…
В десятом часу вечера пришли первые гости: полковой священник отец Василий и поручик Баратов – в прошлом гвардеец, переведенный в армию за пьянство и шулерство. Отец Василий сразу опытным глазом окинул стол.
– Угощенье достойное! – промолвил он, разглаживая бородку.
Понемногу собрались и остальные приглашенные: Денисов, капитан Любимов – лысый, обрюзгший, с лицом, иссеченным морщинами, подполковник Телегин; капитан Федорченко – самый старый офицер в полку, грустный, с опухшими подагрическими руками; Бредов, щеголеватый Руткевич, штабс-капитан Блинников и поручик Журавлев.
Офицеры шумно усаживались за стол. Отец Василий выбрал место ближе к высокому хрустальному графину с водкой. Баратов, не дожидаясь, пока гости приступят к еде, налил зубровку в чайный стакан и выпил залпом, как воду.
С каждой минутой за столом становилось шумнее. Вернер хотя и пил много, но не пьянел, и когда глаза его останавливались на Федорченко и Любимове, которые совсем осовели, и на отце Василии, столовой ложкой поедавшем зернистую икру, он презрительно морщился.
Баратов, незаметно следивший за офицерами, прекратил пить и, взяв с маленького столика новую колоду карт, с треском разорвал ее.
– В картишки, господа, что ли? – предложил он.
Журавлев сейчас же поднялся, с вожделением поглядывая на богатого Руткевича.
Раскинули ломберный столик. Начали с мелочи, потом ставки повысили. Баратов держал банк.
– Вам нельзя, – сказал он Руткевичу. – Вы еще молоды и, кажется, много выпили.
– М-молчите, суслик! – надменно ответил Руткевич. – Ва-банк!
Баратов улыбнулся. Ну что с таким поделаешь!
Руткевич проиграл. Журавлев, открыв рот, гудел от волнения, судорожно водил шеей. После двух кругов все, кроме Блинникова, игравшего по мелочи, были в проигрыше. Журавлев придвинулся ближе к Баратову, переменив место за столом. Улучив момент, прошептал:
– Я в доле. Вот так-с!..
Баратов притворился, что не расслышал. В банке была груда скомканных кредитных бумажек, серебро, золото. Блинников, взглянув на свою карту, незаметно перекрестил ее и слабым голосом объявил, что идет на пять рублей. Он выиграл и радостно вертел в руках синюю бумажку. Руткевич, икая и пьяно покачиваясь на стуле, опустошал свой бумажник. Отец Василий, отвалившийся наконец от стола, подошел к играющим и стал позади Блинникова.
– Банк стучит, – сказал Баратов и, ни на кого не смотря, метал карты, держа колоду низко над столом, где лежал перед ним портсигар.
Блинников, бледнея и закрывая глаза, долго не решался назвать сумму. Потом в отчаянии посмотрел на собравшуюся у банкомета кучу денег и осторожно приподнял свою карту.
«Вот бы сорвать, – подумал он, – Верушке – платье, жене – зимнее пальто, Васеньке – костюм…»
Отец Василий сзади заглянул в его карту, увидел туза и, быстро отпахнув полу рясы, достал кошелек.
– Мажу! – заявил он. – Чего думаешь? Ну!
– Благослови, батя, – простонал Блинников.
– Бей по банку! – настаивал отец Василий. – Отвечаю половиной.
Блинников ощутил дрожь во всем теле, двинул на кон все свои деньги и те, что подсунул ему священник.
– Карту! – потребовал он.
Баратов небрежно сдал ему. Блинников медленно потащил к себе карту, пригнулся, почти положил подбородок на край стола и осторожно приподнял ее.
– Хватит! Бери себе.
Баратов объявил семерку, прикупил к ней даму, потом короля и, выругавшись, взял еще карту.
– Семерка! Двадцать одно! – выкрикнул он.
– Двадцать! У нас было двадцать!.. – прорыдал отец Василий. – К тузу девятка пришла!..
Он бросился к бутылкам. Блинников мешком сидел на стуле. У него отвалилась нижняя челюсть, из глаз катились слезы.
Последним играл Руткевич. Он плохо соображал, но чувствовал себя героем, которым все восхищаются.
– Ва-банк! – заявил он.
Баратов не спеша достал папиросу и придвинул к себе портсигар.
– Может быть, половину? – спросил он, словно жалея игрока.
– Я сказал – ва-банк! – сердито повторил Руткевич. – П-панимаете?
– Слушаюсь, – смиренно ответил Баратов, взял карту себе, потом дал Руткевичу. Проигравшийся Журавлев не спускал с банкомета глаз. Баратов набрал шестнадцать очков, подумал, снял еще одну карту с колоды, подержал ее в руке и решительно открыл.
– Дама! – ахнули все. – Ну и везет…
– Я думаю, на сегодня довольно, – сказал Баратов, устало отбрасывая колоду карт. Потом небрежно рассовал деньги по карманах, налил вина в стакан, выпил. Журавлев, извиваясь как угорь, подошел к нему, взял под руку.
– Надо освежиться, – пробормотал он. – Вот сюда…
Он почти тащил Баратова, и тот неохотно шел с ним.
В коридоре Журавлев остановился.
– Хорошая игра была, – нервно сказал он. – Позвольте закурить.
Но не взял папиросу, а выхватил у Баратова из рук портсигар.
– Приятная вещица, – говорил он, держа портсигар на ладони. – И полезная… так сказать, полезное в соединении с приятным.
И, быстро достав из кармана карту, подержал ее над портсигаром рубашкой вверх. Карта ясно отразилась в блестящей поверхности, как в зеркале.
– Дама-с пик! – хихикнул Журавлев, близко наклоняясь к Баратову. – Роковая карта. Германн из-за нее погиб. Много изволили выиграть?
Они молча смотрели один на другого.
– Черт с вами, – тихо сказал Баратов. – Пятьдесят рублей хотите?
– Не хочу! – грубо сказал Журавлев. – Я вам говорил, что буду в доле. Половину или ничего!
– Где же считать теперь? – устало спросил Баратов. – Давайте до завтра?
– Дураков нет, – прошипел Журавлев. Он быстро втащил Баратова в уборную, закинул крючок на дверь. – Считайте! Только прошу не жульничать. Придется вам вывернуть карманы.
– У меня же и свои были деньги, – сказал Баратов. – Сто пятьдесят рублей.
– Только сто засчитаю. Надеюсь, не желаете повторения вашей гвардейской истории?
Баратов молча взглянул на него и начал отсчитывать деньги.
…В комнате продолжалась пьянка. Капитан Федорченко обнимал Блинникова, лез целоваться.
– Вот уж сколько раз обходят чином, – жаловался он. – Одиннадцать лет я капитан. За царя кровь проливал и в турецкой и японской… Дай поцелую!.. А в подполковники не производят. Мне уже пятьдесят шесть лет, скоро уволят по возрасту. Нужны связи и протекция. Дай поцелую… А где я их достану в здешней дыре?
– Мы чиновники, только чиновники, – бормотал Блинников.
– Врешь! – густо проговорил Вернер и встал, руками опираясь о стол. – Врешь!.. Ты лапша, а не офицер. Мы не чиновники, нами вся Россия держится. Кто подавил революцию девятьсот пятого года? Мы! Кто всю эту сволочь расстреливал в Москве? Полковник Мин! Честь ему и слава! Он заставил семеновцев стрелять в революцию, хотя они не хотели этого. Вот кто мы!..
И, тяжело качнувшись, опустился на стул.
Бредов разговаривал с Денисовым. Он доказывал, что русская армия, несмотря на свои превосходные боевые качества, все же уступает иностранным, потому что у нее мало культурных офицеров, а верхушка – сплошь гнилая.
– Все измельчало, – говорил Бредов. – В большие генералы проходят не по таланту, не по личным достоинствам, а только по происхождению и связям. Все это князья, графы, остзейские бароны, знатные фамилии. А куда, скажи, девались талантливые наши разночинцы? Их затирают, не дают им хода. Разве есть у нас теперь полководцы? Гриппенберг, Куропаткин, Каульбарс, Стессель – вот они, современные Суворовы! Ах, как низко мы пали, Андрей, как низко! В каком болоте барахтаемся!..