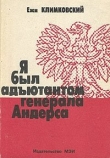Текст книги "Солдаты вышли из окопов…"
Автор книги: Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)
– Какие книги ты захватил с собой на военную службу? «Коммунистический манифест» взял или оставил в Москве?
Вопрос был так внезапен, что Мазурин воспринял его как удар. Живые глаза следователя ловили его малейшее движение, ни на секунду не выпускали его из поля зрения, и Мазурин понял, что тот не верит в его простодушие. Но тем не менее продолжал по уставу «есть глазами» начальство и ответил без паузы, которая могла быть опасна:
– Книгами я, ваше высокоблагородие, мало занимался. С собой никаких не брал.
Следователь полистал лежавшие перед ним бумаги, усмехнулся.
– Ты скрытничаешь, голубчик, – почти ласково сказал он. – Надо же тебе уразуметь, что мы с тобой служим одному делу, оба русские, православные, одной матерью-родиной вскормлены. Я тебе не только начальник, но и друг и старший товарищ. Я обязан о тебе заботиться, чтобы твоя душа была чиста и здорова. Почему же ты не поможешь мне? Я не приказываю, а душевно прошу тебя: помоги мне разобраться, а там иди себе с богом.
Он встал, близко подошел к Мазурину, опустил руки на его плечи, глубоко заглянул в глаза.
– Вот ты был в мае на гулянке возле Белой ямы. Что же тут особенного? Ну, был – почему же тебе, бывшему рабочему, не поболтать с фабричными? Никто тебя за это не накажет. Ты только скажи: кого еще из солдат позвал с собою, о чем вы там говорили?
Черные, пушистые гусеницы его усов тихо двигались. Глаза мерцали синим, усыпляющим светом. Теплые токи исходили из его рук, лежащих на плечах Мазурина.
– Покорнейше благодарю за ласку, – ответил Мазурин, – мне от вашего высокоблагородия прятать нечего. Гуляли, конечно, и на Белой яме. Ходили по молодому делу, – доверчиво понижая голос, добавил он, – песни пели, с девками баловались. Ну, а больше ничего такого не было.
– И речей, говоришь, не было?
– Какие на гулянках речи? Только смех да шутки.
– И листовок? – Он проворно взял со стола бумажку и поднес ее к лицу Мазурина. – Вот таких не раздавали? Ведь ты их видел, читал?
– Таких бумажек никто мне не давал, ваше высокоблагородие.
– Не так, все не так! Неужели ты, голубчик, думаешь, что нам ничего не известно? Разве мы тебя первого вызываем? Все твои товарищи чистосердечно рассказали и о массовке на Белой яме, и о листовках, которые там раздавали, и о речах, что там произносили. Я просто хотел проверить тебя, узнать – честный ты человек или нет? Все остальные сказали мне правду, и я отпустил их. Пойми, что ты вредишь себе, ни в чем не признаваясь. Ведь и без тебя мне все известно… Ну?
– Ничего не скрыл, – твердо сказал Мазурин. – А как же говорить про то, чего не было?
Офицер вынул платок и уронил его. Мазурин торопливо нагнулся. Выпрямляясь, встретил прищуренный, страшный взгляд следователя. Тот как бы в рассеянности не брал протянутого ему платка. Мазурин стоял, держа в руке платок, пахнувший острыми духами.
– С какого года ты в социал-демократической партии? – шепотом спросил следователь и стиснул руку Мазурина. – Ну! – последнее слово прозвучало, как выстрел. – Раз, два – отвечай!
– Так что в никакой партии не был, – с вялым недоумением ответил Мазурин.
Скулы задвигались на лице следователя. Глаза холодно и неумолимо впились в Мазурина.
– Ты – солдат, ты присягал государю императору на верность. Его именем спрашиваю тебя в последний раз: скажешь правду?
– Говорю чистую правду!
Мазурина увели.
9
Как-то утром, во время подъема, Самохин не встал вместе со всеми. Лежа он приказал Рогожину:
– А ну-ка, мигом, почистить мне сапоги!
У него было надменное, грозное лицо, и Рогожин, засмеявшись, посоветовал ему скорее одеваться, если он не хочет заработать наряд на кухню. Но Самохин, выпятив грудь, стал на него кричать, как офицер на своего денщика.
Солдаты захохотали. Но Карцев, внимательно посмотрев на Самохина, слишком забитого, чтобы так шутить, заметил блуждающие его глаза, больное, бледное лицо. Машков, застав неодетого Самохина, сбросил его с постели, пнул ногой и дал два наряда.
Самохин, испуганно глядя на взводного, быстро оделся. Последнее время припадки стали у него повторяться все чаще и чаще, он воображал себя офицером, распоряжался, бранился, облизывая белую пену с губ.
– Самохин болен, его надо отправить в околоток, – доложил взводному Карцев.
– Околотков на таких не хватит! – грубо отвечал Машков. – А ты не суй нос не в свое дело!
Но однажды Самохин накричал и на Машкова, потребовав называть себя «вашим светлым благородием». Смертельно испугавшись такого кощунства и боясь, что ему придется отвечать за Самохина, Машков наконец отправил его в околоток. Из околотка больного перевезли в госпиталь, держали там неделю, и врачи, решив, что Самохину надо переменить обстановку, отпустили его в месячный отпуск.
Карцев провожал товарища на вокзал.
– Ты знаешь, Самохин, куда едешь? – спросил он, взяв его за холодную, тяжелую руку.
– Домой… – сонно ответил Самохин и, морщась, добавил: – Голова… точно железными обручами сдавили.
– Знаешь, на какой станции тебе сходить? – настойчиво спрашивал Карцев.
– Нашу станцию да не знать? Поныри называется. Богатая станция. Узловая. Всегда там народ, торгуют чем хочешь. Настоящий базар. До нашей деревни пятнадцать верст.
Карцев посадил его в вагон, тепло с ним простился. В поезде Самохин ожил. Всю дорогу был радостен, много разговаривал, смеялся. Родной дом, отец и мать рисовались ему так заманчиво, ярко и нарядно, что он тут же рассказал попутчикам, как хорошо живут родители, какое у них большое хозяйство, просторная, светлая изба. Он с наслаждением придумывал разные несуществующие подробности богатой жизни, которую он никогда не знал: измученный мозг жаждал чего-то прекрасного, успокаивающего, что можно было противопоставить злой, загубившей его казарме. И он, сияя от радости, слез на своей станции: знакомый перрон, тот же садик за оградой, та же высокая, кирпичная водокачка…
Было уже поздно, никого из знакомых крестьян, кто бы подвез его, Самохин не нашел и отправился пешком. Все вокруг казалось сказочным и ни с чем не сравнимым по красоте и по тому чувству покоя, которое он испытывал, когда шагал по дороге и смотрел то на лес, то на поле, то на приветные огоньки, светившиеся вдали. Глубокое темно-синее небо, все в звездах, раскинулось над его головой. Где-то грустно запел одинокий женский голос. Самохин остановился, растерянный, борясь с нахлынувшим на него чувством и, не поборов его и не поняв, лег на траву у края дороги и по-детски заплакал. Так пролежал он несколько минут и вдруг почувствовал, что на душе стало необыкновенно легко. Он поднялся и, желая как можно дольше не расставаться с этим звездным небом, с этой ночью, с этой милой сердцу дорогой, медленно пошел к родной деревне.
Все давно уже спали, когда он приблизился к своей избе. Стучал долго. Двери отворил отец. Он равнодушно посмотрел на сына, как будто его приезд ночью, после долгого отсутствия, обычное дело, и только кивнул головой. В тесной, прокопченной избе Самохину показалось невыносимо душно. Оконца были наглухо закрыты. Скупой свет маленькой лампы с обломанным, черным от копоти стеклом, которую зажег отец, обнажил убогую обстановку: в углу на сене лежал тяжело дышавший теленок; на печи стонала больная мать; младший брат и сестренка спали на полу, прикрытые рваным тулупом; потемневший образ Николая-чудотворца глядел настороженными глазами; кучки тараканов шевелились на потолке и стенах.
После короткого разговора улеглись спать. Самохин лежал с открытыми глазами. Впервые за долгое время он думал ясно и осмысленно. Духота в избе донимала его – он с трудом дышал. Мать кашляла и стонала. Теленок, очевидно больной, вдруг начал хрипеть. Самохин, приподнявшись на локте, со страхом прислушивался к стонам матери, к хрипу теленка. Что-то смертельно-печальное чудилось ему в этой нищей халупе. Точно впервые увидел он ее такой, какой она была на самом деле, похожая на миллионы русских бедных изб. Он, живя здесь, никогда не замечал ни этой нищеты, ни этой грязи. И то прекрасное состояние, что владело им, пока он ехал и шел сюда, оставило его. Опять печаль и тревога проникли в душу, тянули куда-то вниз, в черную, злую ночь, и ему вдруг показалось, что настороженные глаза Николы-чудотворца – это глаза взводного Машкова.
Утром мать, охая, разводила маленький позеленевший самовар. Пришли соседи, узнавшие о приезде солдата. Было воскресенье, народ не выходил работать в поле.
Самохин уныло сидел за столом. Прежняя тяжесть сковала голову. Железные обручи еще туже стянулись, давили ее, тревожные мысли застилали мозг. Его о чем-то спрашивали, и он с трудом улавливал смысл слов. Вздохнул и спросил:
– Ну, как живете вы тут?
– Так и живем, – недобро усмехаясь, сказал кривоплечий крестьянин, мохнатый от волос, которыми заросли его голова, шея, лицо. – Вчера были голы, нынче голы, завтра опять же голы будем. Блох у нас много, блохами мы богаты. Ты вот лучше расскажи, солдат, что нового слыхать у вас? Мы ведь как в колодце, ничего не знаем, ничего не видим…
– Служу… – безразлично ответил Самохин.
– Служи, служи, – сдержанно посоветовал худой крестьянин с тонким, острым подбородком. – Ни себе, ни нам никакой радости не выслужишь.
– Война, говорят, будет, – угрюмо сказал кривоплечий мужичок, – с турками либо опять с японцами. Не слыхал?
– А про землю нет закона? – настойчиво допытывался старик с серыми, похожими на пыльную паутину волосами и красными, больными глазами. – Земли не прирежут нам?
Самохин сидел сгорбившись, плохо слушал, плохо соображал. С того часа, когда увидел он родную избу, отца и мать, всех этих людей – таких жалких и несчастных, мысли его спутались в темный липкий ком, и с каждой минутой он чувствовал себя все хуже, все тревожнее.
Что-то не осуществилось здесь из того, чего он ждал, не было ему никакого облегчения, никакого покоя в родном доме. Вот сидят вокруг родители, соседи, но никто не может помочь ему, а наоборот – еще горше, еще страшнее становится, когда смотришь на них… Тоска, тоска в этих черных стенах! Все они, эти люди, уставились на него, взгляды их так тяжелы, что нет сил сносить их.
– Пауки… – жалобно говорит Самохин. – Ой, пауки… сколько же их… На меня ползут… Давите, давите пауков!..
И, заметив страх на лицах сидящих в избе односельчан, он сразу умолк. И уже будто не изба это, а казарма. В тумане плывут перед ним фигуры Машкова, Руткевича, Смирнова, а в уши врывается хрип теленка, а за ним – голос мохнатого мужика: «Мы в колодце, ничего не знаем, ничего не видим…» Все смешалось, двинулось на него, сейчас сомнет, задушит. А чье это желтое, расплюснутое лицо с горячими дырами глаз налезает на него? Он быстро застегивает на золотые пуговицы с орлами свой сияющий мундир, трет рукой пуговицы, чтобы они блестели еще ярче.
– Смирно! – громко командует Самохин. – Стоять и тянуться передо мною!
Он важно влез на табуретку, затем – на стол, давя ногами блюдца, чашки.
Все сидевшие в избе вскочили в страхе, кто метнулся к дверям, кто забился в святой угол, быстро и мелко крестясь.
– Спортили человека, – испуганно пролепетал худой мужик. – Вези, его, Ефим, обратно, к царю. На что он тебе такой? Вези…
Потеряв сознание, Самохин тяжелым мешком повалился со стола на пол.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
1
Бредов все еще не верил, что едет в Петербург. Перекладывая свои вещи в тесном купе, он с нежностью думал о Денисове, который устроил ему эту командировку. Выйдя в коридор покурить, он встретил там невысокого, кряжистого офицера, лет пятидесяти, с пышными усами и маленьким шрамом на правой скуле. Глаза у того чуть косили, и это придавало им ласковое и немного насмешливое выражение. Он пристально поглядел на Бредова и, выпустив в открытое окно дрожащее колечко папиросного дыма, мягко спросил:
– Сережа Бредов, кажется?.. Не узнаете?
Бредов подошел ближе, напряженно всматриваясь в лицо офицера, потом заулыбался и радостно протянул руку:
– Дядя Костя! Виноват! Господин полковник… Константин Иванович…
– Эге ж, – ответил полковник, здороваясь. – Можете звать дядей Костей. Подумать, сколько лет уже прошло с тех пор, как вы были юнкером и ухаживали за моей племянницей Зиночкой?
– Кажется, десять, – краснея, ответил Бредов, – или даже одиннадцать.
Через несколько минут, узнав все, что полагалось узнать друг о друге при внезапной встрече, они заговорили о беспокойной обстановке в стране.
– Сейчас Петербург в большой горячке, – сказал полковник, стряхивая пепел с папиросы. – Мы приедем туда к началу интересных событий.
Полковник был артиллеристом и работал в Петербурге в Главном артиллерийском управлении.
– Что-нибудь серьезное? – обеспокоенно спросил Бредов.
Косящие глаза полковника смотрели на него спокойно, внимательно, тоненькие насечки морщин сбоку придавали глазам выражение усталости.
– По-моему, мы накануне войны… Я только что обследовал приготовления, которые ведутся крайне спешно и, я бы сказал, нервозно… Пойдемте ко мне, Сережа. Я в купе один.
Они сели на диван и продолжали беседу.
– У каждого свое болит! – Полковник дружески положил руку на колено Бредова. – Честный офицер чувствует также и другую боль – ему дорога русская армия, ее мощь, ее доброе имя.
Он вопросительно посмотрел на Бредова умными глазами, и штабс-капитан горячо ответил:
– Совершенно правильно, Константин Иванович! Я дрался с японцами. Готов еще и еще драться с кем угодно, хоть с самим чертом, за славу русского оружия. Но пускай дадут нам возможность учиться военному делу. Пускай поставят армию на должную высоту…
– Высота, высота… – сердито и печально повторил полковник. – Утверждают, что мы стоим на самой что ни есть высоте боевой подготовки. Вот, не угодно ли?
Он достал из большого коричневого портфеля аккуратно сложенную газету.
– Прошу внимания, – сухо произнес он. – Статья заслуживает этого.
И начал читать выразительно, подчеркивая голосом те места, которым придавал особое значение:
– «Мы получили из безупречного источника сведения, не оставляющие сомнения, что Россия, по воле своего верховного вождя, поднявшая боевую мощь армии, не думает о войне, но готова ко всяким случайностям. С гордостью мы можем сказать, что для России прошли времена угроз извне, России не страшны никакие окрики… Россия готова…» – Полковник мельком взглянул на Бредова. – «В полном сознании великодержавной мощи нашего отечества, так нелепо оскорбляемого зарубежной печатью, мы только группируем главнейшее из сделанного по указаниям монарха за это время… Офицерский состав армии значительно возрос и стал однородным по образовательному цензу, весьма поднятому по сравнению с прежним. Нынешний офицер получает не только военные знания, но и военное воспитание».
Бредов сделал резкое движение.
– «…Русская полевая артиллерия, – продолжал полковник, – снабжена прекрасными орудиями, не только не уступающими образцовым французским и немецким, но и во многих отношениях их превосходящими. Осадная артиллерия сорганизована иначе, чем прежде, и теперь имеется при каждой крупной боевой единице. Уроки прошлого не прошли даром. В будущих боях русской артиллерии никогда не придется жаловаться на недостаток снарядов. Артиллерия снабжена и большим комплектом и обеспечена правильно организованным подвозом снарядов».
Он повел шеей, как будто воротник давил его. Дочитав статью, принялся искать спички, лежавшие возле него, и не находил их.
– Смелая статья, – заметил Бредов. – Автор, несомненно, опирался на самые достоверные, на самые проверенные сведения. Интересно, кто он?
Полковник не ответил.
– Курите! – Он раскрыл портсигар, нетерпеливо схватил спички.
Голубоватые облачка табачного дыма повисли в воздухе.
– Не берусь во всем оспаривать правильность этой статьи, – вполголоса сказал полковник. – Безусловно, она преследует политическую цель. Ее прочтут во всем мире. Кое-кому она даст понять, что с нами нельзя шутить. Хотя вряд ли военная разведка наших будущих противников позволит себя провести. Надо думать, что сведения о наших вооружениях у них самые точные. Но у нас-то, у нас, в России, тоже ведь прочтут эту статью! Повторяю, что в целом я не опровергаю ее. Но в той части, которая касается артиллерии, тут карты в моих руках. Да, да, это чистейшая правда: наша полевая артиллерия – лучшая в мире, и наши артиллеристы – молодцы!
Он провел рукой по седеющим волосам и мягко улыбнулся.
– Превосходнейшая артиллерия, но… чем она, позвольте вас спросить, будет стрелять через два месяца после начала войны? На легкое орудие установлена норма в тысячу снарядов. Фактически же у нас этой нормы нет! Киевский округ имеет только по шестьсот снарядов. И Главное управление генерального штаба считает эти цифры достаточными, исходя из опыта японской войны. Как будто за десять лет ничего не изменилось!
– Все же не так уж мало снарядов приходится на одно орудие, – неуверенно закончил Бредов.
– Чепуха! Это мизерная, гибельная цифра, особенно если учесть тот факт, что наши заводы не в состоянии заметно увеличить выработку снарядов. Еще Николай Первый (а он, к вашему сведению, огня терпеть не мог) и тот для своей гладкоствольной артиллерии еще тогда, шестьдесят лет тому назад, имел норму в пятьсот выстрелов на орудие! Так неужели же наша скорострельная артиллерия может обойтись тысячью снарядов на орудие? Да к тому же, повторяю вам, их нет, понимаете – просто нет! И вообще, о каком порядке может идти речь, если в одних гаубичных дивизионах нет снарядных ящиков, в других нет ни парков, ни снарядов паркового запаса, а тяжелый дивизион одного пограничного округа, к вашему сведению, совсем не мог мобилизоваться из-за полнейшего отсутствия материальной части… И это все в первоочередных частях, а во второочередных и вовсе – кукиш!
Лицо у полковника посерело, по-старчески отвисла нижняя губа.
– Вот тебе «наша артиллерия никогда не будет нуждаться в снарядах», – жалобно проговорил он. – Тяжелая артиллерия значится у нас в боевом расписании, а у нее совсем нет боевых комплектов! Пожалуйста – воюйте при таких обстоятельствах, заявляйте на весь мир, что Россия готова к войне!
– Кто же все-таки мог решиться написать такую статью? – Бредов развел руками. – И как разрешили ее напечатать?
– Кто? – иронически переспросил полковник и яростно посмотрел на Бредова. – Вам хочется знать? Извольте! Автор сей статьи – военный министр Российской империи генерал-адъютант Владимир Александрович Сухомлинов! Он напечатал ее в «Биржевых ведомостях» после того, как комиссия генерала Поливанова, его помощника (в которой, по несчастью, работал и я!), признала все эти гибельные нормы достаточными, признала, что на винтовку можно обойтись восемьюстами восьмьюдесятью патронами, и число всех запасных винтовок определила семьсот сорок тысяч! Чем же, спрашивается, будут вооружены пополнения, чем будет заполнена убыль в винтовках, неизбежная во время войны? Наконец, откуда возьмутся патроны, если все наши заводы могут изготовлять в год только по двести пятьдесят патронов на каждую из имеющихся винтовок?.. Вот, к вашему сведению, как мы готовы к войне! – глухо произнес полковник и, грызя мундштук папиросы, выплевывал его по кусочкам, не замечая того, что делает.
Вагон от быстрого хода поезда покачивало. В окне проносились деревья и телеграфные столбы. Бредов взглянул на полковника, перевел глаза на окно, и вдруг странное ощущение овладело им… словно всего этого не было; не было ни Константина Ивановича, ни его страшных признаний, ломающих устоявшиеся понятия, не было и этого поезда, идущего в Петербург, и никто не читал статьи военного министра… Есть полк – десятки офицеров, тысячи солдат, тысячи винтовок, один из многих полков, которые все вместе с артиллерийскими бригадами и дивизиями кавалерии образуют великую, непобедимую, русскую армию… Петр Великий, Полтава, Суворов, Кутузов, разгром Наполеона, Скобелев, Плевна, Карс – вот она, гремящая победами и музыкой доблестная история этой армии! Какой сладкий, холодящий трепет охватывал его, когда в Москве, в храме Спасителя, он читал имена героев, золотыми буквами начертанные на мраморных досках! Когда на каменных обелисках Бородинского моста он видел бессмертные фамилии тех, кто спас Россию в двенадцатом году, он снимал фуражку, как перед святыней. Вот это и есть армия, родная, храбрая, победоносная! Что же за кощунственные слова произносил здесь Константин Иванович? Разве мог, разве имел право так говорить старый штаб-офицер? Нет, нет! Какая-то дикая шутка…
Бредов поднялся. Молча отодвинул дверь, вышел боком, не глядя на полковника. Залез к себе на верхнюю полку и долго лежал лицом к стене. Было тяжело, неудобно. Пугали и мучили страшные мысли…
2
Никто не знал, куда пропал Мазурин. Ротное начальство не беспокоилось о нем, на вопросы солдат не отвечало или отделывалось неопределенными словами.
Больше всех тревожился Карцев. «Не случилось ли что-нибудь плохое с Мазуриным? Как он нужен мне в эти дни!» Раздача листовок, посещение нелегальной квартиры, беседы со многими солдатами и с офицером Казаковым – все это было для него новой, волнующей работой, которая пролагала путь в иную жизнь. Карцеву иногда казалось, что слишком тихо и кропотливо движется все вперед. Он знал, что нельзя спешить, но все же нетерпение часто охватывало его. Медленно и тяжело осваивал он, что подполье – это будни, повседневный, незаметный труд.
В версте от лагеря, вблизи железной дороги, в квартире рабочего Куропаткина (товарищи в шутку называли его «генералом Куропаткиным») была устроена подпольная читальня для солдат. Куропаткин жил изолированно, и ходить к нему можно было без особого риска. И вот здесь, через несколько дней после исчезновения Мазурина, Карцев узнал о его судьбе от поручика Казакова, изредка появлявшегося в читальне.
– Я еще не выяснил причину ареста, – сказал Казаков. – Думаю, не особо важная зацепка, потому что пока никого из наших не арестовали и квартиры не нашли. Но надо быть теперь вдвойне осторожными.
Поручик был неспокойный, подвижной человек. Работал он на доставке нелегальной литературы. Когда отбывал воинскую повинность (служил он вольноопределяющимся), ему партия поручила остаться на военной службе, чтобы оживить ослабевшую в армии подпольную работу. И, несмотря на отвращение к обществу юнкеров, большею частью поверхностных и мало развитых людей, он окончил училище и стал офицером. Не желая навлечь на себя подозрение в неблагонадежности и тем самым сорвать партийное дело, он держался осторожно, не фамильярничал с солдатами, тихонько прощупывал настроение офицеров и, связавшись с фабричным социал-демократическим комитетом, куда имел явки, понемногу организовывал ротные и батальонные кружки.
В июньские дни тысяча девятьсот четырнадцатого года в стране вспыхнули рабочие забастовки. Усилили свою деятельность и солдатские кружки. Отсутствие Мазурина сказывалось настолько заметно, что Казаков и Балагин, посовещавшись между собой, решили просить у подпольного фабричного комитета опытного агитатора, знакомого с местной военной жизнью. Балагин считал, что положение сейчас очень выигрышное и нельзя им не воспользоваться. Балагин нравился Карцеву. Стройный, с золотистыми волосами, чуть рябоватый, он хорошо рассказывал о Екатеринбургской большой стачке, в которой участвовал.
Пробовали привлечь к работе Орлинского, но тот не согласился вести беседы с солдатами о значении рабочих забастовок, о классовой борьбе, о приближающейся революции.
– Где вы видите революцию? – пренебрежительно говорил Орлинский. – По-моему, ею нигде и не пахнет. Забастовки происходят часто, но от них до революции – тысяча верст! Это случайные эпизоды, не больше, неразумные вспышки, не приводящие к цели. Надо раньше воспитать рабочих…
– Чепуху вы городите! – возражал Казаков. – Несомненно, мы стоим перед большим революционным подъемом. Почитайте хотя бы газеты, если не верите другим источникам. В Баку, в Риге, в Петербурге, в Иваново-Вознесенске, во всех промышленных городах бастуют сотни тысяч рабочих! Как здорово они держатся! Кто знает, может быть, мы перед повторением девятьсот пятого года? Значит, надо изо всех сил агитировать армию!
Куропаткинская квартира превратилась в боевой центр подпольной работы. Фабричный комитет присылал сюда своих лучших агитаторов. Больше других до своего ареста работал Мазурин. В беседах с солдатами он опирался на хорошо известные им события (покушение на Вернера, арест ефрейтора Защимы, побег Мишканиса, причины сумасшествия Самохина), обсуждая и объясняя их, переходил к обобщениям, наталкивая своих слушателей на ясные и простые выводы. Он доставал подпольную военную литературу девятьсот пятого и шестого годов, полную революционного огня, хорошо освещавшую солдатскую жизнь и во многом свежую и не устаревшую еще и сейчас, кропотливо подбирал газетные вырезки о забастовках, номера «Правды» и подробно рассказывал, почему и с кем борются рабочие и какая связь существует между ними и солдатами. В читальню приходили новые, приглашенные своими товарищами солдаты, смущаясь от непривычки, неловко садились, читали, разговаривали, неуклюже и робко задавали вопросы, спорили.
И вот – нет Мазурина… «Кем, кем его заменить?.. – не переставал думать Карцев. – Петровым? Нет! С ним творится что-то неладное».
Раза два заходил Петров к Куропаткину. Похудел, был угрюм. Карцев заботливо расспрашивал его, но тот сначала отделывался пустыми фразами, а потом как-то рассказал…
Однажды, гуляя по лагерю, он услышал знакомый хрипловатый голос, окликнувший его. В дверях маленького барака в расстегнутом кителе стоял Тешкин. Петров избегал с ним встреч. Тешкин казался ему большим, мохнатым насекомым с узенькими липкими щупальцами.
– Почему не заходите? – спросил штабс-капитан.
– Занят, – холодно ответил Петров.
– Интересная сегодня газетка, – вяло сказал Тешкин и взял номер «Русского слова», лежавший на скамейке. – Сербы укокали австро-венгерского престолонаследника Франца-Фердинанда вместе с женой… Да заходите.
Зажав газету в руке, он отступил в глубь барака.
Как и городская квартира, его лагерный барак носил следы грязи и беспорядка. Наливая вино в стакан, он говорил:
– Убили наследника. Ну и царство ему небесное! Нарушили этим убийством какой-то жизненный принцип? Сомневаюсь. Что такое жизнь? Медленное умирание, постепенное гниение на корню. А тут один миг! Надо рассматривать такую смерть как простое ускорение затянувшегося процесса.
И, исподлобья посмотрев на Петрова, спросил:
– Вы никогда не думали о том, что высшей силе, управляющей нами, следовало бы позволить человеку истратить сразу весь запас наслаждений, отпущенный ему на этой бренной земле, но, конечно, с условием, чтобы ощущения эти возрастали пропорционально к быстроте их расходования? Не думали, нет?
Он весь изгибался, длинный, какой-то скользкий, невыразимо противный.
Петрову не хотелось спорить. Он попросил газету и ушел. В палатке прочитал коротенькую телеграмму, не выделявшуюся среди других сообщений, об убийстве в Сараеве девятнадцатилетним сербским гимназистом Гаврилой Принципом австрийского престолонаследника.
– От маленькой спички большой пожар может вспыхнуть, – сказал Петров. – Понимаешь, Карцев!
– Да! И знаю: гнилое быстро горит.
3
Уже несколько дней Бредов жил в Петербурге. Он не был здесь два года – со времени своих последних неудачных экзаменов в академию генерального штаба. Как и прежде, он с восхищением рассматривал великолепные улицы столицы, стоял под аркой Главного штаба, обозревал царственную перспективу Дворцовой площади и на ней тонкую стройную колонну, увенчанную ангелом с крестом, – символ могущества России. Он прошел на Сенатскую площадь и долго разглядывал позеленевшего вздыбленного коня, ногами топчущего змею, и темную мускулистую руку всадника, протянутую к Неве.
В первый раз он вошел в помещение генерального штаба и был подавлен: все здесь – и массивная мраморная лестница, и величественные, как в храме, колонны, и легко несущиеся по коврам украшенные аксельбантами «жрецы» этого храма – показалось ему полным особого значения.
Ах, как горько сознавал провинциальный армейский офицер, штабс-капитан Бредов, свое ничтожество! Кто он, что представляет собой? Может ли он надеяться, что когда-либо будет командовать дивизией или хотя бы полком? Нет, нет! Вот этот стройный капитан, так уверенно идущий по самой середине ковра, этот наверняка будет командовать дивизией. Он – будущий полководец, академия раскрыла перед ним свои великие тайны, передала ему «святая святых» военного искусства. Как гордо держит голову капитан, как спокойны его движения! Если будет война – широкая дорога славы откроется перед штабным жрецом: рота, батальон, штаб дивизии, блестяще выполненная тактическая задача, ордена Анны и Владимира с мечами, Георгий и золотые зигзаги генеральских погон – высшая честь, высшая награда!
Бредов, сутулясь, охваченный слабостью, переступил порог кабинета. Там рассеянно прочитали его командировку, даже не бросили на него ни одного взгляда, красный карандаш черкнул наискось по бумажке несколько слов, и равнодушный голос произнес:
– В комнату через коридор. К капитану Новосельскому.
В комнате капитана его ожидал приятный сюрприз. Новосельский учился вместе с ним в юнкерском училище. Он сразу узнал Бредова и протянул ему обе руки. Это был широкоплечий, полноватый человек с мягкими карими глазами и светлыми вьющимися волосами. Портили его только чересчур крупные и частые зубы.
– Люблю случайности, – весело сказал Новосельский, – но, конечно, тогда, когда они приятны. Ну, ну, рассказывай, дружище, как живешь? Что занесло тебя во град Петров, где нам судьбою суждено в Европу прорубить окно! – перефразировал он пушкинские строки и рассмеялся. – Может быть, и ко мне какое дельце есть? Впрочем, вот что, дружище: не место здесь разговаривать.
Он пригласил Бредова пообедать с ним в ресторане. Через полчаса они вышли из штаба.
– Счастливый, – говорил Бредов, – тебе удалось то, над чем я напрасно бился. Должен сознаться – чертовски завидую тебе!
– Не в чем завидовать, – махнул рукой Новосельский, и веселость его как рукой сняло. Он нахмурился, не желая, видимо, договаривать своих мыслей, долго закуривал папиросу, и некоторое время они шли молча.
Морская улица кипела шумным, густым потоком людей и экипажей. Коляски, пролетки, пышные фаэтоны тянулись длинной вереницей и сворачивали на Невский. Широкие тротуары проспекта были забиты толпой. Люди шли тесно, чуть торжественно, в привычном для петербуржцев тягучем ритме, разговаривали, смеялись, шутили, раскланивались со знакомыми.