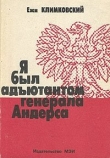Текст книги "Солдаты вышли из окопов…"
Автор книги: Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)
Несколько секунд было тихо, только по разгорающемуся и затем тускнеющему огоньку можно было видеть, как усиленно затягивался папиросой полковник. Картавящий голос неуверенно спросил:
– Почему же вы ничего не сделали, не доложили куда следует, что-де нельзя терпеть такого корпусного?
Папироса, прочертив в воздухе светлую дугу, упала на землю.
– Докладывал… Докладывал лично начальнику штаба армии. Мне ответили, что тогда придется сменить девяносто процентов генералов, и, кроме того, в данном случае есть еще одно обстоятельство, так сказать, частного характера: Благовещенский был назначен самим государем… Перед войной он был за несоответствие занимаемой должности представлен главным штабом к увольнению. Говорят, что при помощи самого Распутина он добился аудиенции у государя и был оставлен на службе. Вот и все. Понятно теперь вам?
Ветер зашелестел в лесу. Небо светлело, но оставалось желтовато-бурым, необычным, и невольно возникала мысль, что таким оно бывает только во время стихийных бедствий. Офицеры, разговаривавшие на краю дороги, медленно шли обратно. Один из них сказал:
– Теперь можно не сомневаться. Мы отступаем. Что будет с армией?
Другой ответил почти спокойно:
– Знаете, что мне сказал Благовещенский, когда я несколько дней назад докладывал ему, что наше отступление ставит под угрозу всю армию? Он сказал, что ничего не знает об общем положении на фронте и беспокоится только о своем корпусе.
Они скрылись в темноте.
Начальник корпусного штаба в эту минуту уже в третий раз спрашивал дежурного офицера, установлена ли связь со штабом армии, и дежурный в третий раз отвечал, вытянувшись и с выражением отчаяния на молодом энергичном лице, что никак нет, связь не установлена.
Начальник штаба постоял, барабаня пальцами по маленькому стеклу окна деревенской избы, где в эту ночь остановился штаб. Последние радиограммы, полученные из штаба армии, после неумелого их расшифрования оказались настолько бессмысленными, что в них ничего нельзя было понять. Выяснилось, что такие же случаи бывали и в других корпусах, и теперь, по неофициальному разрешению командующего армией, радиограммы посылались в незашифрованном виде. Но в последний день не приходили и они.
5
Восьмая германская армия, сосредоточенная против армии Самсонова, представляла собой в эти дни нечто вроде коромысла, на концах которого висели большие гири. Линия коромысла была тонкая и слабая линия германского фронта, противостоящего русским, а гири – мощные ударные группы, нависшие над русскими флангами и сбивавшие их тяжелыми ударами.
В то время, когда корпус, в котором служил Карцев, отступал на правом фланге армии, на левом происходили еще более трагические события.
Первый корпус атаковали германцы. Атаки были отбиты. Командиры двух русских полков, находившихся в нескольких верстах от места боя, по своей инициативе двинулись на выстрелы и, неожиданно напав на противника, разбили его и обратили в бегство. Охваченные паникой, начали отступать и другие германские части, поспешно двинулся назад обоз, и положение русских, имевших крупные резервы, стало на короткое время исключительно благоприятным. Солдаты, возбужденные успехом, дрались великолепно. Но успех не был использован. Командир первого корпуса генерал Артамонов держался пассивно, хотя в его распоряжении были силы, превосходящие противника. Ключ к русской позиции был в Уздау. До самого полудня русские сражались упорно, несколько раз бросались в штыки и сумели отбросить наседавшего врага. Артамонов со своим штабом находился в это время за несколько верст от места боя. (В мирное время он был хорошо известен солдатам как «иконный генерал». При посещении казарм, небольшой, плотный, с расчесанными усами, он тихо шел по помещению, выставив грудь, всю увешанную орденами, и заглядывал в углы. Его интересовало, достаточно ли икон имеется в ротах и хорошо ли знают солдаты молитвы.)
Канонада усилилась. Артамонову доложили, что надо послать гвардейские части. Генерал, закрывая руками уши и болезненно морщась, ответил, что нельзя трогать гвардию и лучше отступить… Уздау был оставлен русскими весь в пламени. Войска отходили неохотно, они были разгорячены удачным для них боем. Первый корпус откололся от армии – второй ее фланг был сбит. Главнокомандующий Северо-Западным фронтом за день до этого поздравил Самсонова с победой под Орлау, которая (как и все выигранные в этой операции бои) ничего не дала русским. А Самсонов хотя и беспокоился за свои фланги, но не считал еще положение опасным.
В тот день, когда Артамонов своим отступлением открывал германцам путь на Нейдебург, где был стратегический центр армии, Самсонов прибыл в этот город со всем своим штабом. В шесть часов вечера в богатом каменном доме, принадлежавшем бургомистру, подавали парадный обед. Рядом с Самсоновым – полным стариком с красивыми белыми усами – сидел генерал Нокс. Он разговаривал с Новосельским о последних операциях. Нокс, знакомый с планом русского командования, считал, что дела идут хорошо. Он пил коньяк из высокой хрустальной рюмки и, глядя на Новосельского помутневшими глазами, объяснял свою точку зрения на военные события.
– Немцы идут на Париж, – говорил он. – Пускай идут!.. Они думают, что там, как в тысяча восемьсот семьдесят первом году, лежит решение войны. Они скинули со счетов такую мелочь, как Англия. Но поверьте, дорогой мой, что мы немцев достанем, где бы они ни были – в Париже или Берлине. Германии незачем было лезть в море. Море – это не германская стихия. И мы перережем все кровеносные трубы, которые тянутся через море к Германии. Я думаю, что ваши храбрые войска сломают им ноги, прежде чем они смогут предпринять что-нибудь серьезное против Англии, не правда ли?
За столом становилось все шумнее.
– Пьем за героев Орлау! – провозгласил Самсонов, подымая бокал.
И начальник штаба, улыбаясь, показывал телеграмму главнокомандующего с поздравлением по случаю победы и говорил:
– Во всяком случае, мы идем вперед. Уже отхватили порядочный кусок немецкой земли и отхватим еще больше. Завтра будем в Алленштейне, а оттуда прямой путь на Берлин!
– Из Гумбиннена – дальше, – сказал кто-то.
Этот намек на медленное продвижение первой армии после победы Ренненкампфа под Гумбинненом офицеры встретили смехом.
– Вперед, вперед, вперед! – вполголоса запел полный, очень красивый офицер, дирижируя стаканом, и сразу умолк, с недоумением уставившись на дверь.
Дверь полуоткрылась, и армейский офицер, в плохо пригнанной гимнастерке, смущенно выглядывал из передней, видимо не решаясь войти. Начальник штаба заметил его и позвал рукой. Сутулясь под взглядами блестящих военных, вбирая внутрь носки запыленных сапог, офицер подошел к начальнику штаба и подал запечатанный конверт. Тот вскрыл его, прочел, и все увидели, как дрогнули его руки. Привстав, он протянул Самсонову развернутый листок и что-то сказал. Полная, не по-стариковски гладкая шея Самсонова налилась кровью. Это была телеграмма Артамонова о том, что Уздау взят немцами и левый фланг армии через Сольдау отступает на юг.
Самсонов тяжело встал (за ним вскочили все присутствующие) и, с трудом скрывая волнение, сказал:
– Продолжайте, господа, прошу вас, продолжайте! – и вышел вместе с начальником штаба.
Они долго сидели перед картой, висевшей на стене в комнате Самсонова. Цепь красных флажков, изображавших линию фронта, тянулась через карту. В центре цепь сильно выдавалась вперед, на флангах же, особенно на левом, она круто загибалась назад. Но кое-где флажки отсутствовали – штаб армии не имел сведений о точном нахождении некоторых частей.
– Как же, скажите мне, как же могло так получиться? – спросил Самсонов. – Ведь мы заходим левым плечом, отбрасываем противника на север, на Ренненкампфа, а наш левый фланг оказался позади центра! Стало быть, мы совершенно не так двигаемся и маневрируем, как это нужно?
Начальник штаба молчал. Он лучше Самсонова понимал, что армия в эти дни фактически не управлялась.
6
В утреннем воздухе, синем и необычно прозрачном, была свежесть, предвещавшая осень. Трава уже утратила летнюю окраску, стала тусклой, вялой. Береза, одиноко росшая среди елей, резко выделялась, точно была посажена здесь по ошибке. Три солдата, укрывшись двумя шинелями, спали под елью. Карцев приподнялся, протирая глаза. Черницкий еще спал, лежа между ним и Голицыным, – среднее, самое теплое, место досталось ему по жребию.
Уже двое суток полк метался на пространстве в пятнадцать – двадцать верст, то наседая на немцев, то вдруг по непонятным для солдат причинам отступая в леса. В этот глухой овражистый лесок с маленьким озерцом посредине они попали ночью после утомительного марша и сразу же, без ужина, без глотка воды, легли спать – где кто стоял. Не было видно ни одного дозора. Карцев удивился беззащитности полка, так беззаботно подставившего себя неприятельскому нападению. Он сделал несколько шагов по едва различимой тропинке, как вдруг маленькая фигурка радостно бросилась к нему и крепко обняла. Он узнал Комарова, солдата их роты, уволенного в запас за несколько месяцев до войны.
– Это я, – говорил он, – я, Комаров! Козявка человеческая… Помнишь, как ты меня в казарме папиросами угощал? Ох, все-таки ничего жили, сыты были, хоть и доставалось… Конечно, в карман плохого не спрячешь, оно из дыры вылезет.
И, весело ощупывая Карцева глазами, поглаживая его по руке, он деловито осведомился:
– Машкова, стервь эту, не убили? Полезно было бы… А Черницкий живой?
Услышав свою фамилию, Черницкий вылез из-под шинели. Комаров подбежал к нему и так же, как и Карцева, по-дружески обнял. Красноватые, лишенные ресниц его глаза сияли. Обычной своей скороговоркой он начал рассказывать, что полк, в который его назначили, призвав из запаса, не был намечен для боевых действий, и половину солдат поэтому вооружили берданками. В полку оказались сплошь бородачи, рассыпного строя они еще не знали и в первый же день после высадки из вагонов, услышав артиллерийскую стрельбу, разбежались. Пустился наутек и он, Комаров, два дня бродил в лесу.
– Определюсь к вам, – решительно сказал он. – Вы свои ребята. Разве я ополченец, чтобы мне во второочередных частях служить? Я же самый что есть кадровый солдат!
– Перестань молоть, сорока, – остановил его Черницкий. – Расскажи лучше, что слыхать в России? Что там люди о войне говорят?
– А ничего не говорят, – беззаботно ответил Комаров. – Провожали нас, подарков понадавали, а бабоньки, конечно, плакали. Раз только погнали нас на один заводик военный… Забором окруженный, поверху колючая проволока, у ворот, значит, часовой. Ну и так далее… Вошли это мы, значит, с прапорщиком, целый взвод, и повел нас инженер рабочих арестовывать. Глядим, машины у них остановленные, работать не хотят, а на самой главной машине, значит, красный флаг. Прапорщик у нас был образованный, говорун человек, он сейчас же к рабочим речь держать: стыдно, мол, вам, люди вы русские, братья ваши проливают за вас кровь, а вы чего такое делаете? Рабочие, значит, мнутся, много ли скажешь, коли взвод с винтовками стоит! Но все же один выступил. «Мы, говорит, господин офицер, требуем, значит, чтоб нас отсюда отпустили. Не хотим тут работать, и вся недолга!» Тут, значит, прапорщик ему кричит, что он, мол, не русский, коли так думает, а немец, значит, шпион, я приказал всем браться за работу. Поставили посты у машин, а парня этого забрали и прямым ходом – в маршевую роту. Вот, значит, какой случай был… А так – никто ничего не говорит.
Полк подняли. Не было ни хлеба, ни чая. Солдаты размачивали сухари в воде. Офицеры завтракали мясными консервами, сыром, пили кофе с коньяком. Полковым офицерским собранием заведовал прапорщик, сын ресторатора. Он за свой счет покупал продукты, лебезил перед командиром полка, кормил его роскошными обедами и все это делал для того, чтобы не попасть в строй. Толстый, с опухшими глазками, он носился по своей столовой-палатке, обслуживал офицеров с таким вкусом и ловкостью, как будто дело происходило в ресторане.
Комаров доложился было прапорщику как помощник повара. Бегло оглядев маленького, исщипанного солдата, тот молча взял его за плечи, повернул и толкнул прочь от палатки. К солдатам он относился с инстинктивной боязнью – так же, вероятно, боятся в голодное время владельцы ресторанов тех нищих, что бродят под их окнами.
Вернулся с разведки Рябинин. С тех пор как он вместе с Карцевым принес важные сведения о высадившихся германцах, его часто посылали в разведку, и он охотно и хорошо выполнял свое дело. Рябинин был весел; покряхтывая, снял сапоги и сообщил, что с севера идут германцы – никак не меньше дивизии. Хитро улыбнувшись, достал из-за пазухи узенький сверток и положил на землю. В свертке было сало, неведомым путем добытое им. Нарезая его тонкими ломтиками, он говорил:
– Ешьте, ребята, не часто сальце перепадает солдату…
Офицеры еще были возле своей палатки, когда вдруг все услышали тяжелый, низкий гул. Он повторился через минуту, и сотни испуганных людей вскочили с земли. Гул напоминал артиллерийские выстрелы, но был необычайно силен, зловещ. В нем таилась ужасающая неизвестность, коварный сюрприз хитрого врага. Земля вздрагивала от ударов.
Пришел Васильев.
– Что, ребята, страшновато? – спросил он, пробежав взглядом по бледным солдатским лицам. – Это тяжелая германская артиллерия. Бояться нечего.
– Пушки, пушки-то какие! – нервно поеживаясь, прошептал Рогожин. – У нас таких нету. Не дай бог, попадет ихний тяжелый снаряд – все ведь разворотит!
Рогожин точно накликал. Высоко в воздухе послышался быстро растущий рев. Снаряд с чудовищной силой пронесся над лесом. Взрыв всех ошеломил. Короткий вихрь рванул воздух. Потом наступила мертвая тишина. Полк двинулся вперед. Шли по прекрасной лесной дороге. Ели и сосны ровными, вымеренными рядами, как бы в почетном карауле, стояли вдоль нее. Промчалась артиллерия. На опушке леса орудия снялись с передков. Крупных, взмыленных лошадей отвели в лес, и подполковник в очках, наблюдая в бинокль что-то, не видное колоннам, громко подал команду. Полк на опушке леса поспешно развернулся в боевой порядок. Впереди расстилалось поле, и солдаты увидели, как с правой стороны леса выбежали русские цепи, а с левой – выскочил казачий полк. Донцы лавой, с гиканьем помчались вперед. Их маленькие кони стлались в бешеном намете. Всадники, стоя на стременах, клонились к конским головам, и клинки шашек сверкали, как искрящиеся на солнце водяные фонтанчики.
– Вперед, с богом вперед! – закричал Дорн, скача вдоль фронта на рыжей лошадке. – Теперь-то мы их поймали!
Пригибая головы, солдаты побежали в поле. С германской стороны почти не было огня, там как будто стреляли в другую сторону.
– Во фланг, во фланг берем! – услышал Карцев радостный голос Васильева.
Германская часть, на которую они шли, была повернута к ним боком – германцы отражали атаку с другой стороны, и нападение отсюда было для них неожиданным. Это походило на захватывающую игру. Вокруг себя Карцев чувствовал (чувствовал, а не видел – смотреть кругом нельзя было) возбужденные лица товарищей, они делали то же, что и он, как и он, были охвачены острым желанием скорее броситься, ударить, захватить врасплох, выиграть игру. Выскочил вперед Руткевич, размахивая саблей, неловко, как жеребенок, подпрыгивая на длинных, тонких ногах. В цепи на секунду показалось сосредоточенное лицо Бредова и перекошенное дикой гримасой лицо Машкова. Васильев шел деловито, уверенно.
«Вперед, вперед!» – думал Карцев и вдруг смутно различил перед собой напряженное лицо, очень сердитое, по-собачьи тонкое у подбородка, но с синими, чистыми глазами. Лицо это не пропадало несколько секунд, толстые губы смешно топырились на нем, и серая полоска пронеслась в воздухе. Серая полоска была германским штыком, чуть не проткнувшим Карцева, но Рябинин прикладом свалил немца. «Я не один. Вот как меня защищают… Эх, родные!» – мелькнула мысль у Карцева. В горячности, в боевом запале он мало примечал, что творилось вокруг. Только узенькое пространство, на котором он действовал, существовало для него. Чувство счастья охватило его, когда он ощутил локоть Голицына, твердый, дружеский локоть. Он не хотел отставать от товарищей, рвавшихся вперед. Его привычные солдатские руки лезли в сумку за обоймами. С суховатым треском закрывался и открывался затвор, прочно и удобно входил в плечо приклад. Вид бегущих немцев заставил кричать «ура», но он уже не стрелял в них, незаметно для себя переходя к иному, более спокойному настроению. Чаще осматривался вокруг, замедлял бег.
Наступала перемена в бою. Опрокинутые фланговой атакой, немцы бежали. Убитые и раненые лежали в поле, в тыл вели пленных, и четыре русских солдата тащили на плечах (чтобы все видели!) германский пулемет. Но чаще доносились выстрелы орудий, шрапнель рвалась над русскими цепями. А цепи, скучившись, топтались на месте, и младшие офицеры, потеряв связь со штабом полка, не знали, продолжать ли наступление. Русская батарея била из лесу, и снаряды визжали в воздухе, как сверла, режущие металл. Поле было ровное, и только в одном месте оно горбилось холмиком. Десятая рота заняла этот холмик. Карцев, лежа на земле, услышал команду. Солдаты поднялись. Васильев решил вывести роту из пункта, который сильно обстреливали. За холмиком хриплый знакомый голос ругался, и Карцев, посмотрев туда, вскочил и побежал. На земле, подогнув под себя ногу и опираясь на руки, сидел Чухрукидзе. Взвод уже шел вперед, и Машков кричал, чтобы солдат подымался. Чухрукидзе, взглянув на взводного, рванулся. Ноги его вытянулись, спина глухо стукнулась о землю, руки прижались к бедрам. Он лежал навытяжку, как поваленный манекен. Лицо его желтело и морщилось от боли, но горячечные глаза не отрывались от глаз Машкова. Карцев наклонился над Чухрукидзе. Синие губы солдата раскрылись, он, должно быть, хотел улыбнуться, но вместо улыбки застонал.
– Ранен? Ранен? Отвечай! – спрашивал Карцев, весь стиснутый щемящей жалостью к товарищу. – Да брось же, брось тянуться, – почти плача прокричал он и нежно отвел руки раненого от бедер.
– Ты что, санитар? – побагровел Машков. – В бой иди, сволочь! В бой! Плакальщики и без тебя найдутся!
Карцев поднял голову. Горло у него сдавило. Он смотрел на взводного – человека с медным, тупым лицом, долгие месяцы мучившего его и Чухрукидзе, отравившего им жизнь, смотрел как на врага. Молча нагнулся над Чухрукидзе, поцеловал его в губы и, схватив винтовку, побежал вперед.
Бой продвигался дальше. Все чаще и чаще стреляла германская артиллерия. Карцев шел к лесу, догоняя наступающую цепь, припадал к земле, когда свистели пули. Но идти уже не хотелось, и, увидев заминку в наступающих цепях, он лег в окопчик, очевидно наспех вырытый кем-то совсем недавно, и лежал там долго, спрятав в прохладной ямке лицо.
Русское наступление затихло. До леса так и не дошли. Прибежал рыжий прапорщик, исполняющий обязанности помощника полкового адъютанта, и передал приказ. Полк был обойден с тыла, требовалось скорее отходить. Лежа в окопчике, Карцев услышал глухой топот бегущих ног и увидел расстроенные цепи, поспешно отходившие назад. Одни шли, сжав плечи, другие ругались и часто останавливались, с колена стреляли по лесу.
Небо было голубое, ласковое. Далеко на западе виднелось белое пятно германского привязного аэростата.
7
Полевая почта привезла письма. С удивлением смотрел Бредов на маленький голубой конверт, на тонкие, знакомые буквы, которыми был написан адрес.
Жена, покинутая где-то квартира и вся мирная жизнь казались ему маленькими, как кажутся маленькими предметы, когда смотришь на них в большие стекла бинокля. Он прочитал письмо, не содержавшее в себе, как он подумал, ничего значительного, и, вспомнив, что еще ни разу с начала войны не смотрел на портрет жены, достал ее фотокарточку из бумажника и с любовью, даже с любопытством стал рассматривать. Он подумал, что надо ответить на письмо, и решил сделать это завтра.
Недалеко от него на шинели лежал Васильев и читал письмо. Лицо у него было размягченное, добрые морщинки собирались у носа.
– Вот-с, – растроганно сказал Васильев, – пишут мои… кланяются, целуют… жена, дочка.
Бредов сочувственно улыбнулся и медленно пошел в лес, хотя знал, что идти туда опасно. С небольшими паузами раздавались пушечные выстрелы, точно где-то били страшные, гигантские часы. Всматриваясь в кусты, часто разросшиеся здесь, он шел по узенькой, малохоженой тропинке. Его окликнул дозор. В невысоком широкоскулом солдате Бредов узнал Рябинина.
– Что, близко? С этой стороны? – спросил он.
Рябинин усмехнулся:
– И с этой, и с той, ваше благородие! Далеко не ходите.
Бредов, хмурясь (неприятно было, что солдат так ясно видел плохое положение полка), кивнул Рябинину и пошел дальше. И, словно развязанные солдатским ответом, давно мучившие его мысли, которые он с болезненной старательностью глушил в себе, овладели им. Какой прекрасный день был вчера! Противник, взятый во фланг, сотни захваченных пленных, радостные лица солдат, сладостное чувство удовлетворения. Победа, победа! Что может быть радостнее? Потом неожиданный приказ об отступлении, обход с тыла, беспорядок, молча идущие колонны, зарева пожаров… Ужасно!
Он незаметно для себя ускорил шаги. В кустах что-то зашумело, послышался треск ветвей, и Бредов увидел угреватое лицо Тешкина.
– А, Бредов!…
Тешкин вынул портсигар и предложил папиросу.
– Сядем, – сказал он. – Приятно поговорить с интеллигентным человеком. Не знаю, как вы, но я себя чувствую здесь таким же одиноким, как и в гарнизонной жизни. Противно наблюдать этих старых болванов, этих верблюдов в мундирах. Блинников – командир, Федорченко – командир, Максимов – командир. Боже мой, как можно эти ничтожества посылать на дело, требующее точности, знаний и решительности! Я невежда в военном деле, не понимаю и не люблю его, но и мне ясно, что играем мы на проигрыш. Да, да – на проигрыш!.. Видели вы нашего корпусного командира? Ему бы в музее торчать, а он ведет сорок тысяч солдат, да каких солдат – героев! Нет, знаете, лучше не вмешиваться во все это. Черт с ним! Пережить как-нибудь – вот что главное.
– Как же не вмешиваться? – вскипел Бредов. – Да вы понимаете, что говорите? Разве вам все равно – выиграем мы войну или проиграем?
Тешкин посмотрел на докуренную свою папиросу, небрежно бросил ее и сказал:
– Пожалуй, что все равно!.. Здесь лес, никто нас не слышит, и я честно говорю вам: да, мне все равно, выиграет или проиграет Россия эту войну! Меня интересует только моя собственная судьба. Слышите – моя собственная!.. И я никогда не видел, чтобы Россия заботилась о ней. России все равно, что будет с Иваном Андреевичем Тешкиным. Россия никогда не пеклась о нем, не помогала ему строить его жизнь, и Тешкину все равно, что будет с Россией.
– Как вы смеете так говорить?! – в бешенстве воскликнул Бредов. – Что за цинизм?.. Вы – русский офицер, русский человек!..
– Чепуха! – махнул рукой Тешкин. – Вот русские солдаты убили Вернера. Разве от этого они стали менее русскими? Неужели вы так отождествляете себя с Россией, что должны кричать на меня потому, что я чувствую себя отдельно от нее? Россия не так широка, как вы это представляете. Для одних это Петербург, дворцы, скачки, кутежи. Для других – выгодные гешефты на военных и интендантских подрядах, для третьих – жалованье двадцатого числа, церковь, квартира из пяти комнат, для четвертых – голодная деревня, для пятых – каторга или тюрьма.
Бредов вдруг растерялся. Ему вспомнилось многое из того, что он охотно забыл бы теперь. Неудача с академией, чванные петербургские гвардейцы, для которых он был черной костью, разговор с Максимовым об академии… Какую же Россию он, Бредов, любит и защищает? С горьким удивлением смотрел он на угреватое лицо Тешкина, на язвительные его губы, на узкие глаза и молчал.
– Всю жизнь меня отталкивали… – проговорил Тешкин. – Позвольте же мне самому позаботиться о себе.
Он поднял с земли фуражку, не отряхнув, надел ее на голову и, не попрощавшись с Бредовым, вялой походкой ушел, скрывшись в кустах.
Лес был тихий, предосенний. Грустный запах гнили исходил от опавших листьев.
Ночь провели в брошенной жителями деревне, ночевали в чистых немецких домиках, в сараях, еще полных сена. Черницкий жарил гуся, насадив на штык. Костер горел во дворе. Маленькие злые искры с треском вылетали из бронзового, чуть задымленного огня и пропадали в ночи. Где-то стреляли, но никто на это не обращал внимания, как не обращают внимания городские жители на уличный шум. Солдаты нашли в подвале несколько бочонков пива и щедро угощали всех, кто к ним подходил. Пьяненький Банька привалился к костру, вытянул из походного мешка резиновый пузырь, в какой обычно кладут лед больным, и, любовно подкинув его на ладони, отвинтил крышку.
– Удобная штука! – сказал он. – И для пива и для водки – лучше не надо.
– Умные всегда хорошее придумают, – проговорил кто-то с украинским акцентом, и Карцев с Черницким быстро обернулись.
– Защима!
Карцев вскочил и, не веря себе, смотрел на знакомую фигуру ефрейтора. Всего несколько месяцев прошло с тех пор, как они виделись, но Карцеву казалось – прошли годы. Защима, тот самый, что накануне ухода в запас оскорбил фельдфебеля и был осужден за это к шести месяцам дисциплинарного батальона, стоял перед ним похудевший, осунувшийся.
– Ты чего так смотришь? Цэ ж я, Защима – бывший государственный ефрейтор, а теперь рядовой из разряда штрафованных. Во как! Прийшел защищать отечество и начальство. Разумеешь?.. Для того и отпустили раньше срока…
Привычным движением он снял скатку и опустился возле костра. Голицын, не знавший Защиму, подвинулся, уступив ему место, и сказал, щуря серые глаза:
– Диспиплинарным ты нас не удивишь. Когда я на действительной был, троих товарищей туда спровадил и сам едва не угодил.
– Я и не удивляю, – равнодушно заметил Защима. – Мы уже давно не удивляемся.
Принимая от Черницкого покрытый аппетитной корочкой жирный кусок гуся, он спросил:
– Ну, как вы тут, братики, воюете? Не продырявили еще вас?
Он слушал, медленно прожевывая гуся. Было в нем что-то спрятанное от людей, что-то выстраданное и горькое, что он свято берег. Глаза невеселые, но в их взгляде не было надломленности.
– Жил, слава богу, – ответил он Карцеву, спросившему, как служилось ему в дисциплинарном батальоне. – Жил так, скажем, как на доброй каторге. Всюду же фельдфебели есть, господа офицеры есть, тюрьма есть и при тюрьме поп – все как полагается. Сорок человек нас освободили и – на передовые. Речь нам говорили. Хорошую речь. И отправили на вокзал под конвоем и без оружья. Просились там некоторые дурни – нельзя ли с родными попрощаться. К одному жинка приехала, всю дорогу рядом шла, а к мужу так ее и не допустили. «Когда свою вину отвоюешь, – сказал наш командир, – тогда сколько хочешь с жинкой цацкайся, а теперь нельзя…» Музыка даже нам поиграла, поп крест целовать давал… одним словом, проводили честь честью. Ну, вот мы и здесь…
Костер догорал, серый пушистый пепел осторожно покрывал столбики огня, точно укутывал их от холодеющего ночного воздуха. Вдруг сильный взрыв поколебал воздух. Деревья во дворе зашелестели, как от порыва ветра. На севере небо налилось багровым светом, точно там – не на обычном месте и без времени – всходило солнце. Взрыв повторился, тоненько зазвенели стекла в домах, и настала тишина. Она длилась долго. Потом взрывы возобновились, и север все шире заливался расплавленным металлом, точно выдавала его без счета какая-то чудовищная домна. На западе начался пожар. Два зарева сближались, и между ними тянулся черный коридор еще не освещенного неба.
Из хат поспешно выходили офицеры. В штабе полка началась суетня. Туда вошел Дорн. Через минуту он показался в дверях вместе с Денисовым, сердито что-то ему говорил, тыча рукой в комнату, где помещался командир полка, а Денисов пожимал плечами и отвечал, наклоняясь к уху подполковника. Старшие офицеры торопливо подходили к штабу, слышались их громкие, возбужденные голоса. Вышел Максимов – сутулый, с небритым, отекшим лицом. Он говорил мало, больше слушал Денисова и тряс в знак одобрения головой. Штабс-капитан Блинников, заменивший убитого Вернера, повел третью роту.
Августовская ночь переходила в рассвет. Было свежо, в небе, как льдинки в голубой воде, таяли звезды. На правом фланге загремела русская артиллерия. Под шрапнелями валились тонкие садовые деревья. Тяжелые германские снаряды падали совсем близко. Позади рощи проходила железная дорога. Там, за буграми и холмиками, около будки путевого обходчика залегла немецкая пехота, и пули с визгом и цоканьем проносились над русскими цепями. Группы раненых тащились обратно в деревню, на перевязочный пункт. За дорогой протекала речка, красиво поросшая кустами. Внезапно из-за кустов выскочили немцы и, крича, бросились в атаку. Русская батарея била по ним прямой наводкой. Восемь полковых пулеметов татакали непрерывно, и простым глазом было видно, как падали скошенные немцы, как в смятенье бежали они назад и прятались у речки, в рытвинах и кустах. Артиллерийский огонь усиливался, сражение происходило на широком фронте.
В деревню въехал автомобиль. Худощавый генерал с маленькой коричневой бородкой долго и внимательно выслушивал доклад другого генерала – остроносого, в черепаховых очках, смотрел на карту, разложенную на сиденье автомобиля, и негромко отдавал распоряжения. Потом, стянув с правой руки серую лайковую перчатку, вылез из автомобиля и прошелся по дороге, по-птичьи наклонив набок голову, прислушиваясь к артиллерийской стрельбе. Прискакал запыленный ординарец с донесением. Рыжий конь тяжело водил боками, пена белыми хлопьями падала с его боков, с тонких, вздрагивающих ног. Генерал ласкова похлопал коня по шее, сказал ординарцу: «Спасибо, спасибо, родной мой» – и, прочитав донесение, быстро пошел к автомобилю. Он продиктовал приказ, который торопливо записывал офицер генерального штаба, и уехал.
Через час на фронте в несколько верст двинулись в наступление три полка, имея четвертый в дивизионном резерве. Это была операция, предпринятая командиром пятнадцатого корпуса генералом Мартосом. Она принесла русским победу: несколько орудий и больше тысячи пленных.
Третий батальон атаковал на правом фланге полка. Дорн шел вместе с двенадцатой ротой, державшейся уступом позади одиннадцатой. Батальон охватывал маленькую рощу, в которой засели германцы. Васильев беглым огнем прижал противника к земле и бросился в атаку. Солдаты так дружно и стремительно рванулись вперед, что Дорн не удержался, крикнул: