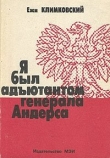Текст книги "Солдаты вышли из окопов…"
Автор книги: Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 29 страниц)
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
1
Из ворот серого четырехэтажного дома в Денежном переулке в Москве вышел Мазурин – сильно похудевший, заросший бородой. Кожа на его лице была белая, с тем нездоровым оттенком, который свойствен людям, долго находившимся в тюрьме или больнице. Он нерешительно поглядел вокруг, точно улица пугала его, и пошел направо, к Арбату.
Узкий Арбат был полон шумного движения – люди, повозки, пролетки, трамваи. Среди пешеходов попадалось много военных, на домах часто встречались флаги с красным крестом на белом поле.
Мазурин шел, держась возле стен: боялся, что от слабости упадет. Кто-то толкнул его или он кого-то зацепил в уличной тесноте – трудно было понять. Но вот чья-то рука схватила его за плечо. Небольшого роста круглолицый офицер с возмущением смотрел на него. Офицер был совсем зелененький, вероятно только что призванный. Новые ремни скрипели на нем, новенькая кобура болталась сбоку, погоны сияли на плечах. Мазурин вспомнил, что одет в солдатскую шинель, и поднес руку к фуражке, всем видом показывая, что он виноват.
– То-то же! – пробурчал офицер. – Должен знать, как вести себя на улице!
Мазурин вошел в подъезд высокого, с готическими башенками дома и поднялся на третий этаж. Перед дверью немного подождал, тяжело дыша: после ранения трудно было одолеть эту лестницу. Прочитав медную табличку на дверях, позвонил. Дверь открыла маленькая, очень толстая женщина, подозрительно взглянула на солдата. Ласково улыбнувшись, Мазурин спросил, можно ли увидеть господина Чантурия.
– Серго Иванович! – громко позвала толстушка и, прислушавшись к чему-то, чего не слышал стоявший на площадке Мазурин, неохотно пропустила его.
В дверях комнаты, выходящей в коридор, появился среднего роста смуглый человек с черными вьющимися волосами. Он пригласил Мазурина в комнату, плотно притворил за ним дверь, прислушался к тому, что делалось в коридоре, потом сухо спросил:
– Чем могу быть полезен?
– Я из военного госпиталя, – сказал Мазурин. – Сегодня впервые вышел. Ваш адрес мне дал Абрам с Прохоровки. Я – Мазурин. Служил в Моршанском полку. Вот… пожалуйста – документы.
Чантурия как бы с недоумением бросил взгляд на бумажку, в которой значилось, что рядовой Мазурин находится на излечении в военном госпитале, затем внимательно посмотрел на него и протянул руку.
– Знаю тебя, – сказал он и сразу сделался другим. Смуглое лицо помолодело. – О тебе Абрам сильно беспокоился, думал – убили. Рассказывай, как там на фронте.
– Лучше ты рассказывай, – обрадовался Мазурин. – Я ведь сто лет не знаю, что делается в России!
– Особых новостей нет. Загнали нас в подполье, всех наших депутатов в Думе арестовали…
Он говорил о страшных делах, о провалах и гибели товарищей, но его крепкое, с горбатым носом лицо было овеяно энергией и добродушием: так врач говорит о тяжелой болезни, в благополучном исходе которой он безусловно уверен. Потом вынул откуда-то листок, покрытый убористым шрифтом пишущей машинки, и протянул Мазурину:
– Садись, читай!
Мазурин несколько раз пробежал глазами первую фразу – смысл ее трудно давался ему. Мозг, ослабевший от долгой болезни, тяжело, без обычной упругости, воспринимал сочетания слов.
«Тяжелее всего в теперешнем кризисе, – напрягаясь, читал Мазурин, – победа буржуазного национализма, шовинизма над большинством официальных представителей европейского социализма…»
«Значит, плохо, – подумал он, – раз национальное берет верх, какой же может быть тогда международный союз рабочих? Но это я знал, я перед самой войной читал письмо Вандервельде. Что же надо делать теперь, какой теперь выход?»
И продолжал всматриваться в черные ряды букв:
«У немцев картина ясна: оппортунисты победили, они ликуют, они «в своей тарелке». «Центр» с Каутским во главе скатился к оппортунизму и защищает его особенно лицемерными, пошлыми и самодовольными софизмами… Буржуазия одурачивает массы, прикрывая империалистический грабеж старой идеологией «национальной войны». Пролетариат разоблачает этот обман, провозглашая лозунг превращения империалистической войны в гражданскую войну».
Мазурин взволнованно поднялся.
– Товарищ Чантурия! Ты понимаешь, что эти слова для нас означают? Ведь я фронтовик, я их воспринимаю иначе, чем те, которые здесь живут. Мы войну в другое русло должны направить, в другое… Если еще хоть полгода повоюем, половина солдат наверняка поймет, какую им войну надо вести. Кто написал эту статью?
– Кто? – помедлил Чантурия. – Ленин! Из Женевы прислали.
«II Интернационал умер, побежденный оппортунизмом… – читал Мазурин. – III Интернационалу предстоит задача организации сил пролетариата для революционного натиска на капиталистические правительства, для гражданской войны, против буржуазии всех стран, за политическую власть, за победу социализма!»
– Я без этой статьи на фронт не вернусь, – заявил Мазурин, близко подойдя к Чантурия. – Не вернусь! – настойчиво повторил он. – Что хочешь делай со мной!
Он гладил листок, не желая выпускать его из рук.
– Сейчас оставь, – сказал Чантурия. – А возьмешь, когда на фронт поедешь.
Прощаясь, он предложил:
– Если хочешь в Петроград поехать – устроим. Может быть, там работа найдется…
2
Мазурин вышел на улицу. Вечерело. Синие тучи ползли над городом. Загорались первые огни. У Арбатских ворот его чуть не сшибли санки, крытые меховой полостью. Санки остановились возле ресторана. Густой пар подымался от рысака, красная кучерская шея выпирала из воротника. Двое мужчин стали вылезать на тротуар. Один, высокий, с рыжей бородой, помогал выйти другому – черненькому, в золотых очках и дорогой шубе. Черненький выкатился из санок и почти упал на Мазурина, проходившего в этот момент по тротуару.
– С-солдат! – пьяно выкрикнул он, подымая кверху палец левой руки (правой он крепко держался за своего спутника). – П-приветствую с-союз фронта и т-тыла. Д-дай я тебя поцелую!..
Мазурин поспешно отступил. Вид у пьяного был в высшей степени благодушный. Бобровая шапка сдвинулась на лоб, носик торчал красным веселым пузырем, и от всего человечка несло хмельным теплом.
– Н-ну? Н-не хочешь?
Мазурин оттолкнул его и пошел дальше. Широкие окна ресторана были залиты светом. Всплески музыки доносились из-за них. Он перешел улицу и несколько минут смотрел, погруженный в невеселые мысли. С удивлением подумал, что для многих жизнь становится острее и ярче, они не желают замечать ничего, что могло бы помешать их веселью, и по-новому ощутил себя – слабого, раненого, в помятой солдатской шинели, стоящего тут, на московской улице.
– Ну-ну, – сказал он сам себе, – подтянись, Мазурин.
И, оторвавшись от стены, зашагал через площадь. Яркие потоки света ослепили его. У здания кинематографа вспыхнули огненные кольца, и перед ним всплыло знакомое лицо Макса Линдера. Мазурин подошел ближе к дверям.
– Солдатик, солдатик! Ты с фронта, да? Бедняжка, какой он бледный, небритый. Там же ужас, там же страдают… Да? Расскажи, как вы там живете?
Розовую шершавую ткань лица просекали тонкие лучи морщин, синие подведенные глаза пытались сиять по-молодому. Мазурин попятился от женщины, от душистого меха ее воротника. Но вокруг него уже сдвигались любопытные лица, чья-то завитая барашком бородка приблизилась к нему вплотную, кто-то вздохнул глубоко и сладко, в предчувствии патриотической беседы.
Мазурин ушел, и лицо Макса Линдера смеялось ему вслед.
«…Так вот они и живут, – думал Мазурин. – Кино, театры, рестораны… Миллионные подряды на нужды фронта… Рубашки, кальсоны, гимнастерки, шаровары для солдат… Патроны, шрапнели, гранаты… Орудия. Походные двуколки. Индивидуальные пакеты в прорезиненных мешочках. Бинты, марля, вата… Овес и сено для лошадей, рожь и мука для людей… Правительство покупает все, все, все! Комиссии утверждают заказы. Великие князья и товарищи министров руководят этими комиссиями. Высокопоставленные дамы устраивают заказы. Конечно, они могут замолвить словечко там, где надо. Дорогое словечко! Оно оценивается золотом, брильянтами… Снаряды могут не подходить к орудиям, сапоги могут развалиться через два дня после того, как их надели солдаты, – это не важно. Важно получить подряд. «Подряд»! Какое это волшебное слово! Оно преображает людей, оно меняет их жизнь, их судьбу. «Да здравствует война», – шумят они, пьяные от крови и золота. Все патриоты, все любят Россию, все хотят ей служить, защищать ее. Каждый хорошо одетый человек – «патриот»!»
В центре площади высился храм. Широкие каменные ступени вели к паперти. На ней толпились нищие. Тут же сидел безногий человек в солдатской фуражке, с Георгием на груди, его туловище покоилось на кожаной подушке, пристегнутой к дощечке на колесиках. Мазурин машинально вошел в храм, наполненный молящимися. Церковный староста продавал свечки. Желтые, ленивые огни светились у икон. Бас протодьякона, густой и низкий, как звук большого колокола, взывал к небесам. Хор просил победы христолюбивому русскому воинству. Потом дьякон поминал какого-то раба божьего Петра, «живот свой за веру и отечество положившего». Тихо плакали женщины. Теплый воздух церкви был насыщен запахом ладана и воска. Солдат с лысой головой и бачками, видно бывший лакей, молился, распластавшись на грязном полу. Старушки с умилением смотрели на него и шептались. Напудренные женщины с наколками сестер милосердия, с тарелками, на которых горели свечные огарки, собирали деньги. Церковный староста, позевывая, сортировал свечи, очевидно думая, что сейчас служба кончится и можно будет пойти домой пить чай. Мазурин поймал на себе его равнодушный взгляд, посмотрел на солдата с бачками и ушел из церкви, сердясь за то, что заглянул сюда. У самых дверей кто-то осторожно взял его за руку. Он встретился с ласковым девичьим взглядом.
– Вот не ожидала вас видеть, да еще в церкви! – смеясь, сказала девушка, протягивая руку.
– Но ведь и вы здесь, – шутливо заметил Мазурин, узнав прежнюю знакомую – сестру своего товарища. – Здравствуйте, Елена Ивановна. Семен в Москве?
– В Иркутске, в военном училище. Но вы должны зайти к нам.
– Извините. Вид уж больно у меня плохой…
– Фронтовой солдат и стесняется! Папа будет рад, но самое главное – я хочу вас видеть, я! Понимаете?
– Хоть побриться разрешите?
– Никуда не отпущу вас! Идемте!
3
Дверь открыла горничная. Она удивленными глазами уставилась на бородатого солдата. В комнате у Елены Ивановны было уютно: широкая низкая тахта, забросанная подушками, пол, покрытый текинским ковром, настольная лампа под пестрым шелковым платком.
– Теперь будем говорить, – сказала она. – И пожалуйста, не зовите меня Еленой Ивановной, а просто – Леной.
Он неловко сидел на тахте – руки лежали на коленях – и смотрел на девушку. Серые лучистые глаза глядели на него прямо и грустно. Лена села рядом.
– Несколько месяцев уже длится эта ужасная война, – печально сказала она. – Люди стали другими… Семен уехал, папа занят работой на своем заводе, а те, кто встречается со мной, говорят какими-то готовыми, скучными фразами. Лучше читать газеты, чем разговаривать с ними!.. Вы много знаете. Ну, расскажите, объясните, что происходит?
Мазурину не хотелось говорить. Ведь все это не серьезно. Ее жизнь идет своим, хорошо налаженным путем, и то, что тревожит ее сейчас, вероятно, скоро пройдет. Он пытался ответить ей несколькими общими словами. Она покраснела.
– И это все? – жестко спросила она. – Разве такие ответы мне нужны?
– Чего же вам надо? – спросил Мазурин. – Я вам говорю – война. Люди стали другими? Да, война многих переделает. Но не так, как вы думаете… Впрочем, те, кто окружают вас, думают совсем иначе. Россия, родина, героизм – это все на словах, а на деле – совсем, совсем иное!
Она сжала пальцы, выражение беспомощности проступило на ее лице.
Мазурин пытался переменить разговор. Он заставил рассказать о Семене, узнал, как проходят ее занятия на Высших женских курсах. Их беседу прервал стук в дверь. Вошел пожилой человек, сухой, прямой, с высоким лбом и зеленоватыми глазами. Увидя необычайного гостя, поднял брови.
– Это Мазурин, друг Семена, – пояснила Лена. – Помнишь, папа?
Иван Осипович сунул Мазурину руку.
– Очень рад, – вежливо сказал он. – Вы давно с фронта? Какие новости? Бьем или нас бьют?
Мазурин стал вкратце рассказывать о военных делах. Иван Осипович слушал рассеянно, ходил по комнате, нервно хмыкал.
Лена, посмотрев на него, мягко спросила:
– Папа, что-нибудь случилось? – И подошла к отцу. – Совсем неожиданное?
– Да, неожиданное! – признался он. – И много! Пятьсот человек!
Она, как всегда, поняла его с полслова.
– Но, папа, у вас же на заводе военное положение?
Он фыркнул и вытянул тонкую, как циркуль, руку.
– Вот, господин Мазурин, – тоненьким голосом заговорил он. – Вы – солдат и знаете, что такое дисциплина. Скажите, прошу вас, как вы относитесь к такому факту, когда ваши, ну, скажем, соратники бросают свой пост во время жаркого боя?
– Мне трудно ответить… Я не знаю, в чем тут дело.
– Они отказались работать, – объяснил Иван Осипович. – Они работают на вас, на фронт, и они своей забастовкой наносят удар в спину родным братьям, – русскому народу, который их защищает. Они предают страну, вспоившую их своим молоком.
– Каким же молоком поили рабочих? – иронически спросил Мазурин. – Забастовка – штука тяжелая, и если рабочий идет на это, значит, у него нет другого выхода, Иван Осипович! Почему, например, забастовали на вашем заводе?
Вопрос Мазурина ударил Ивана Осиповича, как палка. Он пристально посмотрел на солдата своими зеленоватыми глазами и вдруг, близко подойдя к нему, взял за руку и два раза крепко пожал, высоко отставляя локоть.
– Я понял вас, дорогой друг. Можете быть спокойны. Не мне забывать интересы российского пролетариата! Вы, когда ближе узнаете меня, я надеюсь, что это скоро будет, поймете многое… Мне ведомы и подполье, и аресты, и полицейская нагайка. Я тружусь всю жизнь, и боевой дух старой русской интеллигенции не умрет во мне! Рабочий должен бороться за свои права – согласен! Но когда, когда?
Узкая его головка вздернулась кверху, и он продолжал шепотом:
– Плеханов! Неужели кто-нибудь может оспаривать великую прозорливость этого человека? А наши культурные братья, братья по борьбе – французские, бельгийские и британские социалисты: Вандервельде, Макдональд, Жуо? Люди, которых чтит не только рабочий класс, но и все мыслящее человечество! Разве не они призывали, рабочих защищать свое отечество от кайзеровских полчищ? Разве не они отложили свои споры с правительством во имя общей опасности? Заметьте, я говорю – отложили, а не забыли. Когда окончится война, в которую они так благородно включились, они опять поведут борьбу.
Он говорил, и Лена, гордо улыбаясь, слушала его. Поглядывая на Мазурина, она как бы звала его выразить свое одобрение словам отца. Но Мазурин сидел спокойно, смотрел без улыбки. Он думал о том, как много изменилось за несколько месяцев войны. Там, откуда он недавно вернулся, тысячи отчаявшихся и озлобленных солдат учились в суровейшей и беспощаднейшей школе жизни. Он вспомнил долину Танненберга, сумрак Грюнфлисского леса, болота Мазурских озер, разбитые и раскиданные русские обозы, орудия, рухнувшие в канавы, толпы солдат, переставших быть армией. А здесь на заводах, в сердце России, осталась другая армия, та самая, которая начала еще в мае прошлого года разведочные бои на флангах – в Баку и в Риге – и в июле вышла на баррикады и под расстрел в Петербурге.
Отец и дочь смотрели на него, они ждали ответа, и он поднялся.
– Откладывать нельзя, – просто сказал Мазурин, – потому что народу не нужна эта война, а стало быть, не нужна и победа.
– О, это вы упрощаете! – не согласился Иван Осипович.
Он перегнулся вперед, лицо у него было внимательное и напряженное, зеленоватые глаза потускнели, точно пыль покрыла их.
– Я привык уважать всякие воззрения, – сказал он и дружелюбно коснулся сухой рукой плеча Мазурина, – даже такие… такие крайние, как ваши. Но я уверен, что время научит вас. Я – старый общественник, демократ, и мои друзья и рабочие на заводе хорошо знают это. Уверен – время все исправит, а пока пожелаю вам всяческих благ. Мне надо работать.
Он крепко, как бы проверяя силу Мазурина, стиснул его руку и ушел. Горничная принесла чай, сухарики, сыр, холодное мясо.
– Пожалуйста, ешьте больше, – попросила Лена так жалобно, что Мазурин засмеялся. – Вам, после ранения, надо поправляться, и мне хочется, чтобы вы скорее выздоровели, скорее стали сильным!.. Вы не смейтесь. Я ведь знаю, что вы мечтаете о новой, чудесной жизни. Я не скажу, что во всем с вами согласна, но вы упорный, вы не поступитесь своими идеями, и я очень, очень ценю за это вас… Ведь вы романтик, Мазурин, правда?
Он усмехнулся.
– Вы еще зайдете ко мне? – спросила Лена, когда Мазурин встал. – Я очень одинока. Папа занят весь день, а с мамой я никогда не была близка…
– Не знаю… Может быть… – пообещал он, улыбнувшись.
Мазурин медленно шел по улицам. Витрины магазинов сверкали электрическими огнями. Он остановился перед одной из них. Роскошный английский драп мягкими волнами стлался по бархатной подставке. Рядом лежали бобровый воротник, серебристая каракулевая шубка… И вдруг ощутил недовольство собой, что был в богатой квартире, беседовал с инженером, который, как это видно по его отношению к забастовке, владеет фабрикой, работающей на войну, и здорово, наверно, наживается.
«Зря пошел», – с досадой подумал он.
И вспомнилась ему Катя, и тоска взяла его. Как хорошо было бы увидеть ее, да скорее, скорее…
В госпитале дежурный выругал его за опоздание. В палате горела только одна лампочка. Несмотря на позднее время, никто еще не спал. Огоньки папирос светились на кроватях. Больные вполголоса разговаривали. Солдат с лимонным от желтухи лицом, сосед Мазурина по койке, говорил присевшим возле него товарищам:
– Через наш этап их целые тысячи проходили. Русинов и чехов было много, они по-нашему понимают. Ну вот, встретил я, значит, там одного человека, из Моравы – губерния у них такая, в Австрии… Хороший человек. Приятно его слушать. Он видел много русских пленных. А теперь, говорит, у австрияков наши пленные. Как же это понять?
Тут рассказчик поднялся, сел на кровати и многозначительно обвел глазами своих слушателей.
– Как же это понять? – повторил он, упирая на каждое слово. – А вот как. Происходит обмен народом. Идут русские к австрийцам, австрийцы – к русским. А начальство что хошь, то и делай. – Он засмеялся. – Сами подумайте, ребяточки, что может получиться? Прекращение войны, ей же богу. Людей – в бой, а они – в плен. Разведку шлют, а разведка – тоже в плен. Иди устереги вот так всю армию!
– Не устережешь, – заметил какой-то больной. – Однако же долго придется нам перебегать друг к другу. Я бы другое хотел… Скорее бы отказаться всему народу воевать!
– Нам полковник давеча про землю распространялся, – заговорил костлявый солдат. – Завоюем, мол, германцев, и дели, дели, значит, их землю.
– Жди! – послышался чей-то сердитый голос. – Дураку только бы болтать.
В палату вошла толстая санитарка и строго приказала спать.
– Доложу вот дежурному врачу, полуношники! Курите в палатах, разговариваете…
Ее осыпали веселыми шутками.
Она махнула рукой, ушла. Разговоры понемногу стихли.
4
На следующий день дежурная сестра, войдя в палату, окликнула Мазурина.
– К вам пришли, больной, – сказала она и ворчливо добавила: – Сегодня неприемный день… только уж ладно… для вас.
Он пошел, недоумевая, кто бы это мог быть. Знакомых у него здесь не было, а Чантурия по конспиративным соображениям вряд ли бы пришел.
В приемной на стуле сидела девушка. Больше никого не было. И еще прежде, чем Мазурин узнал ее, острое чувство радости охватило его.
– Катя! – крикнул он, и она уже бежала к нему, прильнула к его груди.
Они сели, держась за руки, и торопливо говорили, перебивая друг друга.
– Нет, ты скажи, как приехала… и так неожиданно… вот хорошая, вот милая… Догадалась, да?
Она смеялась и опять целовала его.
– Страшный ты, Алеша, – говорила Катя, и глаза ее излучали любовь, – ты бы бороду сбрил, к чему она тебе, молодой же ты…
– Хотел проверить, будешь ли ты меня, бородатого, любить, – пошутил Мазурин. – Ну, рассказывай, что там дома? Мать здорова? А Семен Иванович как? На фабрике тихо? Нет, до чего же хорошо, что ты приехала!..
И она старалась ответить сразу на все его вопросы, не выпускала его руки и заботливо спросила:
– Вот глупая какая, совсем забыла! Как твоя рана, Алеша? Не мучит, нет? Очень уж ты подался. Отпуск тебе дадут? Не сразу же на фронт отправят, да?
– Да рана-то что… заживет. Отпуск, конечно, дадут.
– Вот ты и приезжай к нам!
– Приеду… А потом дня на два придется поехать в Петроград. Есть там важное дело. А ты скажи, как тебя с фабрики отпустили? Родная ты моя…
Пришла сестра, хотела сказать, что надо кончать свидание, но, поглядев на них, ушла, ничего не сказав. Наконец Катя поднялась, объяснила, что надо успеть на поезд, передала мешочек с гостинцами.
– Мама пекла, ешь на здоровье.
Никак они не могли расстаться, все говорили, целовались.
– Так ждать тебя, Алеша?
Он охватил всю ее горячим взглядом.
– Жди! Обязательно! Спасибо, что приехала…
Он смотрел в окно, видел ее легкую фигурку, удалявшуюся по двору к воротам.
Прошло две недели после приезда Кати. Мазурин получил отпуск на двадцать дней и решил ехать в Егорьевск, а оттуда – в Петроград. Чантурия он видел еще раз. Худой, небритый, тот бегал-по комнате.
– Понимаешь, какой подлец, ах, какой подлец! – не здороваясь с Мазуриным, сказал он. – Сволочь какая!..
– Ты про кого? – спросил Мазурин.
– Про кого, про кого? Про Чхеидзе! Он, гадина, на свободе! Он в Сибирь с депутатами-большевиками ведь не поедет, а какие песни поет, какие песни!..
И вдруг лицо его повеселело, он радостно засмеялся и, подмигнув Мазурину, сказал:
– А какой ему прием устроили в Питере?.. Прогнали его рабочие. Чуть не побили, ей-богу. Совсем говорить не дали.
Он тут же отдал Мазурину пачку листовок. Тот спрятал их, простился с Чантурия.
В тот же вечер Мазурин сел в вагон поезда, уходившего с Рязанского вокзала. В грязных фонарях лениво горели толстые короткие свечи, при золотушном их свете, толкая друг друга узлами, пробирались люди, отыскивая, где присесть. Слабый паровоз два раза рванул, прежде чем сдвинуться с места. Вагоны скрипнули и застучали колесами.
Перед Мазуриным неподвижно сидел одноглазый человек. На вопрос, куда он едет, одноглазый ответил:
– Кочуем, кочуем… Наше дело простое: где положат, там и лежим.
Низким, придушенным голосом, таким же большим и тяжелым, как его лицо и тело, он рассказывал о себе:
– Таких, как я, много. С кем бы из нашего брата ни поговорил, всегда свое узнаешь: нужда, работа до ночи, обязательно несчастье какое-нибудь… Скажешь, что вон глаз на заводе взрывом выбило, а мне отвечают: и у нас такой случай был. Живем мы, друг солдат, узенько, по дощечкам, по мосточкам. В сторону редко кто уйдет. Некуда.
Он в упор смотрел на Мазурина. Единственный его глаз вспыхнул недоумением.
– Обидно же, – в раздумье сказал он, – трудно бывает, когда люди, как щенки, вслепую живут… Вот послушай, друг, как это случается. Работал я на паршивом кирпичном заводике. С одного боку к нему дорога подходила, а с другого – овраг, весь в колючих кустах, через кусты тропинка вела. И вот как-то ночью я возвращался на заводик. Спустился в овраг, ищу тропинку, а ее нет. Натыкаюсь на кусты, оборвался весь, не могу пройти! Час бился, другой – измучился. Вот он, заводик, двести шагов до него, а не добраться. Пришлось идти в обход, верст за пять. Утром пришел я в то место, где ночью мучился, посмотрел и охнул: господи, до чего же просто, когда светло. А ночью нельзя… пути не видать…
Он разволновался, засопел и как-то безнадежно повторил:
– Чего хуже может быть, когда пути не видать…
Скоро в вагоне все заснули. Из-под пола доносились беспорядочные, унылые звуки, точно кто-то кашлял там железным заржавленным горлом, кашлял длительно и надрывно. Долго стояли на станциях. В соседнем отделении не переставая плакал ребенок, и никто не унимал его.
Серым утром приехали в Егорьевск. Сошли на деревянный, обледенелый перрон. Мазурин взволнованно осматривался. Отсюда он уезжал на войну, вот тут стояли Катя и Тоня, тут плакали женщины, полковой оркестр играл бравурный марш. Неужели с тех пор прошло только несколько месяцев? Ему казалось, что грань, пересекавшая время, разрезала жизнь, развалила ее на не похожие один на другой миры.
Он шел по улице, смотрел на красные корпуса бардыгинской фабрики, слышал жужжание станков (фабрика работала на армию), потом ускорил шаги. Деревянный, с разбитым настилом мост, незамерзающая от горячих фабричных отходов Гуслянка, белый с колоннадой дом на горе – как это все знакомо и как страшно! Казарма двинулась на него так буднично и грозно, так неумолимо, что он вспомнил фронт как нечто отрадное.
Свернув в узкий, лишенный мостовой переулок с редкими керосиновыми фонарями, он прошел мимо того места, где когда-то поручик журил его за курение на улице, и вдруг обмер: этот же самый поручик шел навстречу, такой же большой, толстый, с черными рожками усов над красными губами, с выпученными глазами, в защитной шинели, в портупее, с револьвером и шашкой, являя собою вид боевого офицера. Слава его товарищей, умиравших на фронте, отраженно падала и на него, русского офицера, и он крал ее, как привык красть казенные деньги.
Мазурин вытянулся и отдал честь. Поручик с надменным видом прошел мимо, но, покосившись на солдата, остановился.
– С фронта? – отрывисто спросил он.
– Так точно, ваше благородие!
Офицер опустил руку в карман шинели и достал полтинник.
– Выпей за мое здоровье!
Мазурин знал испытания потяжелее этого. Он был выдержан и хладнокровен. И все же рука его дернулась назад. Он с усилием поднял ее. Отказываться было нельзя. Солдат не имел права не принять офицерской подачки.
– Покорнейше благодарю, ваше благородие… – глухо проговорил Мазурин.
Он подождал, пока офицер скрылся за углом, и бросил монету в грязный снег.
Подошел к знакомому домику и не мог войти. Долго стоял у ворот. Достал кисет, закурил. Сердце билось неровно и часто, как после трудной работы.
Наконец вошел во двор. Толкнул дверь. В сенях стояла Васена – мать Кати. Она вскрикнула от неожиданности, обняла Мазурина и несколько раз поцеловала его.
– Вот хороший, вот хороший, что приехал! – Она сияла радостью. – Катерина говорила, что обещал, но я, по правде сказать, не верила: дела у вас военные… Ну, садись, садись, раздевайся… Она скоро придет.
Прибежала Нинка, побледнела, увидев Мазурина, и, завизжав, прыгнула к нему, целуя и дергая за бороду. Потом стрелой унеслась и вскоре вернулась вместе с Катей.
– Вот счастье какое! – проговорила Катя.
Он обнял ее и целовал, не в силах оторваться от ее горячих губ.
Нинка, дразнясь, щипала старшую сестру и любовно поглядывала на Мазурина. Васена собрала обед и, по привычке насмешливо поджав губы, поставила на стол бутылку.
– С тобой выпью, – сказала она. – Девкам не дадим.
Пили из зеленоватых граненых стаканчиков. Мазурин спрашивал, как живут в городе, что делается на фабрике. Он пошептался с Нинкой, как прежде, когда она выполняла его поручения, и та, накинув платок, куда-то убежала.
Катя сжимала руку Мазурина.
– А мать не пускала меня к тебе в лазарет, боялась, что в Москве затеряюсь. Но я, как получила от тебя письмо, минуты не могла спокойно сидеть.
Васена, подлив водки в стаканчики, сказала:
– Потом уж отпустила, думаю: нет того любее, как милый.
Мазурин чокнулся с Васеной, крепко обнял Катю.
– На потом оставьте, – насмешливо заметила Васена.
– Ну и мать! – засмеялась Катя, и оба посмотрели на нее, не сердясь, так как знали, что Васена не умеет говорить без насмешки.
Вошел Семен Иванович, сопровождаемый Нинкой. Серенькая его бородка растрепалась, глаза сердито смотрели из-под очков. Он всплеснул руками и прижался щекой к щеке Мазурина.
– Обманула! Обманула! – грозил он Нинке. – Сказала, будто письмо от тебя!
– Выпей на радостях, Семен Иванович, – предложила Васена.
– Выпью, непременно выпью. Знал бы, сам принес бутылку.
Он сел и, вскинув очки на лоб, разглядывал Мазурина.
– Пощипала тебя война… Куда против прежнего похудел! Господи, сколько же воды утекло! Неужели только семь месяцев прошло? Эх, сейчас бы музыку сюда!.. Наливай, Васена.
Он притопнул ногой, глаза его сияли.
– Жаль, что двести лет жить нельзя, – весело сказал он. – Я бы таких делов натворил!..
– Прибедняется, – задорно вмешалась Нинка. – Ты ему, Алеша, не верь. Триста проживет! Здоровье – хоть куда! Как угорь везде вьется, не поймаешь.
– Вот поймаю! – угрожающе приподнялся Семен Иванович. – Молода еще крыльями хлопать. – И, повертываясь к Мазурину, шепнул: – Золотая девка, куда хочешь проскользнет. Все, что ни скажешь, – делает. Она у нас – техник.
– Техник! – задорно подтвердила Нинка. – А кто меня техником сделал? Он! – И, закрасневшись, показала на Мазурина.
– Выпьем, Семен Иванович, – предложил Мазурин. Лицо у него покраснело, левой рукой он обнимал Катю, правой подымал стаканчик с водкой. – Не хочу про войну вспоминать. Забудем сегодня все плохое.
– А я и так хорошим живу, – сказала Васена. – Вот ты приехал – хорошо. Дочки у меня – не налюбуешься. День нынче солнечный, чистый. Вечером ляжешь спать, все плохое как сквозь сито просеешь, ан одно хорошее и останется. А завтра, думаю, еще лучше будет. Завтра не выйдет, я на послезавтра надеюсь. Вот так одним хорошим и живу.
– С мамой не пропадешь, – сказала Катя. – Уж как трудно ни будет, она все равно спокойная.
Когда бутылка опустела, Васена подала чай, Семен Иванович, проворно кинув в рот кусочек сахару, стал пить с блюдца.
– Суд вот в Петрограде будет над нашими депутатами, – сказал он. – Слыхал?
– Поеду туда, – ответил Мазурин. – Хочу до фронта повидать, кого надо.
Старик закивал головой:
– Езжай, езжай… Дерево от корня отрываться не должно.
Разошлись поздно. Мазурин пошел ночевать в казарму.
5
Ночью батальон вошел в галицийскую деревню. Было темно, ни одного огонька не светилось в избах. Солдаты наталкивались друг на друга, ругались. Долго стояли па улице.
– Пойдем в хату, – предложил Черницкий Карцеву.
Они прошли в самый конец деревни. Сапоги увязали в грязи. Мимо, с коротким воем, метнулась собака. Черницкий свернул к черной хатенке, долго шарил дверь, постучал. За дверью что-то слабо хрустнуло, точно кто-то ходил по соломе, и лишь по слабому движению воздуха Карцев догадался, что дверь открылась. Они очутились в низких сенях. Узенький рыжеватый огонек коптилки осветил деревянную, треснувшую книзу лопату у стены, рассохшуюся кадку. Невысокая женщина, мягко переступая босыми ногами, повела гостей в избу. Там было душно, пахло печеным хлебом.