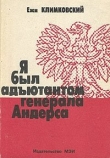Текст книги "Солдаты вышли из окопов…"
Автор книги: Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 29 страниц)
– Так точно. Печать ставки верховного главнокомандующего… Покорнейше прошу садиться.
Пожевав губами, он первым делом спросил, где Бредов обедал, будучи в ставке. Тот ответил.
– А генерал Алексеев где обедает?
Бредов объяснил, что Алексеев питается в общей столовой, за исключением тех дней, когда его приглашает государь.
– Государь!.. – прошептал начальник дивизии. – Не всякий удостоится такой чести, не всякий!..
Бредов сухо сказал, что все офицеры, работающие в ставке, в порядке очереди приглашаются к царскому столу. Генерал крякнул и округлившимися глазами посмотрел на Бредова.
– Так что и вы, подполковник… – запинаясь, спросил он, – то есть я хотел сказать, что и вам выпало высокое счастье…
– Так точно, – жестко ответил Бредов. – И я обедал у государя.
Он нарочно сказал «обедал», а не «имел счастье обедать», но генерал не заметил такой, вольности. Обеими руками он взял руку Бредова и проникновенно зашептал:
– Нет, уж извольте все до ниточки рассказать. Я ведь туркестанец, еще с Михаилом Дмитриевичем Скобелевым вместе воевал, но в большом свете, знаете ли, не бывал, не приходилось… Так вы, говорите, у государя обедали? Кто же на обеде присутствовал? Какие блюда подавали? А посуда какая была? Вы, родной мой, уж все, все подряд выкладывайте, ничего не пропускайте.
Генерал кивнул начальнику штаба – подсядьте к нам! – по-стариковски поднес согнутую ладонь к уху и в упоении приготовился слушать. Бредов невольно взглянул на начальника штаба, но тот как будто ничуть не был смущен поведением генерала и тоже приготовился слушать.
Бредов рассказывал яростно, едва сдерживаясь. Когда он кончил, генерал спросил, исподлобья взглянув на него:
– А по какой причине вас откомандировали из ставки?
– По собственному желанию. Полагал, что больше пользы принесу в строю.
– Ну, вам виднее, – недоверчиво прошамкал генерал. – Вам виднее…
4
Мазурину, лечившемуся после второго ранения в одном из московских госпиталей, удалось получить короткий отпуск. Куда же поехать? Конечно, в Егорьевск! Это счастье – снова обнять Катю, повидать Семена Ивановича…
В Егорьевске на перроне рослый жандарм с красным щекастым лицом и круто заверченными усами пристально посмотрел на него и, видимо не найдя для себя ничего примечательного в аккуратном унтер-офицере, уверенно идущем к выходу в город, скрылся в вокзальных дверях.
Мазурин вышел на площадь. Большая, грязная, с керосиновыми фонарями на низеньких столбах, окруженная покосившимися деревянными домиками и щелястыми заборами, она была удручающе похожа на сотни таких же площадей в захолустных российских городах. Вдали виднелись красные кирпичные корпуса фабрик, мимо них, словно нехотя, текла Гуслянка, как всегда – маслянистая и сизая от фабричных отходов. Он прошел мимо казарм, где ютились рабочие хлудовской, бардыгинской и князевской фабрик, повернул за угол, и перед ним потянулись одна за другой жалкие и тусклые улички. Весь город представлялся ему оплетенным пыльной серой паутиной; вдали виднелось самое высокое здание города – тюрьма.
Вот наконец и переулок, где живет Катя. По привычке оглянувшись – не следят ли за ним, Мазурин вошел в калитку. Трухлявая верея едва держала старенькие ворота. «Новые бы поставить, да не время…» – по-хозяйски подумал он, толкнул знакомую дверь, она легко отворилась, будто ждала его. Васена, возившаяся около печи, обернулась. Она была все такая же – сухая, крепкая, живая. Насмешливые ее глаза вспыхнули радостью. Однако она не вскрикнула, а, положив палец на губы, подошла, обняла, притиснулась губами к колючей щеке Мазурина.
– Пойдем, – шепнула она.
Он сбросил походный мешок и пошел за ней, улыбаясь, зная, как Васена любит подготовлять всякие неожиданности. Во второй комнате, одетая, поджав ноги и подложив руку под щеку, спала на кровати Катя.
– Скоро ей на смену вставать. Разбуди, обрадуй… – сказала Васена и вышла на цыпочках.
Мазурин опустился на колени возле кровати и поцеловал Катю в разрумянившуюся от сна щеку. Она проснулась, не понимая, сон это или нет. Потянулась к Мазурину:
– Алешенька!..
– Я, я, Катюша! – говорил он, целуя ее волосы, руки, горячо обнимая ее.
– Опять ранили? – в тревоге спросила она.
– Опять…
– Только когда тебя ранят, и видаемся с тобою, – грустно проговорила она. – Что же ты не написал? В Москве лечили? Я опять бы приехала к тебе, милый, родной Алеша! Замучилась без тебя.
Потом все трое сидели в первой комнате за столом и оживленно разговаривали. Васена налила тарелку щей. Мазурин не стал отказываться, зная, что она угощает от всего сердца, да и отказа не примет – изведет насмешкой. Катя спрашивала, как живется солдатам на фронте. Мазурин отвечал и с аппетитом ел вкусные, наваристые щи, с блестками жира и пряным запахом лаврового листа. Мастерица Васена стряпать!.. А она слушала, спрятав руки под платок, часто кивала головой в знак согласия с Мазуриным, потом сказала:
– Ничего, перестрадает народ. Я хоть баба, а многое вижу. Поворачивается жизнь… Новые хозяева придут. Царь – он убогий, кто ему нынче верит, кто его боится? Теперь рабочих одной полицией не возьмешь, и солдаты, как ты говоришь, тоже не прежние. Поворотится жизнь, ой поворотится…
– С воздуха, само собой, Васена, ничего не бывает… – ответил Мазурин. – Надо людей учить, как правду добыть. И еще надо, чтобы армия пошла вместе с народом.
– Пойдет! – уверенно, вмешалась в разговор Катя. – Ты же сказал, что теперешнего солдата с кадровым не сравнишь: одежда на нем солдатская, а душа вольная.
– За солдатскую душу и воюю! – горячо сказал Мазурин.
Помолчали. Умные, насмешливые глаза Васены не отрывались от лица Мазурина, и от ее взгляда он почувствовал неловкость.
– Что это ты, мать, так смотришь? Или переменился?.
– Переменился… И не ты один, Алеша. На людей погляди в нашем городе. Все другими стали.
– Все? И Бардыгин тоже? – с усмешкой спросил Мазурин.
– Я о горбатых не говорю, – пояснила Васена.
– Вот то-то же! – подтвердил Мазурин. – Но дожидаться, пока Бардыгиных могила примет, – нельзя. Нужно гнать их с фабрик, завести там свои порядки, директорами посадить таких, как, скажем, Семен Иваныч. И так по всей России сделать!
– А что ты думаешь? – серьезно сказала Васена. – Семен Иваныч справился бы, голова у него золотая… Представить только: сидит наш Семен Иваныч в директорском кабинете и всей фабрикой управляет!.. Да только не бывать этому, Алешенька, – не в сказке живем… беда наша горькая!
– А мы беду изживем, мама, – громко прозвучал голос Кати. – Не век же нам бедовать? Так, Алеша? – И она прижалась головой к его плечу.
Вечером Мазурин навестил Семена Ивановича. Старик только что вернулся с работы и, сидя за столом в расстегнутой на груди рубахе, читал газету. Увидев Мазурина, он с таким видом, будто они только вчера виделись, сунул ему газету и сердито проговорил:
– Что только пишут – читать противно.
И, вскинув на лоб очки, вскочил, обнял Мазурина.
– Опять ранили? А не много ли? Хватит с тебя!..
Семен Иванович был горячий, неугомонный в разговоре и очень сдержанный и терпеливый в деле. Хорошо зная это, Мазурин спокойно слушал его.
– Про бабьи бунты слыхал? – живо спросил Семен Иванович и рассказал о целой волне женских бунтов, которые прокатились по всей стране.
– Понимаешь, баба, простая крестьянка, против помещика поднялась! – с гордостью говорил он. – А деревню не так просто поднять, это не наш брат рабочий. Тут вековой застой пробить надо!..
И, подталкивая Мазурина локтем в бок, с увлечением продолжал, поблескивая стеклами очков:
– Ты не знаешь еще, что на фабрике делается! Туда вместо мобилизованных женщины да подростки пришли. Сначала кроткими были, а потом присмотрелись, да мы их кой-чему научили… Тут и Катя хорошо поработала. Одним словом, народ в огне!.. Не только у нас, по всей России забастовки растут… Ну, а на фронте как? Рассказывай.
– На фронте не так, как здесь. Там так просто не забастуешь. А нужно добиться, чтобы и фронт и тыл вместе шли. Связь здесь хорошая нужна!
– Вот такие, как ты, и есть наша связь… Долго у нас пробудешь?
– Дня три, пожалуй.
– Так, так… Среди народа, конечно, потолкаешься?
– Обязательно! Меня ведь про вашу жизнь на фронте будут расспрашивать, да и самому интересно людей повидать. За год много воды утекло… Вот бы новых работниц послушать!
Семен Иванович хитро посмотрел на него:
– За чем остановка? Идем к ним в гости!
Он спрятал очки в старенький футляр, сунул его в карман, надел куртку, схватил свой помятый картуз.
– Что время зря переводить!
Они вышли на улицу. Были синие сумерки, на западе угасал последний розовый отблеск уходящего дня. Галки весело перекликались, сидя на крестах пятиглавой церкви. Мазурин и Семен Иванович свернули в глухую улицу и вскоре очутились в большом дворе.
В комнате, куда они затем вошли, было людно, но тихо. На кроватях, скамейках, а то и просто на полу, застланном пестрядинными ковриками, сидели женщины и вязали. Семен Иванович низко поклонился, взметнув над головой свой картузик:
– Ну, кого не видал – здравствуйте! А тебе, Анна Акимовна, хозяюшка, особый привет.
Анна Акимовна – еще молодая женщина, с полным лицом и ясными голубыми глазами – поднялась со скамеечки и тоже низко поклонилась.
– Садитесь, гостями будете, – приветливо сказала она.
Мазурин рассматривал всех с любопытством, и на него тоже глядели пристально. Семен Иванович уселся на табурет и спросил, чуть улыбаясь в седенькую бородку:
– Может, помешали?
– Что вы, что вы! – живо ответила Анна Акимовна. – Никаких особых дел у нас нету, так – отводим душу, судачим о житье-бытье.
Маленькая женщина с сухим, строгим лицом, почесав спицей лоб, спокойно сказала:
– Наше дело известное – болтовня, а вот ты, солдат, расскажи, как там наши мужья воюют, скоро ли домой вернутся?
– Немца победят и вернутся! – звонко и зло крикнула черноволосая молодуха, что расположилась на коврике.
– Тут уж не до победы, – сурово вмешалась пожилая женщина. – Вернулись бы целыми – и спасибо, а то без них хоть пропадай!
Она окинула быстрым взглядом своих подруг и продолжала, не прекращая вязать:
– Съела нас фабрика, и нужда нынче косточки догрызает. Ни к чему не подступишься – все втридорога. А заработки какие? На хлеб да на тюрю и то не запасешь.
– А как с хозяйством и с ребятишками управиться, когда на фабрике по четырнадцать часов торчишь? – подхватила худая работница с нездоровым румянцем на впалых щеках. – Уж лучше смерть, чем жизнь такая треклятая!
– Давеча из Рязани соседка моя вернулась, – доверительно проговорила Анна Акимовна. Спицы в ее руках мелькали с удивительной легкостью. – Там, в мастерских, швеи забастовали. Бухаркой, говорят, заставляют штаны да рубахи шить, а какая в ней крепость, в бухарке этой? Наденет на себя такую одежу солдат, и сразу она по шву и распорется.
– Зато бухарка дешевле катушечных ниток, – отозвалась какая-то женщина в углу. – Хозяевам на них нажива, а солдат хоть пропади – разве им жалко?
И вдруг работницы разом все заговорили, перебивая одна другую. Много выстраданного горя и злобы слышалось в их словах. Движения их были порывисты, глаза горели. Мазурин взглянул на Семена Ивановича. Тот сидел не шевелясь, положив руки на колени, и только очки его строго блестели в желтом отсвете керосиновой лампы. Среди возбужденных выкриков ровно выделился голос Анны Акимовны. Видно, что ее здесь любили слушать.
– Спокойно нельзя нам жить, – сказала она. – Спокойно теперь жить – все равно что в пропасть катиться. К горлу подошло – дальше некуда! Томление одно, а не жизнь, хоть криком кричи! А разве он поможет – крик-то?
– А что поможет, Акимовна? – настойчиво спросила пожилая женщина. – Если знаешь – скажи.
В комнате стало тихо. У Мазурина даже сердце похолодело: что ответит хозяйка?
Анна Акимовна вздохнула, грустно улыбнулась:
– Что я вам, бабоньки, на это скажу? Я такая же, как и вы, одна у нас с вами жизнь, одна печаль. Муж на войне, дети-малолетки…
Она задумалась, перестала вязать. Глаза женщин не отрывались от ее лица, и Мазурин с удивлением думал: «Чем же привлекла эта женщина сердца своих подруг? Отчего с такой верой глядят они на нее, будто ждут вещего слова, которое объяснит им все: и что делать, и как жить?»
– Иду я вчера на работу, – снова заговорила Анна Акимовна, и спицы ожили в ее руках, – прохожу через будку у ворот. От нее справа домик, где вахтер живет, а у домика сарайчик, помните? Он всегда запертой, этот сарайчик. А теперь вижу – дверь открыта и у самого входа пулемет. Вышел из сарая Гаврюшин, околоточный, повесил замок на дверь: не увидел бы, часом, кто. Получается, бабоньки, что они нас до того страшатся, что пулеметы готовят. Значит, если мы будем прав своих добиваться, они в нас стрелять начнут, как в немцев…
– Уже стреляли, – сказал Семен Иванович. – Забыли? В прошлом месяце Кудряшова Сидора да Гришку Малькова в роще на сходке ранили.
– Да, уже стреляли… – подтвердила Анна Акимовна. – Я так думаю, бабоньки: нет хуже, когда человек бараном живет, лоб свой подставляет. Вся Россия разворочена, всюду забастовки, народ за свою правду борется. А куда нам от своего народа деться? Говорили, – она прямо взглянула на Мазурина, – что и солдатам на фронте тягота смертная. А ведь они нам родные – у кого там брата, мужа или сына нет? Ну, так коли уж идти, то всем вместе. Старое оставить – все равно пропадать, так лучше уж вперед идти – хуже не будет, а верится, – глаза ее блеснули, и она звучно повторила, – а верится, что так лучше будет!
– И другого ничего не остается, как вперед идти! – послышался знакомый голос, и Мазурин вздрогнул: «Катя!»
Она сидела, забившись в уголок, и он до этого не замечал ее. Анна Акимовна что-то сказала Семену Ивановичу, и тот повернулся к Мазурину:
– Тебя просят рассказать, как вы там воюете, как царя-батюшку защищаете…
– И жить нам как, идти куда, правда-то наша где? – не повышая голоса, обращалась Анна Акимовна к Мазурину, требовательно глядя на него, и так же непреклонно смотрели на солдата и другие работницы. – Нам такой человек нужен, чтобы все, все до ниточки распутал и дорогу показал. А то, как слепые, на свете маемся…
– Такой человек есть, и я хочу вам рассказать про него, – начал Мазурин. – Он всю свою жизнь отдает нам, простым людям, учит, как завоевать свободу, как жить без войны, без фабрикантов и помещиков, чтобы сам народ управлял и все богатства доставались ему, а не хозяйчикам, которые с трудового люда шкуру дерут. Его за эту любовь к народу бросили в тюрьму, сослали в Сибирь, но он и там делал свое дело, и не было такой силы, что заставила бы его изменить своему долгу.
– Он и сейчас в Сибири? – спросила пожилая женщина.
– Нет. За границей, и оттуда руководит борьбой рабочих против войны, против всех, кто угнетает нас. Его статьи указывают нам, куда идти, что делать. Он зовет свергнуть царское правительство, сбросить его с народных плеч, как ярмо, как тяжелую глыбу, если мы не хотим, чтобы эта глыба задавила нас окончательно. Он требует мира, справедливого мира. Довольно зазря лить кровь. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – вот что, товарищи, должно огнем гореть на нашем знамени!
– Это как же, – и нам, бабам, стало быть, сзади не оставаться? – спросила Анна Акимовна, и шепот пронесся по комнате.
– И вам, – ответил Мазурин. – Разве вы – работницы, крестьянки – страдаете меньше других? А сколько женщин пошло на каторгу, сколько их повешено царскими палачами? Вот в прошлом году в Швейцарии был съезд женщин-социалисток. Знаете, какое они приняли решение? Война эта, мол, преступная, и нужно всем работницам всего мира бороться против несправедливой человеческой бойни.
– А тот, про кого ты говорил, знает про этих женщин?
– Знает. Он все знает! Он нашими думами живет.
– А кто он такой? Ты видел его?
– Нет, не видел, но каждое его слово – до сердца доходит.
– Зовут его как?
– Скажи, как зовут? Наш он, русский?
Многие встали, надвинулись на Мазурина. Он видел их лица: что-то грозное и решительное было в блестящих глазах женщин.
– Русский. Зовут его – Ленин!
– Ленин!
– Ленин!
– Ленин!.. – много раз пронеслось по комнате.
Мазурин поражался неожиданным вопросам, которые задавали работницы: кто будет вместо царя?.. Кто будет управлять и владеть фабриками?.. Кому пойдет прибыль?.. Куда денут полицию и хозяев?
Кто-то застенчиво спросил:
– Женат он, Ленин-то? И кто жена у него? Детки есть?
…Выходили маленькими группами и в одиночку, Семен Иванович толкнул Мазурина в бок:
– Хорошо получилось. Просто, душевно говорил… Ну, прощай, до завтра.
И сокрушенно добавил, уходя:
– Мне бы на фронте побывать, с солдатами побеседовать.
Мазурин медленно шел по улице. Он думал о своей жизни, о товарищах, и вдруг странное беспокойство овладело им: предчувствие опасности. По старой привычке подпольщика, он весь собрался, насторожился. За ним, по другой стороне улицы, шел какой-то низенький человек. Шпик! Мазурин свернул в первый же переулок, и низенький, уже не скрываясь, побежал за ним.
– Эй, земляк! Минутку! – крикнул он и, обернувшись, махнул кому-то рукой. У него было узкое, лисье лицо, тонкие губы.
«Проследили! – понял Мазурин. – Неужели с первого же дня моего приезда рыщут за мною?» Он старался быть спокойным, даже немного вялым.
Он остановился:
– Что надо?
Шпик посмотрел на торопливо подходившего к нему грузного человека и сказал:
– Прогуляйтесь с нами, кавалер, тут недалече.
Мазурин пошел с ними. Его мало беспокоила собственная судьба. Что могут они сделать солдату, который и так должен ехать на фронт? Он беспокоился о подпольной организации фабрики, о Семене Ивановиче, о Кате. Неужели они провалятся?
Его доставили в полицию. Он прошел грязным коридором, пропитанным запахом карболки, опустился на скамейку в маленькой пустой комнате. Вся обстановка здесь и даже запах чем-то напоминали мертвецкую.
Шпик с лисьим лицом скрылся, а второй уселся против Мазурина и, упершись руками в колени, глядел на него полузакрытыми глазами. Так длилось около двух часов. Эта пытка ожидания и неизвестности была знакома Мазурину. Нет, он не дастся! Мазурин достал махорку, закурил. Оперся спиной о стену, удобно вытянул ноги. Шпик сидел как каменный. Вошел первый. Они заставили его снять сапоги, одежду, белье, ощупали подклейки голенищ. Потом велели одеться и повели к полицейскому, что-то тому шепнули. Полицейский открыл длинным ключом дверь с крошечным решетчатым оконцем.
– Входи.
Первый шпик вежливо посоветовал:
– Отдохни немного, кавалер, скоро вызовут.
Но прошел час, другой, наступила ночь, и Мазурин понял, что никуда его сегодня не вызовут. Лег на голые нары и уснул. Утром и в полдень его тоже не вызвали. Он постучал в дверь, попросил воды.
– И так обойдешься, – ответил вчерашний полицейский. – Не велик барин.
Мазурин понял: перед допросом решили его обессилить. Он опять улегся на нары. Только вечером вызвали на допрос.
В комнате, куда его впустил полицейский, за столом сидел офицер, на стене висел портрет царя. Офицер писал, не поднимая головы, как бы не замечая вошедшего Мазурина.
– Так, – сказал наконец офицер, кладя перо. – Так, – повторил он и посмотрел на Мазурина ласковыми карими глазами. – Тебе что от меня надо?
– Привели, ваше высокоблагородие, – вытягиваясь, сказал Мазурин. – Шел по улице, остановили и… привели.
– Ах, взяли?.. С улицы взяли? – грустно проговорил офицер. – А не лучше ли, братец ты мой, так себя вести, чтобы тебя не надо было брать?.. Так за что же тебя взяли? За какие дела?
И он, как бы в рассеянности, начал листать лежащее перед ним дело.
– Не могу знать, – ответил Мазурин. – Ошибка, верно. Мне завтра в часть являться, на фронт отправляюсь…
Офицер сразу преобразился. Он приподнялся, вдавил ладони в стол, из-под усов блеснул желтый оскал зубов, и он хрипло крикнул:
– Ах, на фронт?! За маршевой ротой спрятаться хочешь? Нет, у нас не спрячешься, шалишь!.. Ты нам прежде о всех своих делишках расскажешь… Ты за каким чертом опять в Егорьевск приехал? Куда ходил? С кем виделся? Мы, братец, тебя еще с мирного времени помним! На фронт попадешь – не беспокойся, но раньше расскажешь – все расскажешь!
И чем больше кричал следователь, тем спокойнее становился Мазурин. «Ну, с таким не страшно, – думал он. – Выкладывай, кричи, а я послушаю, что ты знаешь обо мне».
Офицер неожиданно замолчал и сел. Осмотрел Мазурина с ног до головы, покачал головой.
– Послушай, – мягко сказал он, – ты сам знаешь: теперь война и с вашим братом цацкаться не будут. Мы о тебе все знаем! – Он постучал пальцем по папке. – Все! Если будешь отпираться, – свистящие ноты появились в голосе следователя, – ты на фронт не поедешь, понял? Военно-полевой суд, и в двадцать четыре часа – в расход! Ну, говори!.. И говори, прежде всего, о том, как ты баб с бардыгинской фабрики взбаламутил. Кто мог им, кроме тебя, о Ленине наболтать? Они сегодня у станков орали: солдата, мол, нашего заарестовали, который о Ленине рассказывал… Никакого другого солдата, кроме тебя, не могло быть! Они, чертовки, чуть фабрику не подожгли… Говори! Сейчас же говори, мерзавец!
«Так, значит, они узнали о моем аресте… Так, значит, я недаром говорил с ними!.. – обрадованно подумал Мазурин. – Бунт устроили… Молодцы! Но как же все это случилось, как?»
– Не о чем мне говорить, – спокойно ответил Мазурин и твердо посмотрел в глаза следователю.
Тот улыбнулся, закурил папиросу.
– Заговоришь… У нас заговоришь! И не таких ломали… Эй! Кто там? Уведите его!
5
После мучительного допроса, длившегося несколько дней, после пытки бессонницей, жаждой (кормили селедкой и не давали воды), после неоднократных угроз расстрела (два раза ночью его водили в мрачный подвал, ставили к стене) Мазурина отправили под конвоем на фронт – в тот полк, где он служил. «Хотят проследить фронтовые связи, узнать, с кем встречаюсь, захватить всю организацию…» – сообразил Мазурин.
Дорогою он упорно размышлял, как ему вести себя. «Надо во что бы то ни стало передать верным товарищам связи и инструкции», – решил он. И тут же подумал, что если его возьмут, то не миновать расстрела. Нет сомнения, что вслед за ним послана секретная бумага.
Но тем не менее он чувствовал себя бодро и, явившись в полк, увидел товарищей, их приветливые глаза, ощутил дружеские пожатия рук, вдохнул знакомый запах прокисших шинелей, кожи, махорки. А когда встретил своих старых друзей, теплая волна радости охватила его, обнимал их, целовал и взволнованно спрашивал:
– Целы? Живы? Ну, здравствуйте… Ишь, прямо медведи, такие мохнатые… И Комаров тут, и Защима… Дядя Голицын, я ж говорил, что тебя ни одна пуля не возьмет!.. Вот я и опять с вами!
Они плотно его окружили, закуривали из его кисета, не спускали с него глаз, рассматривали его долго и прилежно, как дорогую обнову, отыскивая в его облике, в каждом слове следы той мирной, далекой жизни, по которой они так истосковались, представляя ее в мечтах и разговорах много лучше, чем она была в действительности. И Мазурин, посматривая на них, с грустью отмечал, какие глубокие морщины прорезали их лица, какие угрюмые у них глаза.
Карцев уселся рядом с Мазуриным, весело сказал:
– А ты, Алеша, в большие начальники вышел – шутка ли, три нашивки, кресты и медали! Скоро, поди, полком будешь командовать?
Солдаты засмеялись.
– Нет, ему не с руки, – с обычной вялостью проговорил Защима. – У него душа наша, солдатская.
– А что с того, что солдатская? – спросил Мазурин. – Что плохого в том, ежели солдат научится командовать полком? Всякая наука нам нужна, и военная тоже… – Он приподнялся. – Постой, постой, кто это идет? Неужели Чухрукидзе? Вылечился?
Чухрукидзе возвращался из разведки. Высокий, тонкий, с черными усами, загорелым лицом и живыми, горячими глазами, он не был похож на того забитого солдата, каким Мазурин знал его раньше.
– Первый разведчик в полку! – с уважением отозвался о нем Рогожин. – Давеча австрийского офицера на спине приволок. Храбр как черт! Говорят, крест дадут.
Чухрукидзе, узнав Мазурина, широко улыбнулся, сверкнув белыми зубами:
– Друг, дорогой друг к нам вернулся!
Он как родного обнял Мазурина.
Голицын свернул из мазуринской махорки толстейшую завертку и наставительно заговорил:
– Вот оно – солдатское житье! Самое дорогое в нем то, что солдат своего товарища никогда не продаст. Под одной шинелью спим, одна вошь нас кусает, одной смертью умираем. В бою товарища всегда прикроешь, хотя драться нам, может быть, и незачем. Солдату на войне товарищ дороже отца-матери, он его от смерти убережет, последним куском с ним поделится. Верно я говорю, Мазурин?
И толстыми, как корневища, руками он так ударил Мазурина по плечам, что тот покачнулся и засмеялся.
– А и крепок же ты, дядя, – добродушно сказал Мазурин. – И говорил верно: солдатам надо всегда друг за друга держаться – в этом сила наша.
– А что там в России делается? – спросил Рогожин. Глаза его потемнели, он хрустнул пальцами и глубоко вздохнул.
– В тылу плохо, братцы. Все валится. И с каждым днем, видно, будет тяжелее. Бабы и те на фабриках бунтуют. На нас, на фронтовиков, надеются…
Все молчали потупясь, и только Чухрукидзе горько проговорил, точно сам у себя спрашивал:
– За что мы бьемся? Что навоевали?
– Крест деревянный да сапог драный! – сказал Защима. – Мало тебе?
Мазурин слушал солдатские разговоры и уже не думал о той опасности, которой подвергался он сам в случае, если будет обнаружена его подпольная работа. Им овладела одна мысль: надо быть вместе с товарищами, жить с ними одной жизнью, учить их, выводить на верный путь. Ведь придет, непременно придет тот час, когда народ поймет, куда ему надо идти, подымется на вершину высокой горы, лежащей перед ним, и увидит, какая черная ночь осталась позади.
«Ну что же, – подумал он, – если я и погибну, другие увидят новую жизнь, а я свое дело сделаю, не отступлю, не сдамся!»
В первые же дни Мазурин попросил Карцева устроить встречу с Балагиным и Прониным. Они встретились ночью в землянке у Карцева.
Балагин – уральский рабочий, металлист из-под Екатеринбурга. Он был хорошо знаком со Свердловым, работавшим в екатеринбургской большевистской организации, и от него перенял многие полезные навыки подпольной работы. Балагин всегда говорил и действовал не торопясь, обдуманно, отличался удивительной памятью. Пронин был полной ему противоположностью. Он служил старшим писарем в штабе полка и обладал настоящей писарской наружностью: белокурый, голубоглазый, с ухарским хохолком, с напомаженными усиками, чистенький, франтоватый. Таким он ухитрился остаться и на фронте, привез с собой гитару, перевитую красными и голубыми ленточками, играл романсы, и его считали пустым, никчемным человеком. Но под этой наружностью скрывался опытный, закаленный подпольщик, и Мазурин не раз говорил ему:
– Молодец ты, Пронин, умница: лучшей маскировки не придумаешь!
Начальство ценило Пронина за работоспособность, за красивый и четкий почерк. Получая всю корреспонденцию, приходившую в штаб полка, он часто оказывал своим товарищам большие услуги.
Они сидели в землянке, сосредоточенно обсуждая сложившуюся обстановку. Мазурин рассказал о своем последнем аресте.
– Вероятно, прислали обо мне секретную бумагу, – предположил он.
– Мне еще не попадалась, – ответил Пронин. – Но одно скажу тебе, Мазурин: на время притаись. Есть осведомители и среди солдат. Получена инструкция: каждого, кто будет замечен в пропаганде, – под военно-полевой суд. Что могу – я сделаю, но, может быть, бумага о тебе стороной пройдет. Знай только: возьмут – в двадцать четыре часа расстрел. Понял?
Мазурин курил. Карцев с тревогой посмотрел на него.
– Алексей, – глухо сказал он, – остерегись. Ты очень нужный нам человек.
Мазурин помолчал, притушил окурок.
– Связи и инструкции – это я все вам передам, – медленно проговорил он, – на рожон лезть не буду. А только чтоб совсем бросить мне работу – нельзя, не такое время. Беседовать с солдатами пока воздержусь, а встречаться с вами и решать, что надо делать, – буду!
И, улыбнувшись, добавил:
– Тут, может быть, от немецкой пули скорее погибнешь, чем от своей.
– Скоро наступление, – подтвердил Пронин. – Сильно готовятся.
И в самом деле, с каждым днем становилось яснее, что наступление близко. Разведчики по ночам пробирались во вражеское расположение, тщательно изучали его. Опытные артиллерийские и саперные офицеры следили в бинокли и подзорные трубы за неприятелем, отмечали каждое его движение. Все данные, добытые наблюдением и разведкой, наносились на карты, размножались и передавались в штабы дивизий и полков фронта.
Перед русской армией находились мощные позиции, которые германцы и австрийцы строили почти целый год: это был ряд укрепленных полос, находившихся одна от другой на расстоянии нескольких километров; каждая полоса, в свою очередь, состояла из рядов превосходно оборудованных окопов, с блиндажами, убежищами, волчьими ямами, гнездами для пулеметов; все укрепления были связаны многочисленными ходами сообщений; окопы и блиндажи защищались заграждениями из толстой колючей проволоки, с пропущенным через нее электрическим током, с подвешенными бомбами, фугасами и минами.
Украинская весна была в полном расцвете. Высокие тополи зеленели молодыми, нежными листьями, и трава на лугах всходила легко и весело, пестрея первыми цветами. И как ни заняты были солдаты предстоящим наступлением, как ни тревожили их думы о своей судьбе и о своих семьях, все же они не могли оставаться равнодушными к этому празднику обновления природы. В свободное время они грелись на солнце, пряча головы за брустверами (вражеские снайперы дежурили и снимали каждого, кто неосторожно высовывался), а те, кто были в ближнем резерве, мылись в самодельной бане, устроенной в землянке, стирали белье и развешивали его на чем придется. С ближнего болота доносилось протяжное курлыканье недавно прилетевших с юга журавлей, иногда их красивый косяк проносился над окопами, исчезая в синеве неба. Солдаты завистливо следили за журавлями и вздыхали.
– Одним словом – вольная птица, – наставительно говорил Голицын. – Живет без всякого беспокойства – правильно живет!
Защима, любивший его поддразнивать, отвечал безразличным голосом:
– Зачем без всякого беспокойства? Ты гляди, дядя, – они строем летят. Стало быть, есть у них свой журавлиный хфельдфебель, жучит он их, тычет в зад клювом, если что не так сделают, наряды не в очередь дает. А ты – «вольная птица». Эх, дядя!..
Банька, дружок ротного писаря, прибежал с новостью: полк, обучавшийся в ближайшем тылу, через два дня опять должен занять передовые позиции.