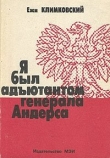Текст книги "Солдаты вышли из окопов…"
Автор книги: Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
Уречин молча разглядывал его. Он мало знал Валерия Николаевича, которого привез с собой новый дивизионный, но начальник штаба, с его припухшими, видимо от бессонницы, умными глазами, землистым утомленным лицом, понравился ему. Во время их разговора вошел офицер с бумагой. Валерий Николаевич, быстро пробежав ее, написал сверху короткую резолюцию и тут же, обратившись к Уречину, продолжил прерванный разговор:
– Мы, конечно, не бездействуем, выделяем специальные кадры унтер-офицеров и офицеров для обучения пополнений… Выделяем, хотя, признаться, их не хватает и в кадровых частях.
– Но как же быть? – глухо спросил Уречин. – Создавать при полках безоружные команды? Наделать мяса… Ведь и учебных винтовок нет. Видели вы этих солдат? Они даже рассыпного строя не знают.
Валерий Николаевич молчал.
Обед у начальника, дивизии поразил Уречина. Стол был сервирован не по-походному. Сверкающая белизной скатерть, хрусталь, серебро… Закусывали зернистой икрой, швейцарским сыром, балыком. К супу подали крошечные пирожки, таявшие во рту, шницель был золотистым от умело пожаренных сухарей.
– Лимончик, лимончик возьмите, – посоветовал генерал Уречину. – Какой же шницель без лимона? И обязательно картошечку. Как обжарена-то, а?.. Не прячусь – люблю хорошо поесть. Накормленные люди и работают лучше, согласны со мною?
Сам он ел так вкусно, такими округлыми, мягкими движениями действовал ножом и вилкой, так нежно приближал к своим сочным губам каждый кусочек пищи, что Уречин понял, в чем цель и отрада генеральской жизни. С трудом удержался он от едких слов и сейчас же после обеда уехал.
Занятия с пополнением велись с утра до вечера. Каждому из кадровых солдат дали маленькую группу для обучения. На долю Карцева пришлось шестеро: двое старых и четверо молодых. На занятиях он пользовался своей винтовкой, которая по очереди переходила из рук в руки. Боевых патронов оказалось так мало, что на каждого обучающегося отпустили по три выстрела. Но и эти патроны были зря расстреляны. В мишенях едва насчитали десять процентов выпущенных пуль. Первым стрелял у Карцева сорокалетний ополченец – коренастый, с ласковыми глазами. Он недоверчиво посмотрел на винтовку, осторожно вставил приклад в плечо, зажмурил глаза, дернул за спуск и охнул: приклад толкнул его в щеку.
– Негоден я для этого дела, – жаловался он, прося Карцева освободить его от дальнейшей стрельбы, – я вам всю войну испорчу.
Рядом с Карцевым занимался Банька, а дальше – на самой опушке дубовой рощи – Защима. Банька тоненьким голоском покрикивал на ополченцев, иногда даже увлекался, показывая, как надо, рассыпавшись в цепь, вести наступление под неприятельским огнем. Защима действовал иначе. Он увел своих людей подальше и, немного к ним присмотревшись, хладнокровно сказал:
– Слухайте, хлопцы: учиться вам чи не учиться, это мне все равно. Хочете – покажу, как надо немцев убивать, не хочете – и так время проведем.
И, не смущаясь удивленных взглядов ополченцев, он, покуривая махорку, рассказывал им про свою жизнь, про дисциплинарный батальон, про убитого своего врага зауряд-прапорщика Смирнова…
Уже наступила весна, земля под теплым солнцем исходила тонким паром. Кое-где в полях работали крестьяне: подростки, старики и женщины.
Вечером полк выступил на позиции. В рядах шли безоружные солдаты пополнения. Смотря на них, Карцев горько усмехнулся:
– Солдатская голова – что тебе трава под косою!..
10
Два месяца пробыл Бредов в госпитале. У него была прострелена грудь. Солдаты вынесли его из боя, и несколько часов он без сознания лежал на тряской патронной двуколке. Врачи считали его обреченным. Рана долго не заживала, ночами он метался по койке, его одолевали кошмары. То ему казалось, что он лежит на дороге, над ним темное ночное небо, усыпанное белыми лепестками звезд, и вдруг появляется неприятельская армия, лошади топчут его копытами… То он видел Грюнфлисский лес – живой, ползучий, в котором деревья двигались, ветви их извивались, как длинные толстые змеи с мохнатыми головами, хватали русских, душили и бросали на землю смятые, раздавленные тела. Не было спасения в борьбе с дьявольским лесом, и, лежа на земле, распластанный, с переломанными костями, Бредов беззвучно плакал.
Иногда он как бы просыпался, приходил в себя, но эти часы были еще тяжелее. Воспоминания о последних боях невыносимо его мучили, хотелось умереть, чтобы ничего не помнить, ничего не сознавать. Так переживают люди стихийное бедствие, во время которого на их глазах разрушается родной дом и гибнут самые близкие и любимые.
Он выздоравливал долго и трудно. Когда выписали из госпиталя в отпуск, жена увезла его домой. И он опять очутился в том же городке, откуда пошел на войну. Охваченный апатией и слабостью, Бредов целыми днями лежал на диване, безучастно глядя в одну точку. Зоя садилась возле него, долго говорила с ним, плакала, а у него едва хватало силы заметить, что возле него жена – родная, красивая женщина.
Наконец ему позволили встать. Он почувствовал беспокойство. С удивлением ощутил свое тело, движения рук и ног. Сам не сознавая этого, он так сильно ушел от жизни, от обычных будничных ее проявлений, что должен был входить в открывшуюся перед ним жизнь, как в новое, незнакомое место. Опираясь на палку, бродил он сначала по комнатам, а затем – по улицам. Проходя мимо монастыря, вспоминал, как шел здесь в тот день, когда узнал, что ему закрыт доступ в академию генерального штаба. Ему показалось, что все это было бесконечно давно, а прошло всего около года! «Это все случилось с другим, не со мной», – думал он. Когда разглядывал бледные костлявые руки, когда видел в зеркале длинное, с вдавленными щеками, покрытое белой кожей лицо, с мертвыми, выцветшими глазами, тоже думал: «Это не я, это чужой, незнакомый человек…»
Однажды на прогулке он увидел солдата, который шел ему навстречу, и припомнил, что где-то встречал его. Они поравнялись, и солдат, отдавая честь, дружелюбно посмотрел на Бредова.
– Постой, постой, – остановил его Бредов. – Ведь мы с тобой, кажется, вместе были на фронте.
– Так точно, ваше благородие! Вместе с вашей ротой пробивался, когда капитан Васильев выводил нас из Грюнфлисского леса. В то время вас и ранили.
– Да, да… – Бредов почувствовал, как снова заныла рана. – Так ты был при этом?
– Был. При мне ваше благородие и подобрали. Еще Карцев и Голицын перевязали вас и положили на патронную двуколку.
– Ты знаком с Карцевым? Хороший солдат. Смышленый. Не знаешь, что с ним?
– На фронте. Жив ли только – не знаю. Он о вас, помню, очень даже хорошо отзывался.
Бредов с удивлением посмотрел на солдата. Тот держался почтительно, но непринужденно, взгляд у него был умный и живой, и улыбка, ласковая, но чуть-чуть ироническая, говорила о том, что он отвечает офицеру как полагается, по уставу, но готов и поговорить с ним запросто, если тот, конечно, захочет.
Они находились в дальнем углу городского сада, где никого не было. Сад кончался обрывом, и на самом краю обрыва косо, точно падая, стояла старая мохнатая ель, ствол и ветви которой поросли голубым мхом.
– Я все это вспоминаю, – говорил Бредов. – Верно, верно… Васильев вывел тогда полк из окружения… И ты был с ним? Помнишь эти дни? Да разве забудешь их… Нет. Это – на всю жизнь!..
– Так точно, – вполголоса произнес солдат.
Они долго разговаривали возле обрыва. Стесняясь и хмурясь от неловкости, Бредов предложил солдату заходить к нему на квартиру.
– Кстати, – улыбаясь сказал он, – столько с тобой говорили, а фамилии твоей не знаю.
– Мазурин. Спасибо за приглашение.
С тех пор Бредов ожил. Апатия прошла. Впервые он стал думать, что нельзя ограничиться жалобами и брюзжанием на то, что Россия плохо подготовилась к войне. Надо действовать (как – он еще не представлял себе), надо помочь стране справиться с врагом. По утрам он читал газеты, но победные статьи «Русского слова» только раздражали его, а сухие сводки штаба верховного главнокомандующего были насквозь лживы. Он отыскал старые номера газеты в непреодолимом желании увидеть, как описана там катастрофа второй армии в Мазурских озерах. Глухо и невнятно в нескольких строках петита сообщалось о временном отходе наших войск перед превосходными силами противника по заранее выработанному плану. Он скомкал газету. Неужели Россия никогда не узнает, как страшно ее обманывают? Где же выход?
Только галицийская битва немного утешила его. С гордостью думал он, что русские боевые знамена веют на вражеской земле, что освобождена от немецкого ига старинная русская область – Червоная Русь, что взят Львов.
Его пригласили вместе с женой в гости к присяжному поверенному Званцеву, известному деятелю Земского союза. И он пошел туда с радостью, желая узнать, как относится русское передовое общество к войне. В богатой квартире Званцева собралось около сорока человек. Хозяин недавно вернулся из Галиции, куда ездил по поручению Земского союза, был во Львове, и гости ждали, что он расскажет много интересного.
В большой гостиной образовалось несколько кружков. Здесь были, так сказать, сливки местного общества – адвокаты, инженеры, крупные чиновники, командир запасного батальона полковник Десятов, городской архитектор, директор гимназии и многие другие. Бредов держался в стороне, прислушиваясь к разговорам, и понемногу придвигался к тому кружку, в центре которого стоял Званцев – красивый мужчина средних лет, с усиками. Говорил он сжато и, видимо, приберегая главнейшее к ужину. Но вот в дверях показался лакей, и Званцев, извинившись, быстро вышел из гостиной. Вскоре он вернулся в сопровождении худощавого, с желтым, нездоровым лицом человека в визитке. Званцев сиял, ведя своего гостя под руку так бережно, как будто тот упал бы и разбился на кусочки, если бы его отпустили. Все, повернувшись к дверям, почтительно склонили головы, и новый гость, как высочайшая особа, проследовал в конец гостиной, где у круглого майоликового столика ему приготовили место. Бредов смотрел на все это с удивлением, и когда к нему подошла жена, он отметил на ее лице то же выражение почтительности, какое было у всех гостей.
– Кто это?
– Как, ты не знаешь?! Бардыгин, миллионер, фабрикант! Он весь фронт снабжает обмундированием.
В столовой, отделанной дубом, Бардыгин сидел во главе стола рядом с хозяйкой дома. Возле Бредова посадили молодого узкоплечего человека, румяного, с синими глазами. Он стал спрашивать Бредова, давно ли тот вернулся с фронта, и сообщил, что сам только три дня как прибыл из Галиции, куда ездил вместе с Званцевым.
Званцев поднялся из-за стола.
– Милостивые государыни и милостивые государи! – начал он. – Разрешите прежде всего поблагодарить всех вас за высокую честь, оказанную моему дому. В тяжкую годину испытаний единение верных сынов родины перед лицом грозного и коварного врага – это самое прекрасное, самое возвышенное явление. Русское общество, русский народ едины в часы опасности. Забыты раздоры, затихла борьба партий, нет у нас сейчас ни правых, ни октябристов, ни кадетов, ни рабочих, ни фабрикантов (почти неуловимый поклон в сторону Бардыгина), есть только русские люди, русские патриоты. И если солдат проливает кровь на фронте, то здесь, в тылу, мы напрягаем все наши силы для того, чтобы снабдить его всем необходимым, чтобы дать ему возможность почувствовать нашу любовь к нему, наше преклонение перед его великим подвигом. Я имел счастье, господа, побывать на фронте и быть некоторым образом свидетелем геройства нашей славной армии.
Он говорил еще о епископе Евлогии, который принес на обагренные кровью поля Галиции пастырское благословение православной церкви, и каждый раз в наиболее удачных местах его речи слушатели аплодировали ему. Бредов слушал со смешанным чувством досады и удивления. Кто-то задел его локтем, и, обернувшись, он заметил, что сосед беспокойно ерзает на стуле.
– Зачем Званцев рассказывает это? – прошептал он. – Ей-богу же ничего похожего, ничего… Там этот граф Бобринский таких дел наделал… Насильственную русификацию проводит, полицию из России навезли, жандармов. Управление, доложу вам, такое… Он замолчал, с испугом смотря на Бредова. «Черт тебя знает, – прочел Бредов в его взгляде, – кто ты такой…»
Бардыгин, приподнявшись, жал Званцеву руку, и все восхищенно аплодировали речи адвоката. Зазвенели ножи и вилки. Бардыгин провозгласил тост за победу, все встали, крикнули «ура» и выпили. Закусывали долго, ели икру, тыкали вилками в жирную розоватую семгу, вылавливали серебристые сардины из коробок, ели нежную вестфальскую ветчину, сыры, омаров. Директор гимназии, осовев после первых рюмок водки, рассказывал о героизме своих гимназистов, из которых трое ушли добровольцами на фронт. Ему очень хотелось, чтобы его слова услышал Бардыгин, но фабрикант, осажденный Званцевым и полковником Десятовым, непрестанно чокался с ними. К нему со всех сторон тянулись рюмки и бокалы, и он с королевским величием подымал свой бокал и, не притрагиваясь к нему, ставил его обратно. Подали жаркое, и лакеи стали разливать шампанское.
Бредов пил мало и в глухом раздражении слушал разговоры. Ни одной свежей и честной мысли не мог отыскать он в этих речах, они казались ему пошлыми и избитыми, повторяющими патриотические статейки газетных борзописцев. Его сосед пытался подробнее рассказать о безобразиях, виденных им на фронте и в Галиции, но потом так напился, что только икал и плакал.
Городской архитектор приподнялся, качнувшись, со стула и, широко разводя руками, взывал:
– Господа! Понимаете ли вы… все значение настоящего момента? Мы с вами… да, мы!… русское общество, культура российская, совесть страны и прочее, прочее… Подлейте мне вот этого… мадеры… Мы – интеллигенция. И мы сейчас ведем Россию к победе, к новой жизни, которая…
Но полковник Десятов оборвал его: что значит к новой жизни? И архитектор начал испуганно спрашивать всех, не сказал ли он чего-нибудь недозволенного.
– Я лоялен, господа, – убеждал он, прижимая руки к животу. – Я совершенно лоялен!.. Господа!.. Давайте споем гимн. Умоляю вас – гимн!..
Бредов отыскал жену, оживленно беседовавшую с дамами, и они первыми уехали домой.
– Какая пошлятина! – с отвращением сказал он, усаживаясь в пролетку.
11
Мазурин был в трудном положении: из госпиталя его выписали, отпуск кончался, он должен явиться в запасный батальон, а ему не хотелось этого пока делать. Он не боялся вернуться на фронт, там – товарищи, его даже тянуло к ним, да и пользы на фронте он мог принести больше, чем в тылу, но вряд ли ему представится более удобный случай, чем теперь, побывать в Петрограде, повидать нужных людей, узнать о настроении рабочих. И он решил, что стоит рискнуть и без разрешения начальства поехать в Петроград.
В день его отъезда вернулась из Рязани Тоня, получавшая там материалы для пошивки белья. Она сильно изменилась. Прежняя щеголеватая горничная стала скромной работницей, в простеньком платье. С тех пор как ушла от Максимова, она так и осталась жить с Катей и по заказам подрядчиков шила белье для армии.
– Редко Карцев пишет, – пожаловалась она. – Забыл нас…
Мазурин рассказал, как проходила их жизнь на войне.
– Понимаю, – соглашалась Тоня. – А все-таки мог бы чаще писать!
Уехал Мазурин в десять часов вечера. Он забрался на третью полку, подальше от чужих глаз. Вагон был переполнен. Когда миновали Москву, вошло несколько мужиков и баб с детьми. Они завалили узлами и мешками весь проход, лица у них были покорные, взгляд пустой, мертвый.
– Беженцы? – спросил кто-то с нижней полки.
– Беженцы, беженцы, – закивала в ответ худая, с глубоко ввалившимися щеками старуха.
Война прошла по их деревням, все разрушила. Пострадавших выселили по приказу военного командования. Обещали помочь, дать наделы, снабжать пайками, но потом бросили на произвол судьбы. Они потеряли все имущество и теперь едут на север.
Рядом с Мазуриным, по другую сторону низенькой перегородки, лежал человек в солдатской шинели без погон и в фуражке без кокарды. Чуть приподнявшись, он зорко, с нескрываемой подозрительностью, уставился на Мазурина, попросил закурить и спросил:
– Кончил воевать, что ли?
– В отпуску, после ранения.
– Так… Все в отпуску… – неопределенно пробормотал солдат. – Вот только Ковригин себя на действительной службе считает.
– Какой Ковригин?
– Узнаешь. Сейчас я его тебе представлю. Вышел куда-то…
Человек в шинели вздрогнул, весь сжался, соскочил вниз и пропал. Наметанный его слух уловил то, чего не слышал Мазурин: у двери контролер спрашивал билеты, ругал беженцев и грозил высадить их на первой же остановке. Голос контролера приближался, охрипший, простуженный голос человека, который плохо высыпается и вечно страдает от сквозняков.
– Вылезай, – сердито кричал он. – Тащи его за ногу.
Послышался плаксивый голос мазуринского соседа, и сразу несколько человек закричали на контролера.
– Что же он прятался? – оправдывался контролер. – Я же не знал, что с фронта, на лбу у него не написано. А с нас спрашивают. Служба…
Крики усилились, и контролер поспешно удалился. Сосед Мазурина деловито карабкался на прежнее место.
– Спас меня мир, – сказал он. – Не любит народ шкур всяких – фельдфебелей, контролеров…
Он улегся, задрав ноги на железную скобу, привинченную к полке, и, докуривая папироску, философствовал:
– Ловят, ловят, – а всех не поймают. Мы – как ветер… Таких, как я, – мильон!
– Все грешишь, Сомов, – послышался низкий, сдобный басок. – Сказано тебе было, что не нашего здесь разума дело… Корову покупать, землю пахать, это мы – пожалуйста. А война – государственная история. Ну, а что ты в истории смыслишь?
Голова говорившего была похожа на тыкву – широкая и расплющенная сверху, она только и была видна, тело пряталось где-то под полкой. Пухлое, как всходящее тесто, лицо украшалось необычайными усами, толстые жгуты которых подымались почти до скул, глаза были маленькие, заплывшие.
– Вот он, Ковригин, – обрадовался солдат. – Вот он, анпираторский защитник. Теперь его не остановишь, – только слушай.
– И слушай, – наставительно подтвердил Ковригин. – Я хотя и простого сословия, но умишко кой-какой есть. Я, скажем, повар, а в деревне у меня жена, мать и сын о пятнадцати годочках. Живут они в русском государстве, а на открытую государственную границу нападает иноземный враг. Пошли бы мы сами по себе, ты с вилами, я с ножом, так всех бы нас побил да разорил иноземный враг. Ан тут нам на помощь государство приходит. Оно войско собирает, вооружает его, начальников ему дает, великих князей на фронт посылает, – защищайся, мол, ты, русский народ, от врага, спасай свою землю-матушку родную. Так неужели ж я свое государство предать могу?
Его глазки сладко, как лампадки, мерцали на пухлом лице, короткая рука плавно подымалась, точно он дирижировал.
– И гладко как все у него, черта, выходит, точно острой косой скошено, – восхищенно проговорил Сомов, к которому обращался «анпираторский защитник». – Жалко, что дураку господь такой дар послал… Ну, скажи, златоуст, что мне твой иноземный враг сделал? Звал я его? Не звал. Вредил я ему? Не вредил. Тут государства воюют, а не мы. Так пусть их себе и воюют. Народ – это, брат, не государство, это – совсем наоборот. Вот что оно получается. Какой же мне, выходит, расчет воевать?
– Дурень ты! – поварской басок дрогнул от волнения. – Заблуждаешься яко овца, горько заблуждаешься! Муки примешь из-за такого понимания!
– Да я уже намучился, – равнодушно ответил Сомов. – Папироску не дашь?
Пухлое лицо исчезло, как «петрушка», которого дернули за веревочку.
– Скупой, черт, – усмехнулся Сомов. – Я уж его знаю. Как он мне надоест, я скорее папироску просить… Покорнейше благодарю. – Он взял предложенную Мазуриным папиросу и заговорил, точно размышляя: – А ведь он убежденный, Ковригин-то. В Петроград, в свою часть едет. Да!
И, повернувшись на бок, уснул в одно мгновение.
Поезд прибыл в Петроград в шесть часов утра. Было еще темно, фонари горели возле вокзала и на улицах. Поеживаясь от холода, Мазурин вышел на пустынную Знаменскую площадь. Недалеко от каменных ступенек вокзала застыла фигура конного городового. Всадник был в черной шинели. Длинная сабля висела у него на боку, плоская барашковая шапка покрывала массивную голову. Правая рука упиралась в бок, левая держала слабо натянутый повод. Крупный караковый конь стоял в дремоте, склонив голову. Ноги у коня были толстые и мохнатые, круп добротен, необычно широк. Недалеко от городового, возвышаясь над ним, в железном тумане раннего петербургского утра торчал другой всадник, до жути похожий на первого. Казалось, он был оригиналом, с которого отлили копию, находившуюся возле вокзала. Тяжело стоял его бронзовый конь, в тупой кичливости всадник упер руку в бок, плоская шапка не прятала ни оплывшего бородатого лица, ни бычьей шеи императора. Вместе с городовым он охранял налаженный порядок столицы, грозил ее предместьям, давил своей тяжестью площадь и город. Страшная незыблемость была в нем. Прочно врос он в почву города и всей империи – казалось, не сдвинешь его в века, не поколеблешь. Мазурин в своей подбитой ветром шинелишке, стуча о камни сапогами, медленно прошел мимо обоих всадников, улыбнулся их сходству и сел в трамвай, который отвез его на Выборгскую сторону.
Холодный ветер дул с моря, центр города еще не просыпался, а на окраинах выли гудки, и темные, согнувшиеся люди бежали по улицам, наполняли трамваи. Мазурин попал в переулок, плохо освещенный двумя газовыми фонарями, с разбитой мостовой, с низкими бесформенными домами, точно выброшенными сюда как на свалку. Вот и нужный ему дом. Он прошел во двор, заваленный отбросами, постучался в дверь. Открыла молодая женщина.
– Дома Иван Петрович? – спросил Мазурин.
– Да вы входите, – ласково пригласила женщина. – Ваня у соседа, – объяснила она, когда гость вошел в комнату. – Сейчас вернется, а я вас пока чайком напою. Шинель свою вот сюда повесьте и садитесь к столу.
Женщина была чуть полноватая, с вьющимися каштановыми волосами, чистенькая, в коричневом платье. И комната выглядела чистой, опрятной: круглый стол был застлан суровой скатертью с голубой вышивкой, кровать покрыта кружевной накидкой, вымытый пол блестел, как надраенная палуба военного корабля.
– Хороший вы работник, – сказал Мазурин, – подвезло Ивану Петровичу.
Она засмеялась:
– А он вечно недоволен.
– Неправда! – перебил ее мужской голос. – Поклеп возводишь.
Мазурин обернулся. В дверях стоял человек лет сорока и внимательно глядел на него.
– Мазурин? – нерешительно спросил Иван Петрович, подходя с протянутой рукой. – Неужели ты? Ну и здорово изменился! На фронте был, сразу видать. Говори-рассказывай, каким ветром тебя к нам в Петроград занесло?
– Приехал, чтоб все ваши тыловые новости на фронт повезти. Боялся, что тебя не застану. Думал, на работе уже.
– Не работаем мы нынче, бастуем.
И, оглянувшись на дверь, тихо проговорил:
– Суд над нашей думской фракцией сегодня начинается. Хотим к зданию окружного суда идти.
Они забрасывали друг друга вопросами, едва успевая отвечать на них. Жареная картошка стыла на столе, хозяйка сердилась, что они не едят, а они, потыкав в картошку вилками, опять забывали про нее и все говорили и говорили.
– За последние дни выпустили несколько прокламаций, – рассказывал Иван Петрович. – Вчера последняя вышла. Сашенька, покажи! – обратился он к жене.
Она скрылась на секунду и принесла листовку – узкую сероватую бумажку.
– Вот слушай, прочту, – сказал Иван Петрович. – Да погоди, не рви из рук.
Мазурин, заглядывая в листовку, слушал и сам читал:
– «В лице депутатов будут судить вас, пославших их и неоднократно заявлявших о своей полной солидарности с деятельностью фракции… Под гром орудий и лязг сабель думает оно (правительство) заживо похоронить еще одну думскую фракцию рабочего класса. Товарищи рабочие! Докажем, что враги наши ошиблись в расчетах, докажем, что в грозный час, когда призрак смерти висит над головами депутатов, мы с ними. Пусть перед судом предстанут не пять депутатов, а весь рабочий класс, громко заявляющий о своей солидарности с подсудимыми и готовности бороться за своих представителей и за идеалы, начертанные на нашем красном знамени. Товарищи рабочие! Бастуйте в день десятого февраля, устраивайте митинги, демонстрации, протестуйте против наглого издевательства царского правительства над рабочим классом».
– Главное, – сказал Мазурин, – что горит наш огонечек, не тухнет.
– Слабенько горит, – проворчал Иван Петрович. – Ты к подъему как раз приехал, а раньше совсем тихо было. Чуть, знаешь, кто зашумит, сейчас же его к расчету и прямым путем в маршевую роту.
Он, улыбнувшись, оглядел Мазурина.
– В шинели не ходи. За военных полиция прежде всего цепляется. Как у тебя с паспортом?
– Нибудь как, – рассмеялся Мазурин. – Так мальчонок один говорил.
– Понятно… Ну что ж, ночевать можешь здесь. У меня пока обысков не было. А сейчас – пойдем, что ли?
Он снял с гвоздя бобриковую куртку и шапку-ушанку и отдал Мазурину:
– Надевай.
Сам натянул осеннее пальто, замотал шею шарфом и обнял Сашеньку.
Они вышли. Серые тучи низко висели над городом. Падала осклизшая изморось – казалось, что воздух разваливается клочьями, оседает на камни мостовой и тротуаров. Гудки замолкли, меньше рабочих встречалось на улицах – заводы поглотили утреннюю смену, а ночная успела разойтись по домам. Иван Петрович зябко поводил плечами.
– Мало народа будет, – хмуро произнес он. – Девятого января – самый наш боевой день в Петрограде – и то никаких демонстраций не удалось провести. Две с половиной тысячи людей не работали – и все. А в прошлом году больше ста тысяч бастовали в этот день. Вот как нас война поломала!..
Трамваем они проехали в центр города. Империя дала уже первые трещины. Замерла морская торговля, порт был пустынен и тих, но с юга, севера и востока еще подходили ежедневно поезда с зерном, крупой, мясом, мороженой дичью, сибирским и вологодским маслом. Привозили с Волги мерную стерлядь и в бочонках – зернистую и паюсную икру. Рестораны были переполнены, жизнь столицы текла бурной, широкой рекой.
Улицы жили обычной жизнью: проезжали автомобили, извозчики, подводы, груженные товарами. Непрерывным потоком шли пешеходы. Возле окружного суда стояла цепь пеших городовых, а конные разъезжали вокруг, никого не подпуская близко к зданию. Впрочем, большинство так называемой чистой публики проходило, оглядываясь лишь из простого любопытства, – судьба думской фракции большевиков волновала только рабочих столицы. Либеральная печать замалчивала процесс, а кадетская фракция запретила своим членам – адвокатам выступать по делу рабочих депутатов.
Из-за угла появилась маленькая группа студентов. Впереди шел худой юноша, все время поправляя рукой пенсне. К группе поскакал конный городовой и, наезжая на студентов, закричал, помахивая нагайкой:
– Мимо, мимо прошу! Останавливаться нельзя.
– А кто останавливается? – сердито спросил худой юноша. – Видите, люди прямо идут.
– То люди, а вы студенты, – голос городового звучал с укоризненной вразумительностью. – Не задерживайтесь, господа, не задерживайтесь!
Пока гнали студентов, с другой стороны улицы вышла толпа рабочих. Один из них проворно выхватил из-за пазухи красный флаг на коротком древке и замахал им.
– Долой вешателей! Свободу рабочим депутатам! – кричал он густым, бархатистым, как у певца, голосом.
К нему бросились полицейские и какие-то люди, незаметно скопившиеся на углах. Они оттискивали городовых от человека с красным флагом. Произошла короткая схватка, в центре неожиданно оказался студент в пенсне, только что прогнанный от здания суда. Иван Петрович и Мазурин побежали к толпе. Рабочие пытались освободить своего товарища, задержанного полицейскими. Иван Петрович рывком прорвался в середину и отбросил двух городовых.
– Ходу! Ходу! – торопил он, таща за собой рабочего.
Демонстранты разбежались кто куда. Студент оказался в плену. Несколько городовых били его. Мазурин вслед за Иваном Петровичем бросился в переулок. Втроем они забежали в ворота.
– За мной, за мной! – прерывисто шептал их третий товарищ. – Я знаю куда.
Двор оказался проходным, и они вышли в другой переулок. Мазурин разглядывал нового спутника. По его лицу текла кровь, в рыжеватых впалых глазах светились злость, исступление. Одет он был в телогрейку и стоптанные сапоги.
– Так бы и вцепился им зубами в горло! – бормотал он, тяжело дыша. – Много они, сволочи, меня били, поквитаться хоть разок.
– Откуда ты? – спросил Иван Петрович.
– С Лесснера… Не вышло, эх, не вышло сегодня. Ведь нас двести пошло, да дорогой все разгоняли да разгоняли.
– Зайдем во двор, – предложил Мазурин, – кровь на лице смыть надо.
– Ладно, – махнул тот рукою, – вы идите себе, товарищи, я сам справлюсь. Спасибо.
Он скрылся в воротах невзрачного дома, а Мазурин и Иван Петрович пошли дальше, сели в трамвай. Повизгивая, вагон катился к окраине. На Выборгской стороне было неспокойно. На улице стояли наряды полиции. Возле заводов дежурили конные отряды. Околоточные подозрительно осматривали каждого рабочего.
Они пытались пройти на завод Лесснера, но городовой грубо оттолкнул их от ворот:
– Ну-ка, проваливайте отсюда!
На заборе повисла изорванная прокламация. На уцелевших клочьях можно было прочесть:
«…правительство палач, замучившее на кат… сосущее кровь народную, бросило… гнусную расправу над избранниками рабочих… разгромило… во время войны с еще большей свирепостью душит рабочий класс…»
Подбежал городовой с ведром черной краски и стал замазывать клочья прокламации, испуганно и сердито косясь на столпившихся здесь рабочих. Цокот копыт донесся из-за угла. Отряд донцов в лихо заломленных фуражках проехал мимо.
– Боятся нас больше, чем немцев, – громко сказал Иван Петрович. – Лучшие войска против рабочего класса оставляют.
Пошел крупный весенний дождь.
12
Васильева вызвали в штаб полка. Его встретил Денисов, как всегда аккуратный, чисто выбритый. Только глаза его припухли, и под ними легли синие тени. Он крепко пожал Васильеву руку и молча положил перед ним карту Юго-Западного фронта. Красным карандашом обвел крошечную точку на карте:
– Здесь вот, у Горлицы, немцы прорвали наш фронт. Вся дивизия перебрасывается туда.
Оба наклонились над картой. Васильев яснее Денисова понимал положение русской армии. Карпатская операция поглотила лучшие силы армии, растрепала и без того скудные запасы боевого снаряжения, была порочной по замыслу. Углубляться в горы для того, чтобы подставить свой правый фланг и тыл противнику, нависавшему с севера от Кракова?! «Как могло пойти командование фронта на такой риск, как могла ставка разрешить такую операцию?» Уже немало дней Васильев мучительно думал над этим вопросом и успокаивался на одном: вероятно, он многого недоучел. Но не может быть, чтобы там, наверху, не видели того, что было ясно ему.