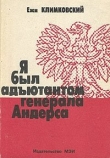Текст книги "Солдаты вышли из окопов…"
Автор книги: Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
Вошел Уречин. Офицеры встали. Командир поздоровался с ними и сел перед картой.
– В штабе настроены пессимистически, – сказал он, вытягивая под столом длинные ноги. – Говорят, немцы три месяца готовились. Вся армия знала, что к ним подвозятся войска, артиллерия, снаряды, что производится перегруппировка. И пальцем не пошевелили! Перли в эти проклятые Карпаты, гнали туда босых, раздетых солдат, без горной артиллерии, без подготовки к зимней горной войне. Вы только поглядите на карту!
Он поднял покрасневшее лицо и от всей души, смачно выругался.
– Ну хорошо: мы прорвемся в Венгерскую равнину. Допустим, уже прорвались, – свистящим голосом продолжал он. – Что же получается? Армия, вышедшая туда, изолируется от остальных наших сил, все ее коммуникации должны проходить через Карпаты, а прорвать эти коммуникации противнику, держащему под угрозой наш правый фланг, пара пустяков! Значит, при малейшем успехе немцев на фронте Тухов – Горлица – Зборы мы должны оттягиваться назад из Карпат, чтобы избежать окружения. Стратегия генералов Иванова и Алексеева приносит свои плоды!
Он замолчал, побарабанил пальцами по столу и обратился к Денисову:
– Андрей Иванович, сделайте на завтра необходимые распоряжения.
– Слушаю, Василий Германович, я думаю безоружных солдат отправить третьим эшелоном. У нас их больше, чем вооруженных.
– Не возражаю.
В дверь постучали. Вошел молодой прапорщик в запачканной машинным маслом кожаной куртке и, отдав честь, конфузливо спрятал грязные руки.
– Не стыдитесь такой грязи, прапорщик, – весело сказал Уречин. – Святая грязь!.. Ну, как у вас там с патронами?
– Сто восемьдесят тысяч удалось вырвать, господин полковник!
Уречин вскочил, повеселел.
– Молодец! Где же вы их достали?
– В соседней части. Повезло, господин полковник.
И добавил, поглядывая на довольное лицо командира:
– Приходится добывать всякими средствами. Ведь на прошлой неделе было по двадцать пять патронов на винтовку.
– Так, так! Хоть воруйте, но чтобы патроны были.
Кивнув офицерам, Уречин вышел из комнаты.
…До ближайшей железнодорожной станции было верст шесть. По грязной весенней дороге шли колонны полка. Неся винтовки на ремнях, сутулясь, привычным размашистым шагом двигались старые солдаты. Между ними, шаркая и стуча толстыми, покоробившимися бутсами, с походными мешками за плечами, с пустыми патронными сумками на поясах, нестройно шли ратники ополчения. Голицын, уже освоившийся с фронтом и крепко подружившийся с Карцевым, свободно и легко ставил толстые ноги, коренастое его тело раскачивалось.
– О двадцати годах я был, – рассказывал он, – и сманили меня тогда странники на богомолье в Киев. Старались мы поспеть к троице и ходко же шли. Старики эти – богомольцы, а чтобы праздник не прозевать, шагали, как молодые. Вот я и думаю, что хорошо бы этих богомольцев к походам приспособить. Маршировка для них – привычное дело, народ они бесполезный, дать бы им попов и монахов за начальников – пускай воюют!
Ефрейтор Банька с любопытством посмотрел на Голицына.
– Вот гляжу я на тебя, – медленно сказал он, – складно ты говоришь. От богомолья это, значит, и привилось. Натаскался ты с божьими людьми.
– Молиться хорошо в праздники, – вмешался Черницкий. – Когда хорошо покушаешь и выпьешь стаканчик-другой водки, тогда молитва сама просится из человека. Как ты думаешь, Рогожин? Ты же мастер по молитвам.
Солдаты засмеялись. Рогожин часто молился по вечерам, над маленьким образком, который он носил на груди, и по праздникам пел в хоре отца Василия. Бог был его последним прибежищем, и с крестьянским упорством Рогожин вымаливал легкую рану, которая спасла бы его от гибели на фронте.
Вдали показалась водокачка и рядом с ней желтое каменное здание. У станции полк встретил капитан Блинников и доложил командиру, что состава нет и начальник станции ничего не знает о предстоящей перевозке. Три часа ушло на переговоры по телефону со штабом дивизии. Выяснилось, что кто-то напутал. Состав подали на другую станцию, в пятнадцати верстах отсюда. Пока звонили туда и перегоняли состав, прошло еще часа два, и только к вечеру старенький, низкий паровоз притащил вагоны. Солдаты полезли в теплушки, и сейчас же оттуда послышались ругательства. Вагоны были завалены навозом, в них перевозили скот и, не очистив, подали под эшелон. Рогожин, измаравшийся в навозе, выскочил из вагона и крикнул:
– Глядите, братцы, в чем везут… Все равно, мол, издыхать всем, так дохните в дерьме!
Дежурный по посадке поручик Журавлев подскочил к нему.
– Ты чего это болтаешь? – заорал он. – Сейчас же марш в вагон!
– Не полезу, ваше благородие, – решительно ответил Рогожин. – Поглядели бы сами, что там делается. Или мы, боже ж ты мой, не люди?
– Я тебе покажу «люди», – ощерясь, просипел поручик. – Пороть буду. Марш по вагонам!
Несколько человек двинулись к теплушкам, но большинство не тронулись с места. Солдаты стояли с напряженными лицами, их гневные глаза не отрывались от офицера, и тот вдруг обмяк и почти бегом скрылся.
Уречин угрюмо выслушал Журавлева и приказал немедленно вычистить вагоны. Раздобыли метлы и лопаты, и через полчаса весь состав был очищен. Из-за палисадника послышались веселые крики: солдаты бежали к вагонам, таща охапки сена.
– Где, где взяли?
– Там, в сарае!
К сараю бросился весь полк. Васильев стоял, похлопывая стеком по своим грязным сапогам. К нему подлетел интендантский чиновник с красным от ярости лицом и закричал что-то, брызгая слюной.
– Дадим, дадим квитанцию, – успокоил его Васильев. – Видите, что сено нам нужно.
– Я буду жаловаться! – вопил чиновник. – Самоуправство, грабеж!.. Вы ответите, подполковник!
Васильев резко шагнул к нему и с повеселевшим лицом смотрел, как бежал от него интендант.
Было уже темно, когда эшелон тронулся. Карцев, Рогожин, Черницкий, Голицын и Защима удобно устроились в уголке вагона на сене. Поезд неторопливо двигался вперед. Старые вагоны тряслись и дребезжали. Запах махорки густо заполнял теплушку. От пола крепко несло навозом. Но вот буфера жалобно лязгнули, поезд сильно толкнулся и остановился. Карцев слегка отодвинул дверь: черная ночь, ни одного огонька…
Петров осторожно сошел по ступенькам офицерского вагона и ощупью направился вдоль поезда. Впереди отсвечивало пламя из поддувала паровоза. Дверь одной теплушки была немного отодвинута, оттуда доносились голоса. Он остановился.
– Учил он их, учил, – кто-то оживленно рассказывал, – никакой, значит, пощады никому. Чуть что – по морде, под винтовку, отпуска в город лишает. Потом ввел розги. Секли одного городского. У него изо рта пена – не может такого унижения вынести. Ну вот… Подошло нам время на позиции ехать. Тут все господа офицеры отказались с нами отправляться, перевелись в другие маршевые роты, а он: «Поеду!» Слышал я, как фельдфебель его отговаривал: «Не езжайте, ваше благородие, солдаты за битье на вас злопамятны». А он со смехом отвечает: «Это мне да хамов бояться? Они мне, говорит, за науку должны быть благодарны».
Рассказчик замолчал, кто-то с нетерпением спросил:
– Ну и что же?
– То же, – выразительно, после короткой паузы, ответил рассказчик. – Поймали его, субчика, в некотором месте, ну и, значит, поблагодарили за науку, за все мучительство…
В этих словах звучало столько удовлетворения, столько глубокого сознания справедливости убийства офицера, что Петрову стало страшно. Он отошел от теплушки и, боясь остаться один в этой беспросветной ночи, вернулся к своему вагону.
Паровоз низко и протяжно загудел.
Чем ближе подъезжал полк к месту нового назначения, тем труднее становился путь. На станциях, забитых эшелонами, простаивали по нескольку дней. Всюду валялись груды военного снаряжения. В нем была страшная нужда на фронте, но оно не могло быть туда доставлено из-за хаоса, царившего на железных дорогах. В Ковеле задержались больше чем на сутки. Карцев и Голицын пробрались к вокзалу. Подходя, услышали стоны, крики, ругательства. На перроне и вокруг него, на голой земле или на гнилой, мокрой соломе лежали под открытым небом тысячи раненых солдат. Шел дождь, липкая грязь покрывала землю. На пустыре, окруженном низеньким заборчиком (тут, видно, было складочное место, сохранились еще остатки навеса, крытого толем), Голицына окликнул раненый. Голицын и Карцев подошли к нему.
– Сеня? Неужель ты? – неуверенно спросил Голицын.
Карцев всматривался в серое, с заострившимся носом лицо.
Раненый слабо кивнул головой.
– Пятый день лежим. Ни перевязки, ни заботы. Убили бы лучше…
Слезы покатились по спутанной бороде, и хриплый плач вырвался из горла.
– Что же я сделаю? – беспомощно пробормотал Голицын. – Фершала бы надо…
Место это походило на кладбище, покрытое живыми трупами. Глаза у одних смотрели в муке и отчаянии, у других – в злобе, у третьих – с покорной обреченностью. Карцев увидел Петрова, идущего по площади, и побежал к нему. Приложив к фуражке руку (вокруг, был народ), он сказал, задыхаясь:
– Вот, смотри! Вот они – русские солдаты!..
Петров побледнел.
Он пошел отыскивать начальство. Никто ничего не знал. Тогда в ярости Петров ухватил за плечо фельдшера с унтер-офицерскими нашивками и закричал:
– Скажешь ты, черт тебя возьми, где здесь главный врач?
– Да вы не кричите, ваше благородие, – угрюмо ответил фельдшер. – И без вашего крика тошно. Ни при чем здесь главный врач. Нет у него ни коек, ни вагонов, ни помещений. Вы начальника санитарной части спросите, вон он с дамочкой стоит.
Начальник санитарной части строго посмотрел на Петрова.
– А позвольте спросить, прапорщик, – щеки у него надулись и глаза свирепо выкатились, – а какое вам, собственно, дело до эвакуации раненых? Какое дело?
Сердце у Петрова покатилось куда-то вниз и вдруг душным комком прыгнуло к горлу. Слепое бешенство залило его, он подступил к чиновнику, рвущим движением отстегивая кобуру.
– А такое дело… А такое дело, что я вас сейчас…
Он видел, как глаза чиновника выпучились, как в безмолвном крике открылся его красный, мясистый рот. Дама, путаясь в шубе, бежала прочь.
– Ради бога, голубчик, – лепетал начальник санитарной части, – ради бога, не волнуйтесь. Мы тут бессильны… Нет у нас медицинских сил, нет санитарных поездов… Ожидали две тысячи вагонов, а нам прислали… восемнадцать!.. Хотели организовать поезда-теплушки, но нам категорически запретили, можно только в санитарных.., Извольте выйти из такого заколдованного круга, го… го… лубчик…
Петров отошел. Ему было стыдно, противно и больно.
…На следующий день полк кружным путем отправили дальше. Но уже через три пролета движение вновь стало невозможным. Не только станции, но и все вокруг на несколько верст было забито грузами, эшелонами войск, платформами и походными кухнями, составами с ранеными. По обочинам путей двигалась масса солдат, в большинстве безоружных. По проселочным дорогам тянулись военные обозы и бесчисленные телеги с гражданским населением. К телегам были привязаны коровы; сидя на узлах с тряпьем, плакали дети. Это были галичане, которых по чьему-то приказу заставили сняться с родных мест, и они еще больше увеличивали затор в ближайшем тылу фронта и мешали движению войск и обозов.
Полк высадили, и он двинулся походным порядком.
Глядя на разрозненные отряды солдат, на их изнуренные лица, на тот хаос, что царствовал в тылу отступающих армий, Карцев вспоминал, как в прошлом году в Восточной Пруссии такой же бесформенной массой текли назад разбитые корпуса Самсонова.
Встретилась крестьянская телега с двумя ранеными солдатами, запряженная рослой гнедой лошадью. Один – с перевязанной ногой – правил лошадью, другой лежал, забинтованная голова его моталась на сене, и он от боли вскрикивал.
– Сами себе лазарет! – весело сказал солдат с перевязанной ногой. – Экуирую себя да товарища. Лошадь достали и помаленечку пробираемся.
На них смотрели с завистью и одобрением.
– Смотрите, только бы не поймали вас, – сказал Рогожин.
– Нас-то? – с великолепным пренебрежением проговорил солдат. – Сейчас сами господа офицеры едва ноги уносят. Где им на других смотреть-то!
– Возьми в свой лазарет, – попросился Черницкий. – Что мне тут делать?
– Места хватит, – проговорил раненый. – Забинтуйся да ложись. А документов нам не надо. Мы и так поверим солдатскому слову. Воюйте себе на здоровье, землячки!
Он тронул вожжи. Выражение счастья и упорства проступало на его лице.
Проходили большое село. У массивных амбаров стояли часовые. Двери были распахнуты, и с улицы были видны ящики, сложенные до самого потолка. Кавалерийский полковник, циркулем расставив тонкие стрекозиные ноги, кричал на военного чиновника, стоявшего перед ним с унылым и равнодушным видом:
– Я вас спрашиваю, какое вы имеете право так действовать? Вас надо расстрелять! Ни одного патрона нет в частях, а он прячет целые склады! Для кого ты их прячешь? Для кого?
– Зачем же меня расстреливать? – с унылым равнодушием отвечал чиновник. – Патроны – казенное имущество. Я их по росписи принимал, по росписи и выдаю. А вы – чужая часть. Не нашего корпуса. У вас свое снабжение. Как же я могу чужой части выдавать казенное имущество? Меня за это под суд отдадут.
– Вот из-за таких сукиных сынов мы войну проигрываем! – ревел полковник. – Сейчас же выдавай патроны! Слышишь? Ведь все равно немцам достанутся.
– Нет, не достанутся! – стоял на своем чиновник. – Мы постараемся вывезти, а не удастся – взорвем… А выдать чужой части, как хотите, не могу.
Полковник схватил его за грудь и отбросил в сторону.
– Грузите на мою ответственность, – крикнул он солдатам. – И живей, ребята!
К складу уже подъезжали подводы, окруженные кавалеристами. Дюжие солдаты начали быстро выносить ящики. Они хохотали, явно радуясь тому, что их начальник нарушил казенный порядок и без спроса, даже насильно берет патроны. К полковнику подошел прапорщик, солидный человек с широченной спиной, и попросил разрешения взять патроны для своей части.
– Валяйте, прапорщик, берите! – махнув рукой, распорядился полковник.
В это время в небе послышалось гудение, и люди, крича, побежали в укрытия.
Бомба попала в соседнюю избу и разметала ее с грохотом. Солдаты, грузившие патроны, погнали лошадей и с гиканьем понеслись по улице. Полковник, ругаясь, вскочил на коня и умчался.
13
Из генерального штаба на автомобиле прибыл офицер с инструкциями и срочным приказом. Это был щегольски одетый капитан, совсем еще молодой, с беспокойными движениями. Он подробно, очевидно восхищенный важностью своей миссии, передавал Уречину, в чем заключается задача его полка (он говорил «вверенного вам полка»), и, не удержавшись, стал излагать обстановку на фронте, принимавшую, по его словам, катастрофический для русской армии характер. Уречин, слушая, так смотрел на капитана, что тот, смутившись, поспешил откланяться.
– Наполеончики! – насмешливо проговорил Уречин. – Только что из академии и уже полководец! Офицер генерального штаба осмеливается на фронте, в разгаре боевых действий, выговорить – «катастрофа». Я бы ему роту не доверил, а он убежден, что лучше всех понимает положение армии, и хвастает этим!
Он пригласил старших офицеров, чтобы вместе с ними разобрать обстановку и задачу, данную полку.
Положение русских было тяжелое. Третья армия Радко-Дмитриева занимала фронт от впадения Дунайца в Вислу до Лунковского перевала в Восточных Карпатах. Справа к ней примыкала четвертая армия, слева – с юга, занимая лесистые Карпаты, до Ужокского перевала – восьмая армия. Русское командование давно знало, что германцы готовят прорыв в районе Горлицы. Туда подвозили они тяжелую артиллерию, минометы, огромное количество боевого снаряжения и подбрасывали новые дивизии с англо-французского (Западного) фронта.
Третья армия, против которой готовился удар, не имела в своем ближайшем тылу ни укрепленных позиций, ни армейского резерва. И все же ставка позволила главнокомандующему Юго-Западным фронтом генералу Иванову продолжать карпатскую операцию и не настаивала на перегруппировке сил Юго-Западного фронта для противодействия явно готовящемуся удару германцев. Кроме всего прочего, положение ухудшалось еще неурядицей в тылу, слабостью транспорта. Значительная, часть снарядов застревала внутри страны. В Архангельске образовалось настоящее кладбище боевых материалов, доставленных морем из-за границы, – тридцать миллионов одних артиллерийских снарядов. И это в то время, когда в самые горячие дни горлицкого прорыва дневной расход шестиорудийной гаубичной батареи в третьей армии был установлен в десять выстрелов – меньше двух на орудие!
Уречин получил известие о разгроме второго полка их бригады, атакованного германской кавалерией. Он с трудом скрывал свое горе и тревогу. В самых трудных условиях ему приходилось вести полк, большей частью состоявший из плохо обученных, необстрелянных солдат. Верхом на рыжей венгерской кобыле, купленной им у казака, он внимательно осматривал проходившие мимо ряды. На повороте высился большой потемневший крест с распятым Иисусом. Сиреневые губы на белом бородатом лице казненного бога были сердито сжаты. Солдаты, сбившись в кучу, с любопытством смотрели на Иисуса, некоторые крестились.
– Владимир Никитич, – сказал Уречин Васильеву, – поглядите на них: толпа, а не полк. А сегодня они встретятся с немцами. – Он вздохнул. – Как у вас в батальоне?
Васильев пожал плечами:
– Закваска осталась. Около сотни старых солдат. – И добавил: – Ничего. Привыкнут. Народ боевой, храбрый…
– Увидим, увидим, – пробормотал Уречин, поправляя новый желтый ремень уздечки возле ушей лошади. – Пожалуйста, Андрей Иванович, – обратился он к Денисову, – передайте еще раз в роты, чтобы берегли патроны. Ну, с богом!
Он снял фуражку, пошевелил перед грудью сложенными в щепоть пальцами и тронул коня. Васильев, козырнув ему, рысью поехал к своему батальону.
Увидел Карцева, шедшего на фланге взвода, и позвал его.
Карцев вышел из рядов, с готовностью глядя на командира.
– Поздравляю с Георгием! – отрывисто и ласково сказал Васильев и улыбнулся.
– Рад стараться, ваше высокоблагородие!
– Представляю тебя в младшие унтер-офицеры! – проговорил он и поехал дальше, с наслаждением вдыхая весенний воздух. Сорвал на ходу бурую клейкую почку, по-ребячьи лизнул ее, ощутил горький вкус и засмеялся.
«Подполковник, штаб-офицер. Неужели я штаб-офицер?» – думал он.
Артиллерийская стрельба доносилась все яснее. Дорога была загромождена беспорядочными массами войск, обозами и артиллерией. Солдаты переругивались с обозниками, присаживались на землю и перематывали портянки. В глубь тыла увозили тяжелую артиллерию – сорокадвухлинейные гаубицы, лишенные снарядов. Артиллеристы погоняли сильных, с широкими крупами лошадей и перебрасывались шутками с пехотинцами. Только немногие были угрюмы: старые бомбардиры, сроднившиеся со своими орудиями, да фельдфебели с золотыми шевронами на рукавах, усатые, злые.
Черный, волосатый полковник поздоровался с Уречиным, остановившим его, молча выслушал заданные ему вопросы и, нехорошо усмехаясь, сказал, указывая на свои погоны, на которых перекрещивались дула орудий:
– Нужны вам эти пушки, так, пожалуйста, заберите их. Они будут полезны не меньше, чем эти (он показал нагайкой на свой дивизион)… хлопушки, которым нечем хлопать.
Вздыбив коня, он ускакал галопом.
Движение замедлилось. С холма была видна дорога на несколько верст вперед. Васильев, ворча, осматривал ее в бинокль. Казалось, что река катила густые, рыжие от размытой глины воды, и они, наткнувшись на плотины, вдруг затопили берега. Сильные стекла бинокля показали Васильеву странную картину. Стадо белых длинноногих быков теснилось на дороге. Пестрые таборы людей, повозок и лошадей окружали его. Возле суетились пастухи в козьих шкурах, с палками и котомками. «Столпотворение вавилонское!»
Он поскакал к Уречину. Полковник выслушал его.
– Надо свернуть с дороги, – приказал он. – Тут мы не пройдем.
14
Роты пробирались в сторону от дороги. Шли проселками, иногда – полями, топча жирную, вспаханную землю. В одном месте прошли участок, покрытый нежными изумрудными всходами озимых, затоптав их тяжелыми сапогами. Показалась долина, перерезанная извилистой речкой. На другом берегу ее подымался круглый зеленый холм. Три сосны росли на его вершине.
Уречин поскакал к речке. Сильный конь с трудом выдирал ноги из вязкой земли. У берега он замялся и, фыркая, осторожно вступил в воду. Видно было затем, как командир пригнулся к шее коня и, держась за гриву, галопом взобрался по крутому склону, остановился у сосен, в бинокль осматривая местность.
Подняв над головами винтовки, солдаты вброд переходили речку. Крики и смех раздавались кругом. Защима что-то бормотал сквозь зубы. Банька жалобно хныкал, говоря, что холодная вода хватает его за самое сердце. Карцев был сосредоточен, наблюдая, чтобы кто-нибудь из его отделения не споткнулся в воде, доходившей до груди.
Грохот артиллерии, затихший незадолго до перехода речки, возобновился с новой силой. Снаряды рвались совсем близко. На середине холма вспрыгнул черный столб земли, желтоватый дым скрыл Уречина, и комья земли посыпались на солдат, точно кто-то, забавляясь, бросал их полной горстью. Уречин передал приказание, роты поспешно уходили в стороны, занимая свои участки. Третий батальон расположился в роще, оставаясь в резерве.
Карцев пробрался на вершину холма. Вся позиция ясно, как на рельефной карте, расстилалась перед ним. Он поднес к глазам бинокль, снятый с германского офицера, и стал смотреть, пытаясь определить расположение неприятеля. В те дни, когда полк был в резерве, Васильев ежедневно проводил со взводными и отделенными командирами тактические занятия, обучая их на примере недавних боев, и эти уроки хорошо усвоил Карцев. Перед ним лежала гряда холмов, покрытых пашнями. Тонкий пар стлался над коричневой развороченной землей. Левый фланг позиции упирался в болотистую речку. За ней тянулся лес. Раскидистая вершина тяжелого дуба выделялась на опушке. Карцев понимал, что лес и холмы стесняют обстрел, уменьшают его до шестисот – семисот шагов, а болотистая речка предохраняет фланг от обхода. Далеко впереди вилась дорога, и в бинокль были видны белые дымы разрывов. Он повернулся было в другую сторону, чтобы осмотреть тыл русской позиции, как вдруг увидел, что Рогожин отчаянно машет рукой, что-то кричит. Прыжками Карцев спустился к своим. Ему сказали, что он назначен в команду разведчиков.
Тридцать человек, под командованием Петрова, двинулись в лес. Карцев шел в передовом дозоре. Идти было легко, разведчики оставили себе только винтовки, саперные лопатки и подсумки с патронами. Рядом, спокойно посапывая, ловко переступал Голицын. Шагах в двухстах позади Петров вел главные силы команды. Холмы хорошо прикрывали их, они старались двигаться ложбинками. Иногда, забываясь, Карцев думал, что вот он гуляет за городом, а где-то издали надвигается гроза и раздаются раскаты грома. Низкое жужжание аэроплана он услышал лишь тогда, когда тот прошел над разведкой. Машина снижалась все больше, описывая круги. Видимо, летчик заметил подозрительное движение и хотел выяснить, в чем тут дело. Карцев, пригибаясь, побежал к Петрову.
– Германец! – прошептал он. – Кресты у него на крыльях! Надо снять… Прикажете открыть огонь?
Петров колебался, но солдат нельзя было уже удержать, цель была слишком близка и заманчива.
Карцев соображал: аэроплан шел к группе деревьев, стрелять надо, целясь поверх деревьев, когда машина будет недалеко от них. Он торопливо передавал товарищам свои соображения, подал команду, и сухой треск залпа, почти незаметный в гуле орудий, показался ему ударом грома. Аэроплан летел совсем низко. Он пронесся над деревьями и вдруг, качнувшись, развернулся вправо и, вильнув хвостом, резко пошел вниз. У самой земли он рванулся кверху, как рвется подбитая птица, клюнул носом, опять выпрямился, подпрыгнул и, неуклюже пробежав саженей пять, свалился набок. Едкий, черноватый дым повалил из машины. И как раз в тот момент, когда человек, одетый в коричневую кожу, вывалился на землю и пополз в сторону, послышался взрыв. Сквозь дым блеснуло темно-красное пламя. Карцев подбежал первым. Летчик сидел, опираясь на руки, и судорожно кашлял. По его лицу, из-под кожаного шлема, текла кровь. Увидев Карцева, он полез было за револьвером, но подбежали еще русские солдаты, и летчик, оставив револьвер, пытался встать. Карцев хотел ему помочь, протянул руку, но тот посмотрел на него с таким презрением, что Карцев сжал кулаки. Летчика окружили.
– Барин, – глухо сказал Голицын, – поглядите, как зубы ощерил. Прикончить бы его…
Петров вышел вперед. Заметив его погоны, немец произнес короткую фразу и подал ему револьвер.
– Помогите, – приказал Петров. – Видите, ранен.
Двое солдат подошли к немцу, но он отстранился от них и, пошатываясь, пошел сам.
Летчика отправили в штаб полка. Потом двинулись дальше. В лесу пахло сыростью, сосновой хвоей. Осторожно осматриваясь, подобрались к опушке. За опушкой лежал луг, ближе к лесу часто росли кусты. Кто-то из разведчиков выдвинулся из-под деревьев, и сейчас же затрещал пулемет, пули звонко щелкнули, ударяясь в стволы сосен. С первыми выстрелами волновавшийся до сих пор Петров почувствовал, как спокойствие возвратилось к нему. Он расположил людей за кустами, выслал дозоры. Карцев и Голицын ползли по земле, прячась в зарослях, зорко всматриваясь в даль. Пули свистели над их головами, но летели так высоко, что Карцев знал – стреляют не по ним. Они подползли шагов на двести к неприятельскому расположению. Ближе ползти опасно – простым глазом они видели полевой бивак германцев, обветренные лица солдат, сидящих и лежащих на земле. Очевидно, немцы устроили короткий отдых перед наступлением. Никто не снимал снаряжения, ранцы висели за спинами, винтовки были в руках. Карцев нацелился биноклем в маленькую группу, сидевшую ближе других. Увидел немолодое, усталое лицо. Оно было так близко в сильном цейсе, что он ясно различил кучку синих точечек на переносице и под глазами германца, его дряблые щеки, плохо выбритый подбородок и двигающиеся от жевания щеки и губы. Эти точечки вызвали в нем воспоминание. Сморщив от усилия брови, он улыбнулся: такие же были на лице солдата их роты, донецкого шахтера. Темные широкие руки немца бережно подносили ко рту хлеб. «Видно, знает цену хлебу – как заботливо подбирает крошки с колен», – подумал Карцев и поймал себя на том, что занимается не тем делом, за которым его послали. Сердито тряхнув головой, он стал внимательно всматриваться и подсчитывать, сколько людей могло быть перед ним.
Голицын легко толкнул его.
– Вон, погляди, – он показал вправо. – Там их много. Разведаем, что ли?
У Голицына возбужденно поблескивали глаза, острая военная игра захватила и его.
Они поползли в лес. Сеть кривых, запутанных тропинок бороздила его. Иногда тропинки упирались в маленькие просеки, кругловатые тихие полянки, на которых лежали аккуратные кубы спиленных дров. Они наткнулись на лачугу, покрытую сосновыми ветвями. В дверях этого первобытного жилища стоял маленький косоплечий человек. Он был весь черен. Выделялись только зубы и белки глаз. Сразу нельзя было определить ни возраста, ни одежды этого человека. Все на нем засмолено – борода, лицо, войлочная шляпа, руки. С полным спокойствием он смотрел на русских солдат. Голицын на всякий случай наклонил штык и сурово сказал:
– Ну, ты, австрияк, много тут ваших?
Тот махнул рукой:
– Я не вем, пан, – я смолокур. Много тут всякого лиха шляется… Вот и вы пришли.
– Легче, – свирепо оборвал его Голицын. – Не знаешь, что ли, как на войне с вашим братом поступают.
– Чхал я на вашу войну! – рассердившись, сказал смолокур. – У меня свое дело, и я никому не мешаю.
Он повернулся и скрылся в лачуге.
– Одичалый… Оставь его! – посоветовал Карцев.
Со стороны поля усилились выстрелы. Тяжелый снаряд с низким, очень сильным гудением пролетел над лесом. Они продолжали двигаться вперед. Голицын присел и за рукав потянул Карцева вниз: между деревьями виднелась белая прогалина, и там, почти теряясь на фоне сосен, стояли три австрийца.
– Заметили… – прошептал Голицын, подымая винтовку. – Стреляй!
Но австрийцы вели себя странно. Один из них, длинный костлявый парень, помахивая поднятой рукой, направился к русским. Винтовка мирно висела у него за плечом. Голицын прицелился.
– Подводят, – хрипел он, – однова так было. Подошли по-мирному, а потом застрелили. Бей в него.
– Погоди, – остановил Карцев, – там их еще двое, не упускай из виду. Эй, вояка, стой!
Австриец остановился.
– Мир! – крикнул он. – Мы хцемы до плена!
И, сложив на землю винтовку с широким штыком, что-то крикнул товарищам. Они поспешно подошли к нему, тоже положили свои винтовки на землю, и все трое направились к русским. На воротнике у длинного была костяная звездочка. Комически подмигнув Карцеву, он показал на нее и объяснил:
– Гефрейтор… – и все трое засмеялись весело, но немного принужденно.
– Чеши, – показал он на себя и товарищей, – працователи, – и, видя, что его не понимают, сделал руками несколько движений, поясняя: – Працовать – работа…
– Стало быть, чехи, работнички, – догадался Голицын, – в плен к нам хотите?
Чех подозрительно посмотрел на него.
– До вас, до вас, – убеждающе сказал он. – У нас плен – плохо, к нам – фе! – он оттопырил по-детски надутые губы и, морщась, пошевелил пальцами. – Кушать нема!..
Карцев рассмеялся.
– Боится, что мы к ним в плен попросимся, – заливаясь хохотом, бормотал он. – Боится, что некому будет их в плен брать. Ну что ж, придется их отвести.
Чех повеселел. Заменяя жестами недостающие слова, он рассказал, как два месяца тому назад в Карпатах столкнулись две партии – русские и австрийцы – и стали сдаваться друг другу в плен. Но австрийцев было больше, и они силой заставили русских вести их к своим.
Чех в полной мере переживал свой рассказ. У него, очевидно, был природный дар чувствовать и изображать смешное. Он мимически показывал разочарование русских и удовлетворение австрийцев, которые под конвоем вели русских до тех пор, пока не дошли до их позиций, и только тогда сдали им свои винтовки. Карцев и Голицын смеялись, представляя себе эту забавную картину.
На них вышел правый боковой дозор разведки под командою Баньки, и тот охотно принял пленных.
– Непременно мне за них Георгия дадут, – хвалился он, забирая под мышку австрийские винтовки. – Скажу, что взял в бою и еще троих пострелял.
Банька, высоко отставляя локоть, крепко пожал руки разведчикам.
Карцев и Голицын продолжали путь. Они вышли на опушку и сейчас же должны были спрятаться в лесу. Немецкие колонны оказались совсем близко, их передовые дозоры, очевидно, уже втянулись в лес.