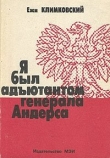Текст книги "Солдаты вышли из окопов…"
Автор книги: Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц)
– Нет, плохо у нас живут офицеры. Играют в карты, пьют, своим делом мало интересуются. Молодежь петушится, хорошие книги мало кто читает. Не то что Володя…
Он слушал ее, боясь взглядом или движением выдать себя, трепетно смотрел на ее розовую шею и в смятении думал: «Боже мой, Валентина Сергеевна… Валя! Какая вы изумительная, какая чудесная!.. И неужели вы любите этого маленького, тонконогого человека?»
Она показала ему полку с книгами. Среди томов Мольтке и Клаузевица он увидел в хорошем тисненом переплете «Войну и мир» Толстого.
– Мы получаем «Русское слово», – понизив голос, сообщила Валентина Сергеевна. – Вы знаете, Володе пожалован орден Георгия четвертой степени за русско-японскую войну. В полку такого Георгия имеют только он да полковник Архангельский. Большая честь!.. Ведь Владимир Никитич очень способный офицер и любит военное дело.
В том, что Васильев понимает и любит военное дело, Петров убеждался не раз. Когда капитан на занятиях, набросав мелом на доске карту, рассказывал о боях, в которых участвовал (о себе он обычно не говорил), солдаты слушали его с интересом. На тактических полевых занятиях он изобретал интересные задачи, увлекал солдат поисками хорошо замаскированного «противника», учил незаметно подкрадываться, применяясь к местности, бросаться в атаку, нанося стремительные удары по врагу.
Занятия с Алей шли хорошо, и, освоившись в офицерском доме, Петров нет-нет да и заговаривал с Васильевым на «посторонние» темы, иногда даже спорил. Аля как-то с детской прямотой сказала Петрову:
– А вы понарошку одеваетесь солдатом. Вы и не солдат вовсе.
И когда Петров возразил ей, сказав, что он самый настоящий солдат, она убедила его неотразимыми доводами:
– Нет, солдаты не такие. Они работают на кухне, помои выносят, чистят нам обувь, стирают для нас, вот как денщик Егор. И все говорят им «ты» и в комнаты не пускают.
7
Очень часто Петров встречал на улице штабс-капитана Тешкина – сутуловатого человека с развинченными движениями, неряшливо одетого, совсем не похожего на офицера. И каждый раз Тешкин внимательно смотрел на него круглыми желтыми глазами, а как-то раз остановил и спросил глухим голосом, кривя рот:
– Ну так что же? Как жизнь?
– Служу, ваше благородие, – растерянно ответил Петров.
– Хм!.. Телеграфный столб тоже служит – для связи… Зайдем ко мне, я живу здесь рядом.
Он двинулся, сутулясь, и через плечо посматривал на Петрова, точно боялся, что тот не пойдет за ним, убежит. Подошли к старенькому деревянному домику.
– Вот моя берлога, – сказал Тешкин, обводя дом длинной рукой. – Хотел вывеску пристроить: «Берлога штабс-капитана Тешкина». Не позволили.
Сени были темные, низкие, чем-то напоминавшие отверстие русской печи. Паутина пыльными лохмотьями свисала с черного потолка. Комната штабс-капитана скошенным окном выходила в замерзший садик. Повсюду в беспорядке валялись вещи. Портрет Достоевского смотрел из полутемной ниши, а в переднем углу вместо снятой иконы виднелось длинное, с высоко изогнутыми бровями и острой бородкой язвительное лицо Мефистофеля.
– Не люблю порядка, – признался Тешкин. – Казарма, мещанство… И денщика не держу. Противно. Не хочу, чтобы кто-нибудь мешал. Садитесь! – пригласил, вернее, приказал он. – Расположен говорить с вами. В этой дыре, которую почему-то называют городом, нет интересных людей – одни манекены.
Он вытащил из-под кровати, небрежно покрытой смятым байковым одеялом, жестяную миску с табаком, свернул папиросу, пододвинул табак Петрову.
– Я, к вашему сведению, пишу, – сказал Тешкин, глядя куда-то вниз. – Только не разрешают печататься.
– Кто не разрешает? – спросил Петров, усевшись на опрокинутый пустой ящик, заменявший стул.
– Командир полка! Считает, что не офицерское дело сочинять небылицы. А Лермонтов? А Полежаев? А Денис Давыдов? К вашему сведению, тоже офицеры, Ерунда! Придирки! Зависть!
Он курил длинными затяжками, нечесаная его голова, казалось, дымилась, и черные клочья усов шевелились в дыму, словно их колебал ветер.
– Вы какого писателя считаете полезным? – спросил он. – Кого любите больше других?
Он с острым любопытством взглянул на Петрова.
– Толстого. И, конечно, Пушкина, – ответил Петров. – Без Пушкина нельзя себе представить нашу литературу.
– Ненужный писатель Толстой, – быстро заключил Тешкин. – Все, о чем он пишет, случается в жизни. А Пушкин – для красоты: как цветок, как весна. А Толстой – разве так необходим?
Петров был в недоумении: «Странный человек, зачем он позвал меня?»
– Необходим, – твердо сказал Петров. – Целые эпохи можно изучать по Толстому. А сила какая! Точно Волга течет в половодье.
Тешкин брезгливо усмехнулся:
– Не согласен. Толстой не уводит меня из этого болота.
Он беспокойно шевельнулся, достал из-под стола запыленную гравюру, сдул с нее пыль и протянул Петрову. Гравюра была старая, пожелтевшая, с немецкой готической надписью. На ней был изображен человек в старинном костюме, с всклокоченными волосами, с изогнутыми бровями и выпуклыми, страшными глазами. Горечь и безумие были и в этих глазах, и в широких, тонких губах, и в тяжелых складках возле рта.
– Кто это? – спросил Петров. – Что за страшилище?
– Теодор Амадей Гофман! Его должны читать все, кому трудно и скучно живется на белом свете. Полезнейший, удивительнейший писатель.
Он встал и, покачиваясь, вытянув вперед руки, заговорил глухим голосом:
– Фантазия – великий путь на свободу из темных подвалов нашего бытия. Вот видите эту уличку, этот тюремный забор, этот навоз кругом? Тут проходит моя жизнь, моя бедная жизнь, и отсюда Амадей Гофман выводит меня в иной мир, по чудным путям своей фантазий.
И вдруг, присев на корточки, он посмотрел на Петрова расширенными глазами и зашептал:
– Скребет меня такая жизнь, душа вся расцарапана, понимаете? Ненавижу полк, все это мишурное ничтожество, этих тараканов в мундирах, у которых за душой медного гроша нет, да и души тоже!.. Что им честь армии? Военное дело? Не любят его они, как, признаюсь, не люблю и я..
– Странно, что вы стали офицером при таких взглядах.
– «Странно», «странно»… Ничего тут странного нет. Надо было куда-то ткнуться. Я ленив. Наружность плохая. Несимпатичный. Непривлекательный. Людей не терплю. Работать не люблю. А тут все-таки… живешь!
И, поднявшись, наклонился к Петрову, шепнул:
– Сладкий грех – люблю… С фантазией только.
Петров встал, желая скорее выбраться на свежий воздух. Но Тешкин не отпускал его. Он говорил стремительно и бессвязно, как человек истерический, долго не имевший возможности излить накопившиеся в нем мысли и чувства, перескакивал с одной темы на другую, и неизвестно, сколько бы продолжалась эта полубредовая исповедь, если бы кто-то не постучал с улицы в двери. Шаркающие старушечьи шаги раздались в коридоре, послышались громкий мужской смех и картавый женский голос. Дверь в комнату распахнулась, и вошел вольноопределяющийся Сергеев в заломленной набок фуражке, со свертками в руках.
– Иван Андреевич, – заорал он, – привет вам и честь!..
Увидев Петрова, Сергеев удивился:
– Ах, и вы здесь? Ну что ж, всякое бывает…
И, визгливо захохотав, повернулся к двери.
– Ну, девуленька, – сюсюкая, позвал он и положил свертки на стол. – Ну, царица наслаждений, извольте переступить порог сей хижины, недостойной вас. Жрецы любви – у ваших ног! У нас вино, конфеты и ласки, ласки… «Ах, эти ласки!..» – запел он и, жеманясь и приплясывая, ввел за руку совсем еще молодую девушку с толстым, безбровым лицом, с крутыми завитками над низкой полоской лба и коровьими глазами.
– Прошу, прошу! – вскочил Тешкин, шумно дыша.
Они вдвоем сняли с девушки потертую шубку и усадили ее на постель. Она тупо смеялась. Увидев Петрова, игриво сказала:
– А я вас не знаю, мужчина. Шлепайтесь рядом со мною.
Сергеев занялся свертками. Тешкин помогал ему. А Петров незаметно выскользнул из комнаты…
8
Однажды, когда Петров пришел к Васильевым на урок, денщик не пустил его.
– Велели передать, – сказал он, вытирая руки о грязный передник, – что сегодня занятий с барышней не будет. У них господа офицеры в гостях.
И бесцеремонно захлопнул дверь.
Петров ушел обиженный и возмущенный.
«Надо бросить урок, – решил он. – Так не может дальше продолжаться. Они вежливы со мною, пока я им нужен, но каждую минуту могут на меня цыкнуть, указать мне мое место».
Он не пошел на урок на следующий день, и денщик капитана, придя с котелком за своим обедом в казарму, передал ему записку.
«Уважаемый Сергей Петрович, – писала Валентина Сергеевна, – не случилось ли что с вами, не больны ли вы? Алечка вам кланяется. Будем вас ждать».
Записка была Петрову приятна. Он подумал, что ему невозможно не видеть Валентину Сергеевну. И такая радость вспыхнула в нем, когда он опять увидел ее, что он даже испугался: неужели любит ее? Что это может принести, кроме мук и унижения?
Она протянула ему руку, и он невольно задержал ее в своей руке. Словно не заметив этого, Валентина Сергеевна заговорила о чем-то другом.
Как-то после урока Васильев показал ему напечатанные главы из дневника Куропаткина о японской войне.
– Я не читал, но вряд ли генерал может рассказать всю правду об этой позорной для России войне, – заметил Петров.
– Почему не может и почему вы эту войну называете позорной? Русские солдаты и офицеры честно выполнили свой воинский долг. Не их вина, что война так кончилась, – голос Васильева звучал резко.
– Да, не их вина, – согласился Петров, – и не надо их обвинять. Ведь вся Россия знает, что там была авантюра высших кругов, связанных с биржей и царской фамилией. Они хотели поживиться на прибыльных лесных концессиях в Маньчжурии и Корее, не считаясь с тем, что наша страна совершенно не была подготовлена к войне с Японией.
Васильев заложил за спину руки, выпятил грудь, сдвинул каблуки.
– Это мерзко, – проговорил он, сдвигая гусеницы бровей. – Возмутительная, гадкая клевета! Японцы предательски, не объявляя войны, напали на наш флот в Порт-Артуре, да-с! И это была война русского народа за веру, царя и отечество. Прошу вас все это запомнить!
Его голос дребезжал черствыми, начальственными нотками. Петров, весь ощетинившийся, хотел было продолжать спор, но сдержался.
Капитан отошел к окну. Петров стоял напряженный, сделал над собой усилие, пробормотал: «Честь имею кланяться» – и бросился вон.
Васильев, не оборачиваясь, едва кивнул головой. Валентина Сергеевна вошла, удивленная их громкими голосами. Петрова уже не было. Васильев нервно барабанил пальцами по стеклу.
– Что случилось, Лодик? Где Сергей Петрович?
Он, не отвечая ей, подошел к письменному столу, вынул из ящика маленький кожаный футляр. На пышном малиновом бархате, сверкая золотом и белой эмалью, лежал орден святого Георгия.
– Валя, – мягко сказал Васильев, и слеза выкатилась из его глаз, – этот орден дают только за высшую боевую храбрость, только за доблесть дают его, и может ли быть, чтобы его вручили офицеру с нечистыми руками и за поганое дело?
– Что ты говоришь, Лодик! – ужаснулась Валентина Сергеевна. – Я не понимаю тебя.
– Может ли быть, – продолжал Васильев, подымая орден на ладони, – что честные русские воины, идя в бой за царя и родину, проливая свою кровь, жертвуя своей жизнью, способствовали кучке авантюристов?
Она перекрестила мужа, тревожно на него смотрела:
– Лодик, ты о чем-то страшном говоришь…
И капитан рассказал ей о своей беседе с Петровым.
– Ужасно! – всплеснула она руками. – Такой скромный, такой воспитанный… Неужели он мог так говорить? Совсем на него непохоже.
– Я не знаю, можно ли ему позволять дальше заниматься с Алечкой? – спросил Васильев.
– Ну, с Алей он ни о чем, кроме занятий, не говорит, – быстро ответила Валентина Сергеевна. – К тому же он хороший учитель, и мы совсем дешево ему платим, Где найдешь такого в нашем городе? Пусть занимается. Я буду присутствовать на уроках… Вот уж никак не ожидала, что он может оказаться таким, – как это у Тургенева?.. – нигилистом.
А Петров в тот вечер долго не мог уснуть. «Напрасно я все это говорил ему, – с беспокойством думал он, – ведь он может погубить меня, доложит командиру полка, и тогда – военный суд за непозволительные суждения. Зачем я не сдержался!»
Заснул он поздно. Ему снилось, что он приговорен к каторжным работам и закован в кандалы. Кандалы гремят при каждом его движении. Он проснулся в испуге. Все вставали. Самохин с грохотом выдвигал из-под койки свой сундучок.
9
Два воскресенья подряд Карцева не выпускали в город. Было обидно проводить праздничный день в душной казарме, но что поделаешь: нужно молчать! Когда же взводный вдобавок дал ему внеочередной наряд за искривленный каблук, Карцев рассвирепел.
– Неправильно дали мне наряд, господин взводный! – хмуро проговорил он, глядя на медное, пустое лицо Машкова. – Мало ли у кого сбит каблук? За это не наказывают.
– У кого мало, а у тебя много, – издеваясь, ответил Машков. – Казенную обувь надо беречь и вовремя чинить.
– Жаловаться на вас буду, – заявил Карцев.
– Не можешь, – радостно засмеялся Машков. – А за то, что не знаешь устава, получишь еще наряд, когда этот отбудешь.
И, подняв палец, торжественно сказал:
– Нельзя жаловаться на строгость взыскания, если начальник не превысил своей власти. Что, съел? – и, хлопая себя руками по ляжкам, взводный захохотал.
Карцев до боли прикусил губу. Машков явно вызывал на дерзость. Но не тут-то было: у Карцева нервы крепкие! Он с интересом посмотрел на взводного, удивляясь, что этот тупой и ничтожный человек имеет такую власть над ним. Карцев не мог отделаться от совершенно ясного ощущения: ему трудно, тесно жить. Так было прежде в Одессе, так теперь и в казарме. Как же преодолеть все это? Как изменить жизнь? И он с радостью вспоминал свои разговоры с Мазуриным. Скорее бы увидеть его!..
Наконец в следующее воскресенье ему удалось вырваться из казармы. Он встретился с Тоней, и они пошли к роще. Первая молодая травя пробивалась на бурых полянках. Девушка была грустна, рассеянна, едва слушала Карцева. И вдруг беззвучно заплакала. Карцев встревожился:
– Что случилось? Тонечка, хорошая моя…
Она платочком вытерла слезы.
– Да это я… так. Ничего не случилось…
– Да нет, – не уступал Карцев. – Без причин вы горевать не будете. Расскажите. Ведь я товарищ вам…
Она искоса посмотрела на него, улыбнулась:
– Какой солдат может быть товарищем? Солдат – он без корня. Не знаешь, откуда растет…
Но все же она стала откровеннее. У нее не было никого близких в городе, а кому-то обязательно надо поведать о своей беде, ох как надо!.. Максимов пристает к ней. Раз даже пришел ночью, и она едва вырвалась от него. Надо уходить, но куда? Город маленький, все обо всем знают, как устроишься? Будут спрашивать, почему ушла от полковника, побоятся взять…
– Старый козел! – всхлипнула Тоня. – Мучитель!.. Подлый человек!.. Я знаю, что он людей не жалеет. Для него солдат вроде спички, чирк – и сгорела… Денщика загонял. Ночью заставляет сапоги чистить. Любит, чтобы они блестели. А их у него шесть пар! Сидит и смотрит, как денщик чистит…
– Надо вам отыскать другое место, – сказал Карцев. – Есть у меня близкий товарищ – Мазурин. У него в городе большие знакомства. Устроим вас, Тоня, не горюйте.
Она недоверчиво и в то же время благодарно взглянула на него. Они медленно пошли дальше. Тоня засмотрелась было на беленькое облачко, что будто зацепилось своим мохнатым боком за высокую сосну. «Счастливое… – с грустью подумала она. – А мне и зацепиться не за что…»
Протянула руку Карцеву:
– Спасибо… За все вам спасибо… Побегу. Барыня отпустила только на часок.
Карцев осторожно обнял Тоню, переплел ее пальцы со своими.
– Хорошая вы… сердечная!
На другой день он рассказал Мазурину о Тоне.
– Я знаю ее, – ответил Мазурин. – Можно будет пристроить ее у одной моей знакомой.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
В семь часов вечера со стороны офицерского собрания послышались выстрелы. По улице, выскочив из дверей собрания, пробежал капитан Вернер. Он несся так быстро, что рыжая борода от ветра прижималась к груди. Выстрелы продолжались, и через несколько минут сюда примчались пожарные. Опираясь на палку, прошел полковник Максимов с полковым адъютантом Денисовым. Беглым шагом промаршировал караул с винтовками в руках. Кто-то кричал и распоряжался, и вдруг зашипели твердые как сталь струи воды, направленные в окно одной из верхних комнат здания. Прибежали солдаты. Пока был отдан приказ не выпускать нижних чинов из казарм, здесь скопилось их человек пятьдесят. В углу двора собрания, за сарайчиком, толпились возбужденные офицеры. Некоторые из них держали вынутые из кобур револьверы. Принесли носилки, положили кого-то на них и потащили в полковой лазарет. Помощник буфетчика, бледный от испуга, рассказывал окружившим его солдатам:
– Это Артемов, из третьей роты. Он прислуживал господам офицерам в передней. И вот подает шинель капитану Вернеру, а тот и говорит: «Думаешь, что здесь от меня спасешься? Я тебя завтра же в роту обратно вытребую, тогда узнаешь настоящую жизнь». И как толкнет его об стенку. Ну и пошло!.. Откуда у него, у Артемова, револьвер взялся, бог весть… может, из чьей-нибудь офицерской шинели взял… Капитан, значит, наутек, через пять ступенек, на улицу, ну чисто козел, ей-богу!.. У Артемова руки дрожали… впустую пулял.
На крышу сарайчика по лесенке взобрался поручик Жогин. Ему подали винтовку, и он, прицелившись, выстрелил в окно. Из окна раздался ответный выстрел, и Жогин кубарем скатился вниз, оставив на крыше винтовку.
– Слава богу, кажется, цел, – пробормотал он, ощупывая себя. – Ах, хам! Ах, мерзавец!
В солдатской толпе возбужденно переговаривались:
– Домучили человека!
– Разве вы капитана Вернера не знаете, братцы? Каторга с ним, а не служба.
– Жалко, что не убили… Скольких он еще замучает! Зверюга этот Вернер!
Жогин осторожно высунул голову из-за сарайчика.
– Артемов! – крикнул он. – Сдавайся, а то хуже будет!.. Выходи, приказываю!
В верхнем окне показался Артемов: багровая царапина просекала правую щеку, воротник гимнастерки был расстегнут. Он поднял револьвер, и офицеры бросились под прикрытие. Солдаты стояли недвижимо. Не прячась, стоял и караул, приставив винтовки к ногам.
– Братцы! Родные!.. – закричал Артемов. – Погубили меня, му́кой довели до смертного исступления. Себя не жалко, вас жалею, что остаетесь вы на страдания. А еще жалею, что капитана Вернера не убил.
Он вскочил на подоконник. Видно было, как тяжело подымалась его грудь.
– Одного пожарного застрелил, сам он на меня лез. А теперь вас, братцы, заставят меня брать…
– По преступнику пальба взводом… взвод – пли! – скомандовал Жогин.
Но караул не подымал винтовок. Солдаты стояли потупясь.
Артемов опустился на колени:
– Прощайте, братцы! Не хочу, чтобы вы по офицерскому приказу в меня стреляли. А живым я не дамся!
Он перекрестился, поднял к сердцу черное дуло револьвера.
Глухой крик волной прошел в солдатской толпе. Тело Артемова поползло вниз…
Полковник Максимов вышел вперед.
– Кроме караульных, всем разойтись по ротам! – распорядился он. – Господ офицеров прошу зайти в собрание! – И, прихрамывая, начал подниматься вверх по лестнице.
Об этом случае много говорили в полку. Вернер был отправлен в двухмесячную командировку. Офицеры и унтер-офицеры стали вести себя более сдержанно, меньше жучили солдат. И в ротах, по разным закоулкам, начали стихийно возникать солдатские сходки.
Карцев был очень возбужден. Ему казалось, что именно вот сейчас наступило время действовать: солдаты раздражены, готовы к смелым выступлениям, на городских фабриках бастуют рабочие. «Надо только, – думал он, – объединить все силы».
Перед вечером, в одно из воскресений, собрались на квартире у фабричного машиниста Семена Ивановича, освобожденного под расписку о невыезде. Карцев говорил, не в силах скрыть горячей досады:
– Упустили мы, товарищи, хороший момент! Караульным надо было застрелить Жогина, всем броситься по ротам, взять винтовки и патроны, овладеть городом. Рабочие наверняка пошли бы за нами!
– Всех бы угнетателей на штыки подняли! – подхватил Черницкий. – Только бы кишки летели по воздуху.
– Потом связались бы с другими городами, – продолжал Карцев. – Могло бы развиться…
Семен Иванович вопросительно взглянул на Мазурина.
– Вы все это очень хорошо расписываете, – спокойно сказал Мазурин. – Возможно, что караульные и стреляли бы в офицеров, но вряд ли удалось бы поднять весь полк. Люди не подготовлены к выступлению, есть среди них и чуждые нам элементы. Нет, полк не выступил бы… Такие дела подготавливаются долго, исподволь, в широком масштабе. Должен быть, товарищи, прежде всего руководящий центр, должны быть привлечены массы народа. А здесь всех нас похватали бы, как кур… Но что нам теперь надо делать? – Он обвел глазами собравшихся; все с вниманием слушали его. – Первым долгом – вести беседы с солдатами, разъяснять им смысл того, что произошло, рассказывать, как тяжело угнетен наш народ и что единственный выход – взять власть в свои руки…
На фабрике провыла сирена. И один за другим тревожные гудки разорвали воздух.
– Наши бросают работу, – негромко сказал Семен Иванович, – вот и хорошо…
2
Карцев узнал от Мазурина, что на троицу предполагается массовка за городом, где должны встретиться солдаты и рабочие. Мазурин предложил пригласить тех, кому Карцев более всего доверяет. И он в эти дни все глубже и глубже заглядывал в души своих товарищей. Завел беседу и с Шарковым – молчаливым, нелюдимым солдатом.
Шахтер из Горловки, Шарков ходил согнувшись, как привык двигаться в низких штреках. Его трудно было расшевелить, он не любил разговоров, но Карцев все же растормошил его.
– Ты меня уму-разуму не учи, – оборвал Шарков. – Мы, шахтеры, народ меченый. Виду у нас, может, никакого нет, а на дело мы злые, знаем, почем фунт лиха. Вот так и запомни: злые на дело!
Повидал Карцев и Орлинского. Сиреневые глаза Орлинского смотрели мрачно, весь он казался подавленным и плохо отзывался о солдатах своей роты.
– Не с кем разговаривать, – жаловался он. – Ужасно неразвитые люди. Если попробуешь вызвать на откровенность, уставятся на тебя, как буйволы, и скорее спать. Разве с такими можно что-нибудь сделать?
Но Карцев не поверил ему. Неужели в третьей роте, где так ненавидели Вернера, не набралось бы хоть несколько человек, с которыми стоило бы хорошенько побеседовать?
Как-то после вечерних занятий Карцеву удалось добыть увольнительную записку. Во дворе он встретился с Мазуриным, и они вместе пошли в город. Перейдя мост, свернули в узкий переулок, застроенный одноэтажными домиками. Над переулком, весело шумя крыльями, кружила стая белых голубей. Они летели стремительно, красиво, видимо упоенные воздухом, небом, быстротой и радостью полета. На крыше ветхого домика стоял пожилой человек. Задрав голову, он размахивал шестом с привязанной к нему белой тряпкой. Мазурин остановился.
– Хорошо! – улыбаясь, сказал он. – Я мальчишкой любил гонять голубей… и сейчас бы погонял.
Они свернули за угол и вошли в ворота домика, ничем особенным не отличавшегося от других. Обитые ветхим полотном двери были открыты. В углу кухни примостилась старуха в коричневом платке и стирала. Голубая мыльная вода капала из корыта.
– Здравствуй, мать, – обратился к ней Мазурин. – Семен Иванович дома?
Она молча показала головой на соседнюю комнату, окном выходящую в садик. Там, за столом, сидели Семен Иванович в очках, вскинутых на лоб, и красивая молодая девушка в темном платье. Она курила. Выражение ясного спокойствия было во всех ее движениях.
– Добрый вечер, Семен Иванович, – сказал, входя, Мазурин. – Как дела? Привет, Соня, давно тебя не видел.
Она кивнула, улыбнулась. Семен Иванович скользнул взглядом по Карцеву и что-то вполголоса сообщил Мазурину. Последние слова произнес громко:
– Нет, Сергей (Карцев знал, что Мазурина зовут Алексеем), литература еще на вокзале, завтра получим.
Соня потушила папиросу, ткнула ее в пепельницу.
– Я получу багаж сегодня, – заявила она. – Нельзя оставлять до завтра.
Живые глаза Семена Ивановича пристально глядели на Соню. Она залпом выпила стакан холодного чая и поднялась.
– Через час вернусь.
– Погоди, – остановил ее Мазурин, – уже смеркается. Пока получишь багаж, совсем темно будет. Карцев обождет тебя в переулке возле вокзала. Дай ему какую-нибудь куртку, Семен Иванович, и шапку. Вдвоем им сподручнее…
Семену Ивановичу понравилось предложение Мазурина. Он достал из шкафа длинную куртку, картуз и передал Карцеву.
– Не выходи на свет, – учил Мазурин, – вперед смотри, чтобы не наткнуться на офицера. Если с Соней что-либо случится, не горячись, не лезь на помощь. Сам пропадешь, а ее все равно не выручишь. Возвращайся сюда, будем тебя ждать. Запомнил адрес? Стукнешь в дверь три раза.
Они вышли. Соня задержалась у ворот.
– Я пойду вперед, – предложила она. – Вы держитесь шагах в пятнадцати позади. В вокзал не входите ни в коем случае!
Она ступала по тротуару неторопливо, ни разу не обернулась. И, только входя в помещение вокзала, рассеянно повернула голову, вобрав одним взглядом фигуру в куртке и картузике, оставшуюся по ту сторону вокзальной площади.
Карцев стоял, скрытый выступом стены. Сзади был заваленный мусором пустырь. Через этот пустырь, в случае чего, можно уйти. Простоял так он долго, и в ту минуту, когда он подумал, что с Соней неблагополучно, она появилась в освещенном подъезде с небольшим чемоданом в руке. Вслед за нею вышел станционный жандарм – огромная туша в голубом мундире, с шашкой и револьвером в кобуре. Соня что-то спросила у него, он ответил ей, и она медленно спустилась по ступенькам на площадь. Жандарм ушел в вокзал.
Не ускоряя хода, она недалеко от Карцева завернула за угол. В это время человек, лениво вышедший из ворот, перешел на другую сторону, зашагал в одном направлении с Соней. Карцев мучительно решал два вопроса: следит ли шпик за Соней и знает ли она об этом? Соня раза два останавливалась, перекладывала чемодан из руки в руку, а дойдя до следующего угла, направилась совсем в другую от дома Семена Ивановича сторону.
«Значит, заметила», – понял Карцев.
А шпик продолжал идти по стопам Сони. Теперь он держался осторожнее, заходил в ворота, увеличивал расстояние между собой и выслеживаемой.
«Его надо задержать, – подумал Карцев. – Но как это сделать?»
Он пошел, пьяно качаясь, напевая песенку, и, нагнав шпика, засмеялся, расставив руки.
– Коля! – пробормотал он. – Милый друг! Пойдем выпьем.
– Отвяжись! – рассердился шпик, мельком взглянув на Карцева. – Ты вот у меня выпьешь.
– Н-ну, и пойду, и выпью, – бессмысленно смеясь, говорил Карцев и, покачнувшись, упал к ногам шпика, схватил его за колени.
– Ах, сволочь! – шпик толкнул ногою Карцева.
Вскочив, Карцев что было силы ударил его в солнечное сплетение (этому приему его научили в одесском порту). Взглянув на черную, без крика свалившуюся фигуру, Карцев побежал.
Соня была уже дома.
– Вы видели, что за вами следили? – спросил Карцев.
– Конечно. Надеялась, что вы его запутаете. Спасибо.
Он рассказал, как все было.
– А если бы попался? – спросил Семен Иванович. – Где можно без риска, нельзя подвергать себя опасности.
– Другого выхода не было. Ей с чемоданом не уйти бы от него.
– Хвалю, – строго проговорил Семен Иванович, и теплые лучики появились в его глазах. – Смотри только, не зарывайся.
Карцев быстро переоделся, и они с Мазуриным пошли в казарму.
3
Наружная дверь казармы чуть приоткрылась. Старый крестьянин в лаптях, с мешком за плечами, боком протиснулся в нее, проворно скинул шапку и низко поклонился дневальному.
– Куда лезешь? – сердито закричал тот. – Сюда нельзя!
– Сынок… господин рядовой! – торопливо заговорил крестьянин, прижимая к груди шапку. – Мы по, родному делу. Сын у меня тут. Василий Рогожин. Мы сами служили при его величестве Ляксандре. Пусти, господин рядовой. Беда у нас в деревне… С бедой приехали мы…
– Нельзя в казарму, сказано тебе! – шумел дневальный. – К нам вольные не ходят.
И в это время в сенцы вышел Рогожин.
– Вася? Сыночек! – бросился к нему старик, обнял и расцеловал его. – Поклон тебе низкий от родной матери, от брата Алексея, от сестры Матрены… С бедой я к тебе, сынок… – Он всхлипнул, шапкой вытирая слезы.
Они отошли к окну.
– Усадить вас, батя, негде, – смущенно сказал Рогожин. – Уж извините… Какая же беда стряслась?
Старик не успел ответить. На пороге сенцев выросла фигура старшего унтер-офицера Колесникова.
– Это еще что такое? – крикнул он.
Рогожин опустил руки по швам:
– Отец это мой, господин взводный! Дозвольте с ним поговорить? С горем приехал…
– Иди, иди вон, лапотник! – точно не слыша Рогожина, приказал Колесников.
Крестьянин, покорно кланяясь, пошел к двери.
Кровь прилила к лицу Рогожина, но он овладел собою и робко попросил разрешения выйти из казармы, чтобы там побеседовать с отцом.
– По команде надо, – грубо ответил Колесников. – Службы не знаешь. Доложишь отделенному командиру. Пускай разрешит обратиться ко мне.
И он величественно проследовал в казарму.
После долгих и унизительных просьб Рогожин добился разрешения обратиться к ротному командиру. Васильев удивленно посмотрел на солдата: нижние чины не часто обращались к нему.
– Ваше высокоблагородие, – начал Рогожин, вытянувшись и подобрав живот, – помогите, Христа ради. Отец приехал. Пропадает семья… Погорели мы, ваше высокоблагородие, а лесу нет, денег нет, строиться нечем. Может, написали бы, чтобы подмогли отцу, отсрочку бы на подать дали… А то чем же платить?
Он рукой смахнул слезу.
– Отец говорит, – почти неслышно продолжал Рогожин, – иди, мол, к командиру, ты, дескать, царю служишь, вот и проси помощи, больше не у кого…
И, подняв на Васильева красные от слез глаза, закончил:
– Допустите отца, покорнейше вас прошу, ваше высокоблагородие. Просить хочет вас о помощи.
Капитан смущенно дергал себя за усики.
– Вот что, голубчик, – сказал он, вздыхая. – Я, конечно, всей душой сочувствую твоему горю и рад бы, конечно, помочь, но… что я могу сделать? Средств у нас никаких на оказание помощи нет, написать, голубчик, я никому не могу, – скажут еще, что вмешиваюсь не в свое дело. Ну, посуди сам, братец, чем я могу тебе помочь? Он торопливо достал из кармана трехрублевку, подумав, добавил еще рубль и сунул деньги Рогожину, не глядя на него.
– Вот передай отцу, – сказал он. – А говорить мне с ним незачем.
– Покорнейше благодарю, ваше высокоблагородие, – глухо ответил Рогожин.
4
Денисов докладывал командиру полка Максимову очередные дела. Командир читал бумаги, делал замечания, подписывал документы. На одной бумаге он задержался.
Денисов бегло заглянул в нее.