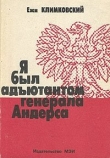Текст книги "Солдаты вышли из окопов…"
Автор книги: Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 29 страниц)
– Эй, земляк! Не спишь?
Мазурин встал, подошел к двери. Из глазка потек страстный, приглушенный голос:
– В Петрограде волнения. Солдаты отказались в народ стрелять…
Голос сразу потух, в коридоре послышались чьи-то шаги. Минуту спустя говоривший снова подошел к двери, поднял крышку глазка. Это был часовой.
– Видел я, когда тебя в камеру вели, – заговорил он. – Много н а ш е г о брата здесь перебывало. Одних – в землю, других – на каторгу. С тобой-то что будет? Ах, милый… Горе, горе… Бьемся как мухи в паутине… Я ведь знаю – сюда тихих не приводят. Кто за нашу солдатскую правду стоит – того и хватают. Что будет с Россией-то, с народом?..
Он слушал Мазурина с такой жадностью, с какой пересохшая земля впитывает в себя влагу. Задавал отрывистые вопросы. О себе сказал:
– Мы – нижегородские. Братан у меня на Сормове работал. Теперь тоже воюет, а где – не знаю. Может, убили…
Он стремительно отскочил от двери, забыв прикрыть глазок, поправил на ремне винтовку. Лязгнула входная дверь, послышались шаги нескольких человек, чей-то начальственный, сердитый оклик. Мазурин прильнул к глазку и едва подавил готовый вырваться крик. Двое конвойных провели мимо его камеры Пронина. Мазурин до боли стиснул пальцы, мысли лихорадочно проносились в его мозгу: «Неужели раскрыли всю организацию? Как могли взять Пронина, ведь он лучше всех законспирирован? Значит, взяли и Балагина, Карцева, Иванова… Как бы узнать? Ах, как бы узнать?..»
В соседней камере ржаво взвизгнул замок.
«Рядом со мной посадили», – подумал Мазурин. Он немного выждал и затем стукнул в стенку. Молчание. Он снова и медленно простучал: «Пронин, это я, Мазурин. Как тебя взяли? Как Балагин? Карцев, другие?»
Пронин был осторожен. Он заставил Мазурина ответить ему на некоторые проверочные вопросы и лишь тогда ответил: «С другими пока хорошо. Меня подвела бумага о тебе… Я ее похитил… Денисов раскрыл. Набросился с кулаками. Я тоже его ударил. Вероятно, расстреляют. Если выберешься – передай привет товарищам. Обо мне не печалься. Не боюсь смерти, не струшу!»
На рассвете Пронина увели. Проходя мимо камеры Мазурина, он на мгновение остановился.
– Прощай, Алексей! – крикнул он. – Поклонись товарищам!
– Прощай, Пронин! Мы не забудем, не забудем тебя!
Мазурин застонал от страшной скорби, охватившей его. Он метался по камере, страдая от своего бессилия. Мучительно тянулось время. Через окно глухо донесся ружейный залп. Мазурин рванулся так, будто выстрелили в него.
Это было в феврале тысяча девятьсот семнадцатого года.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
Карцев метался во сне. Ему снилось, что на него налез немец – огромный, грузный, и он никак не мог сбросить его с себя. Потом он схватил немца за грудь, но тот так его встряхнул, что он вскрикнул и открыл глаза. Кто-то, наклонившись, тряс его за плечи. Балагин! Глаза у него горели, губы дрожали.
– Что случилось?
– Вставай! Революция!.. Вставай скорее и буди товарищей. Эх, черт побери, Мазурина бы нам сейчас!..
В землянке рядом спали Голицын и Черницкий, а немного поодаль, с головой укрывшись шинелями, лежали Защима, Чухрукидзе, Рышка и Рогожин. В углу, свернувшись калачиком, спал Комаров. Когда их разбудили, Голицын бросился к винтовке, думая, что объявлена боевая тревога. Черницкий, густо покрякивая, достал махорку, и Комаров, как обычно, цепкими пальцами залез в его кисет.
Новость по-разному подействовала на солдат. Голицын солидно осведомился, не врут ли; Рышка немедленно спросил Балагина, дадут ли землю крестьянам; Рогожин, мелко крестясь, радостно бормотал: «Слава тебе господи! Теперь непременно мир будет, по домам пойдем»; Защима объявил, что он первым делом зарежет фельдфебеля; Чухрукидзе сгоряча сказал что-то по-грузински Черницкому, и тот, хотя ничего не понял, дружески закивал ему и повторял: «Правильно, брат, правильно!»
– Не обман, не ошибка? – спросил Карцев осевшим от волнения голосом. – Расскажи все подробно.
Он представил себе родную Одессу, широкую Преображенскую улицу, по которой, может быть, уже идут колонны рабочих с алыми знаменами, бульвар, знаменитую лестницу, сбегающую террасами вниз к порту, – как хотелось ему хоть на денек увидеть все это!..
А Балагин думал о том, что надо скорее оповестить солдат о великих событиях. Он взглянул на крестящегося Рогожина, на выжидательно смотревшего Рышку. Все солдатское сошло с Рышки, его острая бородка опустилась, он отжевывал усы.
– Теперь хорошо будет, – ласково сказал Балагин.
– Это уж как водится… – неопределенно ответил Рышка. – Одним хорошо, а нам всегда плохо. Ты вот объясни: без царя, значит, жить начнем? А не страшно? Кто теперь за порядком уследит? А становые, урядники – останутся? Воевать не кончим? Землице кто хозяином будет?
Он расспрашивал страстно, настойчиво, хорошо помня и девятьсот пятый год, и расправу, которая затем последовала, и земляков, отправленных на каторгу… Горько было ему, что не мог он разобраться в том, что случилось теперь, и вопросительно, с тревогой глядел на Карцева, на Иванова, с которыми не раз по душам беседовал, которым верил: не повторится ли то же самое и сейчас, в семнадцатом году?
…Прошли первые дни Февральской революции – сумбурные и еще непонятные. Выяснилось, что во многих частях офицеры скрывают от нижних чинов события в стране. Солдаты собирались кучками, оживленно толковали и враждебно смолкали, когда появлялись офицеры. А те растерялись. Среди них было много прапорщиков, сочувственно принявших весть о революции. Но главной бедой кадрового офицерства было малое политическое развитие, полная беспомощность перед разразившейся бурей, оторванность от солдатской массы, которая их ненавидела и не верила им.
В те дни Мазурин сидел в тюрьме. Двадцать восьмого февраля его снова вызвали в суд. Подполковник прочел приговор:
– «Военно-полевой суд Энской армии постановил: старшего унтер-офицера Алексея Ивановича Мазурина разжаловать, исключить из списков армии и расстрелять за принадлежность к преступной социал-демократической партии, поставившей своей целью низвержение существующего строя и борьбу против ведения войны».
Мазурин внешне спокойно выслушал приговор. Но когда его привели обратно в камеру и он подумал, что через несколько часов – смерть, что в последний раз увидит он высокое небо, услышит шум ветра, голоса людей (каким дорогим все это казалось ему сейчас!) и все – весь мир, товарищей, Катю, надежду на грядущую революцию – все это он утратит навсегда, лицо его сжалось от боли, губы задрожали. Человеческая слабость на какие-то секунды овладела им. Но вдруг что-то свершилось с ним. Та большая сила, что всегда вела его вперед, вновь проснулась в нем. Он вздохнул глубоко, как человек, вынырнувший из омута.
– Ну что же, – вслух сказал он. – Если так надо во имя нашей борьбы – встречу смерть, как в бою!
Он услышал шорох под дверью и вспомнил часового, с которым разговаривал. «Передаст письмо, – подумал Мазурин, – и бумагу достанет, и карандаш…» Он сосредоточился, думая о том, что написать товарищам в предсмертный час. Но вот раздался топот многих ног в коридоре, зазвучали чьи-то голоса, кто-то сильно застучал в дверь камеры. Мазурин выпрямился, оправил гимнастерку, подтянулся, чтобы достойно, как подобает солдату-большевику, с поднятой кверху головой выйти на казнь, и вдруг услышал радостно-отчаянные крики:
– Ур-ра! Ура-а! Ура-а!
Дверь стремительно распахнулась. Никогда так не открывали ее тюремщики… Несколько солдат с винтовками вбежали в камеру, и один из них крикнул Мазурину:
– Революция в Питере! Царя сбросили! Революция, дорогой друг! Выходи! Ур-ра!
Солдаты бросились целовать Мазурина.
На следующий день он уже был среди своих. Его охватило никогда еще не испытанное ощущение полета: будто он несется по воздуху подобно птице, подымается все выше и выше и солнце светит ему, как не светило еще никогда…
Вскоре он получил петроградские газеты и, дрожа от радости, читал солдатам о войсках, присоединившихся к восставшим рабочим, об аресте царских министров, о том, что Москва и другие крупные города следуют примеру Петрограда. Он собирал вокруг себя всех известных ему большевиков, завязывал связи с соседними частями. Солдатские собрания происходили почти непрерывно, надо было отвечать на бесчисленные вопросы людей, хотевших узнать, что происходит в стране и что может им дать революция. И все горькое, что было спрятано в сердцах миллионов солдат, не находя выхода, прорвалось, как прорывается полноводная река сквозь плотины, долго державшие ее.
Карцев с радостно сияющими глазами говорил Мазурину:
– Не узнаю людей, Алеша! Самые забитые стали другими, честное слово! Столько вопросов, что и не ответишь. А некоторые даже выступают в печати, во как! Коряво, правда, говорят, но зато – от сердца! Очень, очень интересно их слушать.
Через два дня в армии стал известен приказ № 1 Петроградского Совета:
«Во всех ротах, батареях, батальонах, полках немедленно выбрать комитеты из представителей нижних чинов; во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету Рабочих и Солдатских Депутатов и своим комитетам; всякого рода оружие должно находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам даже по их требованиям; вставание во фронт отменяется; титулование – «ваше превосходительство», «ваше благородие» и тому подобное – отменяется и заменяется обращением: «господин генерал», «господин полковник» и т. д. Грубое обращение с солдатами, в частности обращение к ним на «ты», воспрещается…»
Чтение каждого пункта приказа сопровождалось бурей восторга.
– Кончилась ихняя власть! Хватит над солдатом измываться!
– И солдат за людей стали считать!
– Ура, ребята, наша взяла!
– Выбирать скорее комитеты!
– Милые, братики родненькие! Теперь одно только и осталось: кончать войну и по домам!
– Кончать ее, сволочь, скорее!..
На одном из собраний, происходившем недалеко от штаба дивизии, выступил Рышка, выступил и страшно испугался собственной смелости. Заговорил несвязно:
– Люди славные! Все у меня в голове путается… Не знаю, что теперь к чему? К чему, скажем, нам эта война?.. Земля, скажем, плачет по мужику, а какая она у нас, земля-то? Скажем, раз прыгнешь – и межа. А без земли, люди славные, пропадать нам…
И, окончательно смешавшись, Рышка юркнул в толпу. Вслед за ним выступил Иванов.
– Товарищи! Пришло время народу решать свою судьбу, – сказал он. – По всей России борются наши братья – рабочие, крестьяне и солдаты. Вот Рышка не понимает, что к чему. Пускай не прибедняется! Он хорошо знает, что нужно ему, рязанскому крестьянину. Земля ему нужна, да чтоб не сидели у него на шее помещик и становой, чтоб мог Рышка жить как свободный человек, без нужды! Вот за это и надо ему бороться. А чтобы легче было, нужно деревенскому мужику объединиться с рабочим в городе – одни у них интересы! Весь трудовой народ должен взять власть в свои руки, и тогда, товарищи, нам не будет страшен никакой враг! Выгоним не только царя, но и всех его министров, помещиков, становых, урядников, фабрикантов, всю землю отдадим тем, кто ее обрабатывает. Вот в чем цель нашей народной революции, вот за что надо бороться тебе, товарищ Рышка, и нам всем!
Его слушали в глубоком молчании, в великом изумлении. Петроградский рабочий, большевик раскрыл перед ними новый, чудесный мир, о котором они не знали или знали очень мало. И события, что казались им стихийными, встали перед ними в другом, понятном для них свете. Люди заволновались. Выходили один за другим – лохматые, неловкие, с трудными словами – и говорили, говорили. Их слушали, кричали, шумели, спорили…
Невысокий солдат в барашковой шапке, держа обеими руками винтовку, говорил, не то угрожая, не то спрашивая:
– Ротный у нас хотя и не стервь, но жох и строгий. Как же я ему скажу ныне «господин поручик»? Даст по морде, и будь здоров. Ей-богу, приказ приказом, а голос не подымается… Двести лет так называли, и на тебе – скисло молоко…
Кто-то вразумительно советовал:
– Обману чтоб не вышло, братцы. Приказ этот надо топором на камне вырубить.
Голицын, упершись руками в бородатые щеки, с остановившимся, ушедшим в глубину взглядом, сидел на пне. Был он «луженый», много натерпевшийся за свою крестьянскую и солдатскую жизнь, любил говаривать: «Мы – что лошади: без кучера не живем, а какой же кучер без кнута?» – и всем опытом своей жизни убеждался в истине этих слов. И вдруг все перевернулось. До конца ли перевернулось? Ведь была уже одна революция, он хорошо помнит ее: полгода пробирался домой из далекой Маньчжурии с солдатским эшелоном, видел в родной деревне сожженный дом помещиков Дурасовых, потом понаехали казаки, исправник, и все пошло по-старому…
Жесткая рука схватила его за плечо, и он увидел перед собой Черницкого.
– Ну, дядя, давай поцелуемся. Солдату не часто выпадает такой денек.
Голицын охватил Черницкого толстыми, сильными руками, трижды поцеловал в губы и растроганно пробормотал:
– Гилель! Милая душа… Ну, дай бог, дай бог…
– Целуетесь? – услышали они веселый голос. К ним подошел с красным бантом на груди поручик Петров.
Широко улыбаясь, Черницкий ответил:
– Так точно, целуемся, ваше благоро… – И поправился: – господин поручик!..
Тут же оказался и Защима. Всегда мало говоривший, но внимательно слушавший, он на этот раз решил высказаться.
– Мне про царя интересно узнать, – протянул он своим тягучим голосом. – Где он теперь? Надо его поймать и – в Петропавловскую крепость, а то может от него большой вред быть. Меня за него в дисциплинарном мытарили, воевать за него заставляли, фельдфебель за него в морду меня бил. Не хочу я больше царя. И другого заместо него не надо. Хватит с помазанниками божьими водиться!
Никогда еще Защима не произносил такой длинной речи, и товарищи с удивлением смотрели на него. Лицо у него было, как всегда, каменное, голос вялый, но какие-то новые, необычные для равнодушного Защимы искорки горели в глазах.
2
Когда начались выборы в солдатские комитеты, солдаты не знали, кого им выбрать. В политическом отношении многие из них были наивны, как дети, их легко было завлечь красивыми словами. Часто они выбирали краснобаев, чужаков, у которых был хорошо подвешен язык. Карцев с огорчением сказал Мазурину:
– Тут какой-то капитан генерального штаба доказывал, что теперь Россия для всех одна и все они перед нею равны и поэтому надо выбирать в комитеты поровну и солдат и офицеров. Они ему хлопали. Потом военный врач, эсер, рассказал о земле, об Учредительном собрании, что, мол, надо еще завоевать право на свободу – побить врага. Они и ему хлопали. Что же это будет? Вокруг пальца обведут?
– Не обведут, – возразил Мазурин. – Присмотрятся – поймут, кто друг, а кто враг.
Мазурин работал днем и ночью. С горечью вспоминал он Пронина. Всего несколько дней не дожил до революции этот бесстрашный человек, а как ждал он ее, как мечтал о ней! Приходили к Мазурину солдаты из других полков, настойчиво спрашивали:
– Комитеты эти, к чему они солдату – к пользе или ко вреду?
– Своих выберешь – к пользе, чужаков – ко вреду, – отвечал Мазурин.
– Ну, так. А война – кто с ней разделываться будет?
– Пока весь народ за это дело не возьмется, заставят нас воевать.
– А если царя скинули, это разве не конец войне?
– Нет, не конец. Кто в новом правительстве? Помещики, фабриканты. Им война выгодна, они наживаются на ней. Как раньше нам с ними не по дороге было, так и теперь, – объяснял Мазурин.
– Вот оно что… Стало быть, они и мириться не будут, и земли своей мужику не отдадут?
– Не заставишь силой – не отдадут. А мириться тоже, по всему видно, не собираются. Требуют войны до победы. Но боятся народа. Народ сейчас в силе, вот и надо ему всегда сильным быть…
В полковом солдатском комитете, председателем которого был Мазурин, встречались разные люди, но больше всего пролезло туда эсеров. Они обещали солдатам землю, хвалясь, что только они составляют крестьянскую партию, и солдаты охотно записывались в их ряды, не зная, что в сущности представляют собою эсеры. Мазурин разыскивал, как драгоценные зерна, немногочисленных на Юго-Западном фронте большевиков, вызывал к себе рабочих, создавал партийные ячейки, старался держать связь с Петроградом, куда собирался съездить на несколько дней.
Солдаты, приходя в комитеты, часто жаловались на офицеров. Ссоры с ними возникали буквально на каждом шагу и по каждому поводу. Большинство офицеров полагало, что революция уже закончена, Временное правительство сидит прочно и война будет продолжаться до победного конца. Стихийное движение среди солдат за мир, нескрытая ненависть к офицерам пугали их: они видели, как армия уходит из-под их власти. Лишь немногие чувствовали себя хорошо. Среди таких был Петров. Он ходил с красным бантом, и когда Васильев, как-то приехав в полк, сказал, что не было приказа, разрешающего офицерам носить красные банты, Петров решительно запротестовал:
– Не сниму! Неужели не хватит с нас, Владимир Никитич, приказами жить? Теперь другое время!
– Как бы нас с вами это время жестоко не посекло, – грустно ответил Васильев. – Боюсь, затопит нас страшное солдатское половодье…
– Ну и пускай затопит! Ширь-то какая открывается, простор, свобода! Нет, теперь уж не посмеют не принять меня в университет оттого, что я бурсак. Шалишь!
И, соорудив из трех пальцев кукиш, Петров сердито сунул его под нос воображаемому врагу.
А комитеты все расширяли и расширяли свою работу и влияние. Так велика была бурная солдатская волна, так неудержимо катилась она вперед, что все пришлые, случайные и даже враждебные революции люди, которых, как сор и грязную пену, нанесло в комитеты, не могли помешать самому главному, что совершалось в солдатском сознании: неискоренимой ненависти к старому, стремлению к новой, лучшей жизни, желанию скорее покончить с войной.
3
Наконец Мазурину удалось поехать в Петроград вместе с другими солдатскими делегатами. Была ранняя весна, тугие почки взбухали на деревьях, только что прилетевшие грачи хлопотали, строя гнезда.
Мазурин зорко наблюдал, что делается на станциях, в городах, слушал, о чем говорят в вагонах. Для него было прекрасным это зрелище вздыбленной революцией России, пытливые расспросы куда-то едущих людей. Все были беспокойны, все спешили, у многих в глазах светилась радостная взволнованность; но были и такие, что смотрели пугливо, недоверчиво. И если взглянуть со стороны, то могло показаться, что огромный плуг разворотил целину и свежеразвороченная земля пахнет по-весеннему и веет от нее могучей, черноземной, плодородной силой.
Из делегатов, ехавших вместе с Мазуриным в Петроград, выделялся Демидов – тульский крестьянин, самодовольно называвший себя эсером. Он радовался поездке, делегатскому званию и каждый раз разглядывал и перечитывал мандат со своей фотографической карточкой.
– Вот оно куда солдат поднялся! Сроду прежде такой чести не было. Одно слово – ривалюция! Заживет теперь мужик барином… на своей земле заживет!
– Как это на своей? – спросил его Мазурин. – Так тебе ее и дадут, держи карман шире!.. Твои эсеры еще долго воевать хотят, народную кровь пить…
Демидов задумывался.
– Война, она, конечно, не радость, – проговорил он. – Да ведь, понимаешь, рипарации эти, свободу защищать…
– Да не болтай ты с чужих слов, – усмехнулся Мазурин. – Просто скажи, подумав, что тебе, солдату и мужику, надо. Ну? Сорока ты или человек? Соображать нужно!
Демидов неуверенно посмотрел на него:
– А я… я соображаю… Эсеры, брат, за крестьян. Они нас в обиду не дадут, у них и программа такая…
– Ты своим умом живи, не чужим, – дружелюбно посоветовал Мазурин. – К жизни присматривайся, к людям, к тому, что кругом делается, тебя жизнь и научит.
– А научит, так мы на то согласны, – с неожиданной простотой сказал Демидов и вздохнул. – Мы только обману боимся. – И с завистью добавил – Тебе, может быть, и хорошо, что ясно видишь. А мужик – он ощупкой берет. Пока рылом не наколешься, не узнаешь, где хорошее-то лежит. Вот и ищешь…
Петроград встретил шумно и неприветливо. Был пасмурный апрельский день, тучи низко стояли над городом и в них тонули острый шпиль Адмиралтейства, массивные купола Исаакия. Мазурин широко раскрыл глаза, увидев по-прежнему на площади перед вокзалом царя верхом на битюге. Ему почему-то показалось, что памятник этот, напоминавший конного городового, должны были убрать.
– Что ж это вы царя оставили? – обратился он к милиционеру в штатской одежде, с красной повязкой на рукаве, дежурившему на площади.
– Этот не опасен, – засмеялся милиционер. – Чучело. А сынка-то его убрали…
Мазурин почти бегом понесся по Невскому. Он любил эту широкую, прекрасную улицу. Все здесь казалось новым, необычным. Он, как приятелям, улыбался красным флагам, вывешенным на многих домах, радовался, что не видно больше монументальных фигур городовых на перекрестках, и так приятны были ему скромные милиционеры – рабочие в стареньких кепках, с хорошими, мужественными лицами. Он пробирался на Каменноостровский, все наблюдая за уличной жизнью города, только что сбросившего с себя вековую царскую власть. Встречая офицеров, не раз ловил на себе их недобрый, настороженный взгляд и думал: «А ведь много их здесь. Щеголяют, как на параде».
Из-за угла вышла колонна рабочих с винтовками за плечами. Их вел унтер-офицер, и они шагали стройно, в ногу, держа равнение в рядах. По темным, точно обгорелым лицам, по курткам, по знакомому облику Мазурин узнал металлистов.
– Вот молодцы! – вырвалось у него. – Как гвардейцы идут!.. С какого завода, товарищи?
– Путиловцы, – ответили ему.
Он, с походным мешком за спиною, в мятой фронтовой шинели, присоединился к колонне и через минуту жарко разговаривал, засыпал рабочих вопросами. Несказанно хорошо было видеть их, вооруженных и организованных, как хозяев проходящих по улицам города.
– Далеко идете?
– В Петроградский комитет большевиков.
Он увидел красивое двухэтажное здание с балконом, где на косо укрепленном древке развевался красный флаг; у подъезда стояли матросы и рабочие. У него потребовали мандат и, посмотрев бумагу с печатью солдатского комитета, показали, куда идти.
Мазурин поднялся по мраморной лестнице на второй этаж, прошел несколько комнат, заполненных людьми, и заглянул в крайнюю, видимо служившую прежде гостиной. У окна за резным столиком сидели двое. Один – в очках, с черной бородкой, лет тридцати пяти на вид, в потертой кожаной куртке и простых сапогах. Он внимательно слушал, что говорил ему собеседник. Потом взглянул на Мазурина, остановившегося в дверях.
– Вы, похоже, прямо с фронта, товарищ? Присаживайтесь.
– С фронта, – подтвердил Мазурин. – Делегат солдатского комитета, большевик. Мне хотелось бы поговорить с кем-нибудь из членов Центрального Комитета.
– Очень хорошо! Человек в очках встал.
– И нам интересно побеседовать с вами. – Он крепко пожал руку Мазурину. – У вас и мандат, конечно, есть.
Он взял документ, не стал читать его, только посмотрел на фамилию, вернул мандат Мазурину и пригласил сесть.
– Приятно видеть мандаты солдатских фронтовых комитетов, – улыбнулся он. – Я – Свердлов. Ну, что у вас делается на фронте, товарищ Мазурин?
И Мазурин обстоятельно, не спеша, но с нескрываемым волнением рассказал о настроениях солдат, о первых шагах солдатских комитетов.
– Нам о многом придется поговорить с вами перед вашим возвращением на фронт, – выслушав Мазурина, сказал Свердлов. – О многом и важном! Условимся, что вы зайдете к нам завтра в десять утра. Это вас устраивает?
– Так точно! – с привычной солдатской четкостью ответил Мазурин. И, немного поколебавшись, спросил – это было главное, о чем он думал и на фронте и по дороге в Петроград: – Когда приедет Ленин?
И так страстно вырвался у него этот вопрос, что Свердлов, улыбнувшись, ответил:
– Мы скоро увидим его здесь.
…Мазурин медленно шел по улицам. Печатая шаг, промаршировал отряд щегольски одетых юнкеров с новенькими винтовками на плечах, с двумя офицерами впереди строя. Мимо в коляске проехал генерал, офицер скомандовал, и юнкера, повернув одним движением головы направо и перестав махать руками, так ударили сапогами о мостовую, что все прохожие невольно обратили на них внимание.
«Для этих как будто и революции не было, настоящая старая армия…» – подумал Мазурин.
Проходя мимо богатого особняка, он увидел в большом зеркальном окне выхоленное лицо мужчины. На мгновение их глаза встретились, и такая смертельная ненависть выразилась в глазах смотревшего из окна господина, что Мазурин непроизвольно сделал движение в сторону, как от направленного на него удара.
Он не заметил, как подошел к нему человек в рабочей куртке и хлопнул по плечу:
– Неужели Алексей?
Мазурин узнал Ивана Петровича и обрадовался. Они расцеловались.
– Никак с фронта? Надолго в Питер?
– Дня на три, на четыре. Сегодня был в Цека.
– Хорошо! Одно скажу: вовремя приехал. Ночевать у меня будешь.
– Спасибо. Как Сашенька твоя, здорова?
– Что ей делается! Золотая она у меня, верный помощник… Очень рад, что тебя встретил. У нас фронтовики-подпольщики на вес золота ценятся, – засмеялся Иван Петрович.
Они прошли Николаевским мостом, и, когда свернули на Конногвардейский бульвар, Иван Петрович взял Мазурина под руку и загадочно проговорил:
– Спать сегодня нам не придется. Пойдем на Финляндский вокзал.
От неожиданности Мазурин остановился.
– Ленин? Да?
– Ленин! Нынче ждем.
Охваченные предчувствием большого, радостного события, они шли молча и смотрели вдаль, где освещенные солнцем весенние облака плыли по небу, как алые знамена.
4
День шестнадцатого апреля (третьего по старому стилю) был праздничный, и заводы не работали. Утром в Цека большевиков было получено сообщение из Финляндии, что Ленин выехал в Петроград и должен быть вечером. Решили оповестить все районы, все заводы и воинские части о предстоящем приезде Владимира Ильича. На многих заводах изготовили плакаты: «Сегодня приезжает Ленин!» – и группы рабочих пошли с этими плакатами на Выборгскую сторону, за Невскую заставу, на Охту, за Нарвские ворота – к Путиловскому заводу.
Во второй половине дня в бывший дворец Кшесинской, где помещался Цека большевиков, начали непрерывно звонить из районов и приходить с расспросами – когда, в котором часу ждать Ленина. Ощущение большого праздника все росло. Рабочие сами решали, что идти встречать Ленина надо всем, и еще до наступления вечера первые колонны, неся впереди красные полотнища с надписью «Привет Ленину!», двинулись к Финляндскому вокзалу.
Мазурин, захлестнутый радостью, с утра метался по городу, побывал на Выборгской стороне, за Нарвской заставой и после полудня очутился на набережной Невы, возле Николаевского моста. Здесь он увидел стремительно идущий от взморья корабль. На палубе было черно от матросских бушлатов, блестели штыки. Он побежал к пристани. Корабль медленно, бортом пришвартовывался к пристани, но матросы, не дожидаясь, прыгали с корабля и строились в ряды. Их было много, и Мазурин спросил у широкогрудого матроса с ярко-желтыми, как у ястреба, глазами, с перекрещивающимися на груди патронными лентами, зачем прибыли матросы.
– Организовать охрану товарища Ленина! – гордо ответил матрос.
Они протянули друг другу руки.
Поезд ожидался около одиннадцати часов вечера, но Иван Петрович и Мазурин пошли на Финляндский вокзал значительно раньше. На улицах было темно – лишь немногие фонари тускло горели на перекрестках да в небе, сквозь легкие облака, намечались серебристые точки молодых, чистых звезд. Пройдя несколько кварталов, они услышали глухой шум, напоминавший морской прибой, и увидели вдали какие-то движущиеся огненные блики. И чем ближе к Финляндскому вокзалу, тем сильнее нарастал шум, тем ярче становились огни. Улицы были запружены во всю ширь густыми рядами людей. Смолистые факелы горели темно-красным, дымным огнем. Знамена, выхваченные светом факелов из темноты, люди в рабочих куртках, солдатских шинелях, матросских бушлатах, драповых пальто, кофтах, в папахах, в бескозырках – все это огромное, тесное и сильное движение человеческих масс потрясло Мазурина. Он с таким чувством, будто и его подхватили волны этого живого моря, рванулся вперед, увлекая за собой Ивана Петровича.
Они шли, крепко держась за руки. Хотя был поздний холодный вечер, но им казалось, что сейчас светло, какая-то особая теплота согревала их… Вдруг брызнули ослепительные лучи. Они ушли вверх, уперлись в облака, где возникли круглые световые площадки, потом побежали вниз, вонзились в окна вокзала, наполнив их клубами кипящего света, скользнули по площади и скрестились на броневике, стоящем против входа в вокзал. Народ из прилегающих улиц вливался на площадь. Но, несмотря на многолюдие, здесь не было суеты и беспорядка. Все двигались как бы в грозном, боевом строю, тесно, локтем к локтю. Мазурин хорошо знал это «чувство локтя», когда справа и слева стоят товарищи, которые вместе с тобою пойдут вперед, не отступят, не выдадут. И вот он снова в рядах боевых друзей, и не было сейчас для него никого ближе и дороже их. Мазурин с обостренной внимательностью всматривался в окружавшие его, издавна знакомые лица. Но было в них нечто, еще неведомое ему, и это неведомое волновало: вот рядом старик в русской, совсем новой фуражке, видимо, надевал ее только по праздникам вместо будничной, промасленной кепки, лицо торжественное, глаза строгие, напряженные, а губы что-то шепчут. Дальше плечом к плечу трое: один совсем молодой, лет девятнадцати, второму за сорок, третий еще старше, сутулый, кряжистый, с широкими плечами, – все в нетерпеливом ожидании. Несколько солдат и два матроса стоят вытянувшись, как на параде, смотрят на двери вокзала. Слева – женщины. Одна уже не молодая, накрест повязанная шалью, к ней жмется девочка, похожая на нее.
– Дочка, что ли? – спрашивает с суровой нежностью солдат в серой папахе. – Смотри, затолкают…
– Не затолкают. Свои же…
Мазурину представилось, что это не обычная толпа, а дисциплинированная народная армия, все бойцы которой спаяны одним настроением, одними чувствами. Что-то незримое, повелевавшее многотысячной толпой, охраняло тут порядок. Ранее прибывшие охотно теснились, чтобы дать место вновь подходящим отрядам.
Солдатское ухо Мазурина уловило крепкий и ровный шум, донесшийся снизу, от мостовой, – ритмичный строевой шаг. Он весь встрепенулся. «А что, если Временное правительство послало юнкеров, чтобы разогнать людей, не допустить встречи Ленина?» Вот показалась голова колонны. Солдаты шли широко, взводными колоннами. В ярком, как расплавленное серебро, свете прожектора сверкали их штыки. Мазурин облегченно вздохнул: прожектор осветил красные полотнища перед рядами солдат со знакомыми, радостными словами: «Привет Ленину!» Это военная организация большевиков вывела для встречи вождя партии семь тысяч солдат. Они вливались на площадь, подтянутые и грозные в своей революционной дисциплине.