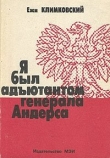Текст книги "Солдаты вышли из окопов…"
Автор книги: Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
– Все равно разлезется, – сказал Защима. – Зря стараешься…
– Да хоть как-нибудь, – сокрушенно ответил Комаров, – хоть дыру эту проклятую подобрать, все легче.
– Эх, солнце-то какое! – мечтательно произнес Рогожин, почесывая бородатую щеку. – Греет, как у нас в Рязанской. Эх, милое…
– И у нас в Тамбовской не хуже, – заерзал Комаров, отложил в сторону сапог и так просительно поглядел на товарищей, будто защищал перед ними свое, тамбовское солнце. – Увидим ли его, а? – И, заметив, что Карцев достал кисет, весь съежился и заскулил: – Взводный, а взводный! Угостил бы табачком… право, угостил бы, а?
Цепкой рукой он полез в протянутый ему кисет, бережно ухватил щепоть махорки и струйкой высыпал ее в умело свернутую «собачью ножку». Зажмурясь от наслаждения, глубоко потянул в себя дым, долго не выпускал его и, блаженно улыбаясь, сказал:
– Вовремя покурить нет ничего лучше: будто царь я!
Здоровый солдатский хохот покатился над окопами: уж очень смешно было солдатам представить в образе царя Комарова – малорослого, с курносым, крошечным лицом, с жалобными глазками, в плохо заправленной, вытертой шинели, в драных сапогах, из голенищ которых торчали грязные концы бурых от пота портянок.
– Расскажи, Комаров, что бы ты сделал, кабы царем стал?
Комаров привык фиглярничать, потешать товарищей. Но тут вдруг болезненная гримаса исказила его лицо.
– Я бы, – серьезно сказал он, – первым делом войну кончил, ей-богу! Для чего она нам, война эта?.. Может, кто поумнее и знает, а мне не в толк, не в толк она, братцы…
Он хихикнул. Весь запас серьезности иссяк в нем, и на лице выступило обычное выражение мелкой угодливости. Но никто не засмеялся. Здесь были люди, испытанные в лишениях и опасностях, настоящие солдаты, умевшие воевать, храбрые, смышленые и бесконечно выносливые. Но в памяти их еще был свеж прошлый, девятьсот пятнадцатый год, когда они, засыпаемые тяжелыми снарядами, с одними винтовками и легкими пушками, для которых не хватало снарядов, плохо руководимые генералами, отвечая одним выстрелом на двадцать вражеских, отходили в кровавой сумятице поражения на восток – растерянные, оглушенные. Было еще в солдатском сердце и чувство тяжелой обиды: они здесь головы складывали, а в России их семьи бедовали, жизнь там разваливалась, пропадала деревня без мужиков, народ прижимали все больше и больше.
На фронт посылались необученные ополченцы, с одной винтовкой на троих. Их пытливо расспрашивали, что делается в России, и, слушая, недоумевали: к чему эта война, что может она дать народу? В десятую роту пришло несколько человек, и двое из них – в третий взвод, которым командовал Карцев. Один был узкий в бедрах и широкий в плечах человек с серыми, бесхитростными глазами, с реденькой бородкой, ратник ополчения. Он мирно и застенчиво улыбнулся, сбросил с плеч мешок, поклонился солдатам и сказал:
– Знакомы будем, славные люди. Хозяйство у вас не бог весть какое, а все же… Как-нибудь проживем.
Были в нем какая-то ясность и простота, которые понравились солдатам. На вопрос Голицына, как его зовут, он охотно ответил:
– Фамилия моя – Рышков, а больше зовут – Рышкой. Сызмальства так прозвали, и прилипло ко мне это названье, как наклейка к бутылке, когда я в трактире служил.
И, мягко улыбнувшись, пояснил:
– Что же, я не обижаюсь. Имя не одежда – век носи, не протрешь.
Другой солдат был костистый, с длинными руками и неловкими движениями, при ходьбе чуть припадал на левую ногу. Он, ни с кем не разговаривая, держался в стороне.
– И таких берут? – спросил Рогожин, показывая на хромого.
– Всяких берут, – неохотно ответил тот.
А Рышка живо вмешался:
– Его было в нестроевую назначили, да перепутали где-то писарьки. Фамилия ему рядовая – Иванов Василий, ну и пихнули в маршевую вместо другого тоже Иванова и тоже Василия. Вот как нехорошо у него вышло…
И примирительно добавил:
– Ничего, и здесь проживет. Везде люди.
Защима тяжело мотнул головой.
– Везде, – подтвердил он, – даже на каторге. Это ты верно заметил.
Рышка внимательно посмотрел на Защиму, на его будто обожженное лицо, на толстые, сургучные губы и сказал:
– Люди людям рознь. Бывают и хорошие…
– А ты много хороших видел? – спросил Защима. – Небось, когда ты в трактире служил, они к тебе в гости ходили?
– И хорошие ходили, – с готовностью ответил Рышка. – Я, славный человек, на людей не обижаюсь, я ведь сам по себе – тихий я…
– Врешь, «сам по себе»… Таких не бывает… – равнодушно отметил Защима. – Земли много у тебя?
– Земли? – растерялся Рышка, и губы его скорбно покривились. – Землей мы, милый, страдаем. Прямо сказать – похирели.
– Похирели, – безжалостно подтвердил Защима. – А кто сам по себе, тот не хиреет. Дошло?
Рышка недоуменно заморгал. Защима курил, глубоко затягиваясь и не обращая больше внимания на ратника.
Солдаты настойчиво выспрашивали у новеньких всякие подробности тыловой жизни.
– Постой, постой, – оживленно интересовался молодой кудрявый солдат с щегольскими усами и веселыми озорными глазами, хватая Рышку за рукав. – А народ по трактирам ходит? Машина играет? Эх! – самозабвенно крикнул он и так дернул на себя Рышку, что тот едва не упал. – Эх, разочек бы еще за столиком посидеть, братцы мои, студня бы с хренком поесть, да селедочки, да беленькой бы выпить!.. Неужто и я там, братцы, бывал? Неужто?..
И такое отчаянное и восторженное выражение было на лице у кудрявого солдата, что все вокруг него засмеялись. Иванов, длинный, костистый солдат, пришедший в роту вместе с Рышкой, хмуро посмотрел на кудрявого и сказал, как бы думая вслух:
– Ты вот чему позавидовал – трактиру. Я за всю войну – а живу я в Петрограде – ни разу в трактире не был. Не такая у нас теперь жизнь, чтобы по кабакам ходить.
– А что – трудно было? – спросил Карцев. Ему вдруг чем-то понравился этот человек. – На каком заводе работал, друг?
Иванов покосился на унтер-офицерские нашивки Карцева, на два Георгиевских креста и медаль на его груди.
– На Путиловском, – ответил он и с усмешкой спросил: – Еще что, может, спросишь?
Карцев улыбнулся. «За шкуру меня считает, – подумал он. – Надо с ним поговорить, – как будто парень стоящий…»
– Я и сам рабочий, – дружески сказал Карцев. – Токарь по металлу. А на вывеску мою ты не смотри: солдатская служба, как оспа, прилипнет – и возись с ней.
Иванов оживился, впалые глаза его блеснули, а он вполголоса объяснил:
– Разве признаешь по вашей одежде, что вы за человек?
Эти слова взволновали Карцева. Он по-новому, глазами этого петроградского рабочего, увидел себя, старшего унтер-офицера, и вспомнил, с какой злобой и отчуждением разглядывал он сам, молодой солдат, казарменное начальство; вспомнил, как мытарил его унтер-офицер Машков. Подобревшими глазами смотрел он на Иванова, и вдруг милы показались ему и плохо пригнанная шинель, и неуклюжий, невоенный вид этого человека: ведь с воли, из другой жизни пришел Иванов, из той, которой сам жил он прежде.
– Почему же тебя с завода взяли? – спросил Карцев.
– С начальством не поладил. Не ко двору пришелся… – И, всей грудью глотнув воздуха, Иванов жестко заговорил: – Я трудиться готов, да только бы работать давали честно! А то – все на обман, на наживу все рассчитано. Хозяевам что? У меня, может быть, душа болит брак поставлять, а мастер кричит: «Давай, давай побольше!» У них все казенные приемщики купленные – они воробья за ястреба примут, а ты – мало что с голода подыхаешь, еще с хозяином на пару обманывай. Ну, я и сказал мастеру… Обидно!.. Миллионами грабят, на рабочем поту да на солдатской крови жиреют. Только и утешенья, что когда-нибудь сочтешься с ними по-настоящему!
Рышка внимательно слушал. В тихих глазах его светились спокойствие и безмятежность.
– Огорченный он человек, – пояснил Рышка, точно извиняясь перед Карцевым за Иванова. – Жизнь, она, славный человек, не всегда прямой дорогой, она и чащей и буераком проходит. Где споткнешься, где и оцарапаешься… – И, ласково улыбнувшись, добавил: – Ты человека осудить не спеши, ты его раньше пойми. Так-то…
Вдруг Карцев вскочил, звонко скомандовал:
– Встать! Смирно!
Васильев шел вразвалку – маленький, худощавый, с зоркими голубыми глазами. Петров, не ожидавший командира полка, издали спешил к нему, но Васильев уже был на участке третьего взвода, и Карцев, держа руку у козырька, подошел к нему с рапортом.
Васильев принял рапорт и внимательно посмотрел на Карцева. Между ними было то взаимное понимание, которое возникает между людьми, долго воевавшими вместе.
Поздоровавшись с подошедшим Петровым, Васильев обратился к новым солдатам:
– Что ж это вы?.. Разве вас не учили, как надо стоять, когда подают команду «смирно»?
– Не учили, ваше благородие, – живо ответил Рышка. – Мы ведь ратники, на войну нас не готовили, сроду ружья в руках не держали. А тут взяли, лихим делом, на передовую погнали: там, мол, всему научитесь, там наука скорая.
– Займись им, взводный, – ровным голосом сказал он Карцеву и окинул взглядом стоящих кругом солдат. – Вольно, ребята!.. Ну как: австрияк не беспокоит?
Несколько голосов заговорили наперебой:
– Да нет, ваше высокоблагородие!..
– Засмирел австрияк…
– Для виду только копошится…
А Голицын добавил с фамильярностью бывалого солдата:
– Австрияк – он что! С ним жить можно… Германец, сволочь, зудит…
– Как же он зудит? – добродушно спросил Васильев.
– А так: германец для австрияков – что вода на негашеную известь: подольют ее, вот известь зашипит и воняет…
Солдаты захохотали. Смеялся и Васильев.
– Молодец, Голицын! Правильно подметил! – сказал он и, заложив руки за спину, сощурив глаза, спросил, как бы советуясь с солдатами:
– А что, если эту известь подальше забросить, чтобы не воняла?
Голицын ответил с угрюмой гордостью:
– Забрасывали. В четырнадцатом году били их под Гнилой Липой, под Перемышлем, Львов брали. Впору было гнать до самой Вены. Ан не вышло…
Последние слова прозвучали с дерзкой двусмысленностью: солдат шестнадцатого года был уже не тот, что в начале войны. У него образовался свой тяжелый счет к генералам и офицерам. Об этом счете знали лучшие офицеры, знал и Васильев. Но солдатам не было известно, что такой же счет к высшему командованию имелся и у Васильева, всей душою болевшего за русскую армию, гордившегося ее боевой славой, именами Суворова, Кутузова…
– Выйдет, Голицын! И тебе, старому солдату, георгиевскому кавалеру, первому надо это знать. Помни: молодые по тебе равняются, ты им пример.
Сказав это, Васильев ушел вместе с Петровым.
Голицын проворчал вслед:
– На войну не просился, на кой ляд мне она, – а если уж заставили воевать, не мешали бы солдату его дело делать… так-то!
– Ну, Сергей Петрович, довольны вы своими людьми? – спросил Васильев, шагая рядом с Петровым.
Петров уловил в этом вопросе скрытую тревогу: слишком мало кадровых солдат и унтер-офицеров осталось в строю – почти вся армия шестнадцатого года состояла из запасных старших сроков службы и ратников ополчения, плохо обученных и думавших только о том, как бы поскорее избыть ненужную и ненавистную им войну и вернуться восвояси. И офицеры ревниво берегли старых кадровиков, как драгоценную закваску, на которой только и может подняться добротная солдатская опара.
– Втягиваем понемногу, Владимир Никитич. Только, сами знаете, какой нам народ шлют. Эх!.. Не сберегли дорогого. Помните, Владимир Никитич, как у нас ефрейторы и унтер-офицеры запаса рядовыми в бой шли? Растеряли мы их зазря. А теперь где их возьмешь?
– Не советую вам, Сергей Петрович, вспоминать о прежних ошибках, – резко заметил Васильев. – Не время, да и нельзя жить вчерашним днем. Не думайте, что я на все происходящее смотрю сквозь розовые очки. Стиснешь зубы и молчишь, да-с, молчишь и все, что можешь, делаешь. Мы с вами солдаты. Наше дело простое – приказано драться и дерись, не жалея себя. Другого нам не дано. Поняли? Другого не надо, если даже, – голос у него стал жестким, – если даже мы обречены. За нами Россия, родина наша – забывать об этом нельзя-с!
Он снял фуражку и провел рукой по редеющим волосам.
– А если… если душа обливается кровью при виде того, что вокруг делается, ну что ж – свой долг мы все же выполним.
Минуту помолчав, уже другим тоном сказал:
– Получил от Бредова письмо. Страшно доволен, что наконец-то возвращается в родной полк.
– Вот это чудесно! – обрадовался Петров. – Очень рад буду ему!
Они простились. Петров посмотрел вслед Васильеву, идущему своей развалистой, охотничьей походкой, достал махорку, закурил.
Солнце грело нежно и мягко, свеж был воздух, и так хотелось какого-то своего, хоть маленького, счастья, что Петров вполголоса затянул старую семинарскую песню. Но в это время тяжелый вой послышался с востока и раздался глухой удар мощного выстрела. Русский снаряд летел к австрийцам. Вот уже несколько дней на позиции приходили артиллеристы, подолгу наблюдали в бинокли и подзорные трубы за австрийскими окопами, наносили что-то на карты; иногда открывали огонь и засекали австрийские батареи, отвечавшие им. Солдаты и офицеры каждый раз приветливо встречали артиллеристов. Однажды рыжий капитан в очках, работавший на участке роты Петрова и за несколько дней успевший подружиться с ним, шутливо спросил:
– Что это вы принимаете нас, как родных братьев?
У Петрова искренне вырвалось:
– Неужели не понимаете, господин капитан? Ведь мы, пехотинцы, исстрадались без вас. Штурмовать вражеские позиции без артиллерийской подготовки – это же могила, сами знаете. А тут – надежда! Если возитесь у нас, засекаете вражьи точки, – значит, поможете. Ведь так?
Оба дружелюбно поглядели друг на друга. Капитан присел на бурый от прошлогодней травы бугорок, жестом пригласил Петрова сесть рядом, достал кисет с махоркой и деловито осведомился:
– Из прапорщиков?
Тон его вопроса не обидел Петрова, хорошо знавшего, как свысока относятся кадровые офицеры к прапорщикам запаса (к тому же он никогда не чувствовал себя офицером – давняя мечта его была стать земским врачом). Во всем облике капитана было что-то приятное и простое, располагающее к себе.
– Сергей Петрович Петров, вольноопределяющийся, потом прапорщик и подпоручик, учился в рязанской семинарии, – весело ответил он. – Семинарию бросил, чем вызвал батькин гнев; батька у меня – сельский поп, под Рязанью. Думал на медицинский податься, да война помешала. Все.
Капитан, щедро выпуская изо рта клубы дыма, положил руку на колено Петрова.
– Милый мой юноша, – задушевно сказал он, – очень рад, что познакомился с вами. Очень, очень!
– Вы – кадровый, господин капитан? – в свою очередь спросил Петров.
– Федор Иванович Ермолов, приват-доцент Московского высшего технического училища, – представился капитан, снимая очки и протирая их платком. – В армию призван из запаса, а до того проживал в Москве, по Немецкой улице; женат, имею двух детей, при мне же – мать-старушка. Тоже – все.
Он немного помолчал, снова надел очки.
– Так вы, стало быть, из семинаристов, бурсак? Не могу передать вам, как приятно мне говорить с вами и хотя бы условно сбросить с себя эту сбрую, – он указал на свое обмундирование. – Рязань, Рязань – милые места!.. Рязань косопузая, там телушку огурцом резали, – продолжал он, не меняя тона и смеясь из-под очков карими глазами. – Помню: на окраинах старые монастыри, древние, замшелые стены, двухсотлетние вязы, трава вся в лютиках и ромашке – прелесть!.. В одном переулке набрел я как-то на старенький деревянный домик с мезонином, и на нем мраморная доска с надписью: «Здесь родился поэт Яков Петрович Полонский». Очень неожиданно и приятно вышло это… Господи, как давно это было! Побродить бы сейчас по московским переулкам, в Третьяковскую галерею забежать на часок, с Воробьевых гор на Москву полюбоваться – все это теперь кажется счастьем несбыточным, а ведь мы пользовались им и не ценили… Вы, голубчик, не думайте, что я так чувствителен, что я и в самом деле это счастьем считаю. Нет! Но сосет, сосет на сердце, когда вспомнишь Москву, семью, работу свою, мирную жизнь… Я ведь ее не идеализирую; в сущности, сволочная была жизнь, но если по ней так тоскуешь, значит, здесь много хуже… много!
Он точно в растерянности взглянул на Петрова, неловко развел длинными, худыми руками, рыжеватая его бородка встопорщилась, длинная спина ссутулилась, и Петров уже видел перед собой не артиллерийского офицера, а столь милого сердцу и хорошо знакомого ему российского интеллигента, многословного, бессвязно излагающего свои мысли, торопливо переходящего с одного предмета на другой.
Ермолов достал из кармана фотокарточку и показал Петрову семейную группу, где сам он был изображен в разлетайке и чесучовом пиджаке вместе с миловидной женщиной и двумя детьми – мальчиком и девочкой.
– В Кунцеве, на даче снято. Вот они, родные мои…
Глаза его увлажнились.
– Голубчик мой, Сергей Петрович!.. Вот уже столько времени живу здесь, на фронте, среди наших русских людей – жителей Петрограда, Москвы, Самары, Рязани, – и ни разу не пришлось поговорить с кем-нибудь из них по-человечески. Черт знает что, не правда ли, голубчик? А как хочется, как нужно душу свою омыть от всякой скверны, узнать, как живут в стране, что думают там о войне этой, что, наконец, там, наверху, делается… – Он нагнулся к Петрову и прошептал: – Много мерзкого говорят про Распутина, про царицу… Ведь тревожит это все… Ну ладно, оставим эту тему. Так вы учились, говорите, в семинарии, да? Семинаристы – народ крепкий! Если уж уйдут из семинарии, так что-нибудь сделают. Взять хотя бы Чернышевского или наше светило в физиологии – Павлова. Он, кажется, ваш, рязанский.
– Послушайте, – перебил его Петров. – Вы еще долго будете у нас работать?
Ермолов махнул рукой:
– Долго! Нужно обнаружить и засечь на карте все вражеские позиции, огневые точки, штабы и тому подобное.
– Значит, ударим? – торжествующе спросил Петров. – Верно?
– А вы чему радуетесь? Еще не надоело воевать?
– Может быть, и надоело… Но если уж воюю, так хочу воевать хорошо. Мальчишкой случалось мне драться стенка на стенку, обычно на реке, на льду. Тут уж не разбираешь, кто против тебя, – бьешь сплеча во всю силу. Я знаю – мы плохо воюем, снаряжение у нас жалкое, генералы никудышные, все, кто только может, – воруют, в России очень худо, но мы – солдаты, и как ни горько и ни трудно нам, а драться надо…
Он запнулся, растерянно подумав, что повторяет слова Васильева. Усмехнулся и тряхнул головой:
– Да, очень хочется победить! А там посмотрим. Можно будет тогда и у себя дома кое с кем поговорить – да так, что тому не поздоровится.
Ермолов бросил окурок, придавил его ногой и со странным выражением поглядел на Петрова.
– Стало быть, и вы об этом думаете? – шепотом проговорил он, как бы беседуя сам с собою. – Стало быть, проклятые эти мысли не одного меня мучат?.. Вот я сейчас большую работу делаю. Ну, что там скрывать: готовимся раздолбать австрийцев. Работаем дни и ночи, и я не могу плохо делать мое дело, не могу! Я хочу, чтобы наши пушки в дым разнесли их укрепления, хочу увидеть, как наша пехота ворвется в их окопы, погонит врагов к чертовой матери… Эх, Сергей Петрович, хороший вы мой, жить хочу только в России и помереть в России, лежать в русской земле, под березкой…
Помните?
…И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.
Он хитро улыбнулся и поднял палец.
– А нос все-таки нечего вешать! Доложу вам, поручик, что здорово мы сейчас работаем. Еще помянете вы нас, артиллеристов, добрым словом. Ну, прощевайте, друже.
Он долго жал руку Петрова, близко засматривал ему в глаза и пошел, путаясь в полах шинели длинными ногами.
3
То чувство освобождения, с которым Бредов уехал из ставки, не оставляло его на протяжении всего пути, пока он пробирался к передовым позициям. И даже фронтовые дороги, забитые бесчисленными эшелонами, подолгу стоящими на станциях, полустанках и разъездах, что невольно создавало впечатление всеобщего хаоса, не уменьшали радостного подъема духа у Бредова. С особой теплотою он думал о Васильеве, которого любил и уважал за честность и военный талант, и хотел скорее увидеть его.
На какой-то маленькой станции Бредову сказали, что их поезд простоит здесь по крайней мере сутки. Начальник станции, еще молодой человек с серым лицом и бачками под Евгения Онегина, на вопрос Бредова, почему поезд не идет дальше, развел руками и устало ответил:
– Вы, господин подполковник, с таким же основанием могли бы спросить у меня, почему засохло вот это дерево, – он указал на липу с голыми ветвями, росшую в палисаднике. – Разве мы теперь что-нибудь знаем или чем-нибудь распоряжаемся? У нас сорок хозяев, и каждый мудрит по-своему. Должен признаться, что за всю свою службу я не видел еще такого безобразия. Не угодно ли полюбоваться? Прошу, убедительно прошу вас…
Они прошли мимо водокачки и пожарного сарая в самый конец станции, где в тупике стоял длинный товарный состав. Куры мирно бродили под вагонами, молодая трава пробилась между рельсами. Послышались звуки гитары: кто-то пьяный пел романс. Бредов недоуменно посмотрел на начальника станции.
– Вот это самое и есть, – проговорил тот. – Удостоверьтесь!
Они остановились перед синим вагоном с широкими зеркальными окнами. Одно из них было открыто, и оттуда неслось:
…П-поющему в награду
«Л-люблю тебя», – сквозь сон произнесешь…
– Вот так уже третью неделю, – с отчаянием сказал начальник станции, дергая себя за бачки. – Сбили мне весь график, никакими силами отсюда их не выживешь… Пьют, безобразничают, все кругом запакостили…
Он показал на большую кучу мусора, битых бутылок, опустошенных консервных коробок, выросшую возле вагона. И в это время из окна вылетела бутылка, за ней другая, послышалось радостное гоготанье, и сиплый бас скомандовал:
– По прро-тив-ни-ку пальба бутылками! Первая – пли! Вторая – пли!
– Увидели… – безнадежным голосом пояснил начальник. – Они уже в меня стреляли, ей-богу!
Из окна вагона высунулась плешивая голова с выпученными глазами.
– Опять приперся? Сказано тебе, когда надо – уедем. А б-будешь шляться, как дупеля подстрелю… Гришка, наган! Э, да там кто-то еще заявился? Сейчас узнаем…
Плешивая голова исчезла, и через минуту со ступенек вагона сошел офицер в расстегнутом кителе с полковничьими погонами. Мутными глазами уставился он на Бредова и попытался даже щелкнуть каблуками, что явно было выше его возможностей.
– Э-э… – прохрипел он, – прошу до нашего шалашу!
Судя по серебряным погонам с красными просветами, это был полковник интендантской службы. Менее всего собирался Бредов впутываться в пьяную компанию и, отступя, сказал, что у него, к сожалению, нет времени…
– Да вы, подполковник, не бре… не брезгайте… Ей-богу, родной, мы рады каждому кур… куль… тьфу! – куль-тур-ному человеку!
Интендант сипло захохотал.
– Пошли бы, – поддержал начальник станции, – может, уговорили бы господина полковника скорее отправить свой эшелон.
– Я т-тебе отправлю! – заорал интендант, цепко хватая руку Бредова. – Ведь ты кондуктор, вот кто ты. Гришка, наган!.. Как дупеля…
Начальник станции, втянув голову в плечи, уходил рысью, все прибавляя аллюр.
– Ага! Убежал?..
Видя, что от пьяного все равно не избавишься, Бредов, негодуя на себя за то, что делает, направился к вагону.
В салоне сидели шесть человек (военные и штатские, один земгусар), развалясь за столом, уставленным бутылками и закусками. Их едва можно было разглядеть сквозь густую пелену табачного дыма. Молодой офицер в гвардейской форме поднял на свет бокал с вином и рассматривал его с пьяным упорством. Толстенький человек в одной рубахе и лиловых помочах, прижимая к пухлой груди коротенькие руки, уговаривал его:
– Князь! Ваше сиятельство! Уверяю вас, что спешить некуда… Неужели, князь, вам здесь плохо? Умоляю, скажите: плохо?
Не отрывая глаз от бокала, князь отвечал:
– Я не говорю, что плохо… нет! Но мы везем нашим солдатам подарки, всякие там материалы, и зачем же нам ждать, зачем, спрашиваю я?
– «Ах, зачем увлекаться, ах, зачем напиваться…» – пропел кто-то противным голосом.
– Вы представьте себе, ваше сиятельство, – продолжал толстяк, – что на фронте, в тот самый момент, когда мы приедем, – паф-бум! – и мы – трах, и все наши драгоценные подарки – фью!.. А оставаясь здесь, – глаза его стали сладкими, и как будто липкий сироп потек из них, – мы сразу, дорогой князь, двух зайцев убьем и обоих – ха-ха! – жареными скушаем! А?
– Не хочу жареных зайцев, – пробормотал князь. Осоловелыми глазами посмотрел он на Бредова, неверной рукой поставил бокал на стол и обратился к интенданту, растягивая слова: – А па-а-звольте, полковник, узнать, ко-о-гда мы… отсюда а-а-атправимся? Как будто – пора!
– Да что вы беспокоитесь? – с грубоватой фамильярностью ответил интендант. – Все на совесть сделаем!
– А к-как же мне не бе-е-е-спокоиться? – Князь опять взял бокал и стал его рассматривать на свет. – Если мне поручили… да, поручили, и солдатики там ждут, и всякое такое… Я своей честью отвечаю, – да, честью, говорю я.
– Честь выше всего! – выкрикнул интендант, широко расставляя толстые ноги. – Жизнь – копейка, а честь, – он ударил себя кулаком в грудь, – честь офицерская не продается! Раз честь затронута, значит, едем, князь! К черту эту станцию, к черту! И по сему случаю прошу, князь, и вас, подполковник, – он качнулся к Бредову, – выпьем! Выпьем и поедем… Сейчас же поедем!
Толстенький человек приподнялся, оперся руками о стол и змеиными, немигающими глазами впился в интенданта. Потом мелкими шажками подошел к нему и зашептал:
– А с чем поедем? В вагонах-то – пусто!
Интендант невозмутимо продолжал:
– Как только освободят путь – поедем! У них, князь, на железных дорогах нет никакого порядка!.. Дьявол их знает, когда они путь расчистят! Но все равно! Раз поставлена на карту честь – поедем! Выпьем за нашу честь, господа, за Россию… Эй, Гришка, вина!
Из-за стола поднялся офицер с белокурыми растрепанными волосами.
– Не понимаю, – сказал он. – Что у нас происходит, господа? Простите, не понимаю!.. Нам надо ехать, надо доставить на фронт снаряжение и подарки, а мы попали в какой-то тупик! Я больше не могу, не могу… Я убегу от вас… Зачем вы поите меня, зачем? Ведь это же хуже разбоя! Послушайте, князь, послушайте, полковник: Христом-богом умоляю – поедемте! Я с ума сойду, сам застрелюсь или кого-нибудь укокошу. Это же кошмар, бред какой-то!.. Поедем, поедем, ради бога!
На его молодом, опухшем от вина лице были страх, отчаянье, омерзение. Он вдруг заплакал, по-детски всхлипывая, и лицо его стало другим, точно слезы смыли с него все плохое и пьяное.
Интендант переглянулся с толстяком и захохотал сипло и раскатисто, как смеются плохие актеры, изображая пьяных. Он шагнул к офицеру, положил ему руки на плечи, сильно встряхнул его и крикнул:
– Отставить! Стыдно вам закатывать истерику, как девчонке! Выпьем – и марш-марш! – в дорогу!
Бредов с ужасом посмотрел на молодого офицера. Он хорошо знал интендантские обычаи, знал, какое чудовищное воровство процветает в их среде, и вся картина, развернувшаяся сейчас перед ним, стала ему до боли ясна. Душный комок подступил к горлу.
Молодой офицер, пошатываясь, прошел мимо Бредова в коридор, и вслед за этим оттуда раздался выстрел. Интендант выскочил в коридор и тут же вернулся. Стоя в дверях, хрипло сказал:
– Все!.. Щенок паршивый…
Толстяк, громко выругавшись, подошел к интенданту.
– Ну? Чего стоишь? Сам знаешь, что делать…
И, передернув плечами, как-то боком выбрался из вагона.
Бредов вышел в коридор. На полу, откинувшись головой на стенку вагона, лежал молодой офицер. Темная извилистая струйка крови медленно стекала с виска на грудь. Послышались шаги. Возле выросла фигура интенданта. Бредов повернулся к нему, увидел его сизую физиономию, воровские глаза, настороженные, с подлым страхом глядевшие на него, и, охваченный яростью, он наотмашь ударил интенданта по щеке.
Тот вытянулся, опустил руки по швам и все с тем же подлым выражением смотрел на Бредова.
Бредов бросился вон. Выскочив из вагона, он бежал, не в силах остановиться, вдоль красных запломбированных вагонов. Вот и последний вагон, за ним – тяжелые изогнутые металлические брусья – тупик. Бредов уперся руками о них, поник головою, растерянно думая, что дальше бежать некуда – вся Россия зашла вот в такой же страшный тупик. Поднял глаза к небу.
Наступал вечер, и розоватые облака были похожи на парусные ладьи в безветренном море. Вдруг потянуло дымом. Бредов оглянулся. Кто-то, похожий на большую жабу, осторожно полз из-под третьего от края вагона. Оттуда и шел дым.
– Ах, сволочи! Так вот оно что?!
И Бредов, нащупывая на ходу наган, побежал к вагону, увидел метнувшегося оттуда толстого человечка и с таким чувством, будто уничтожает все то черное и мерзкое, что мешает жить и ему и всей России, стал выпускать в него одну пулю за другой…
Бредов явился в штаб своей дивизии. Щеголеватый адъютант, небрежно приняв у него бумаги, пробежал их, и вдруг глаза его широко раскрылись, как будто он прочел нечто поразительное. Он сразу преобразился, вытянулся, пробормотал:
– Прошу покорнейше садиться, господин подполковник!
И почти выбежал из комнаты. Но скоро вернулся и учтиво попросил Бредова пожаловать к начальнику штаба.
Начальник штаба – пожилой полковник в роговых очках – вежливо привстал навстречу Бредову, пожал ему руку, пригласил садиться и после двух-трех общих вопросов прямо перешел к делу:
– Пожалуйста, расскажите, что делается в ставке? Каковы предположительные планы? Кто из генералов пользуется там влиянием? Видели ли вы государя?
Удивленный этими скоропалительными вопросами, Бредов подумал, что так, наверно, расспрашивают провинциалы приехавшего к ним столичного человека. Он сухо ответил, что его положение в ставке не давало возможности что-либо знать или видеть, и тут же попросил отправить его поскорее в полк, к Васильеву.
Полковник вскочил и замахал руками.
– Как можно! – в ужасе проговорил он. – Начальник дивизии не простит мне, если узнает, что я отпустил вас, не представив ему!.. Нет уж, подполковник, не подводите меня… – Он испытующе посмотрел на Бредова, услал адъютанта, немного поколебался и затем спросил: – Скажите, ради бога, о чем они там думают? Знают ли настоящее положение в армии? Учитывают ли настроения солдат, офицеров? Знакомы ли с нашей боевой техникой? Ведь такая нужда в снабжении!.. Мы как в лесу живем – ничего не знаем… Трудно, очень трудно так воевать!
Начальник дивизии приехал часа через два. Это был старый генерал с красными слезящимися глазами. Он испуганно посмотрел на Бредова и так долго изучал его бумаги, точно сомневался в их подлинности. Особенно долго разглядывал он печать ставки и наконец с благоговением подтвердил: