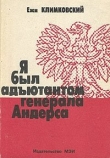Текст книги "Солдаты вышли из окопов…"
Автор книги: Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц)
6
Поезд подошел к низкому деревянному вокзалу. Петров вышел на платформу, опустил сундучок и взглянул на своего спутника. Сергеев, длинный, узкий, с продолговатым белым лицом, стоял на площадке вагона и брезгливо водил глазами по сторонам.
– Идемте! – предложил Петров. – Чего ждете?
– Носильщик! – сердито позвал Сергеев, запахнул ловко сшитую, с перехватом в талии шинель, натянул коричневые лайковые перчатки и медленно сошел на платформу.
На площади Сергеев, обутый в шевровые сапоги, тщательно обходил лужи.
– Боже мой, какая кругом мерзость! – говорил он при виде убогих домишек. – Не понимаю, как мог я согласиться поехать в этакую дыру!
Носильщик нес кожаный чемодан. Подъехал извозчик. Петров поставил свой сундучок под ноги, чемодан Сергеева извозчик взял на козлы. Проваливаясь в ухабах, пролетка двинулась в город. Сергеев гордо выпрямился. На его шинели были синие твердые погоны с номером полка и шнурками вольноопределяющегося. Новенькая кокарда блестела на фуражке.
– Совсем не видно порядочных людей на улицах, – брюзжал Сергеев, – одни чуйки и зипуны… – И вдруг, толкнув Петрова, показал глазами на тротуар. Там, подобрав юбку и приоткрывая стройные ноги, шла девушка в шляпке и черной кофточке, отороченной мехом.
– Навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно, – с довольным видом продекламировал Сергеев.
Но тут произошел неожиданный случай. Из-за угла вышел офицер – толстоногий, с курчавыми, как у барашка, светлыми волосами, выбивавшимися из-под фуражки. Он важно ступал, помахивая короткой рукой, как под музыку марша. Увидев медленно проезжающую пролетку с вольноопределяющимися, офицер остановился и, заметив, что один из них не поднес руку к козырьку, крикнул остреньким фальцетом:
– Ну, ну! А честь кто будет отдавать?
Извозчик, желая оградить своих пассажиров от неприятности и на этом, быть может, подработать, взмахнул кнутом.
– Стой, стой, кому говорят!
Пролетка остановилась. Офицер сделал Сергееву приглашающий жест:
– Пожалуй-ка, дорогой, ко мне.
Сергеев, хмурясь и пожимая плечами, слез на мостовую.
– Почему чести не отдаешь?
– Прошу прощения… Я только что еду на военную службу… еще не знаком с правилами…
– Руки, руки как держишь? – завопил офицер так, что прохожие начали останавливаться. – Зачем руками разговариваешь? Я тебя проучу! Узнаешь у меня!..
И, вынув записную книжку, занес в нее фамилию Сергеева.
– Под юнкера играет, – издевательски добавил он, взглядом с головы до ног измеряя Сергеева. – Мы тебе спесь подрежем, юнкер-пункер!
Он победоносно проследовал дальше. Сергеев, зеленый от унижения и злости, забрался в пролетку.
– Не обращайте внимания на всякую дрянь, – посоветовал Петров.
Но Сергеев с ужасом думал, что все это позорное происшествие видели посторонние, может быть даже и та девушка, что прошла по тротуару.
– Возмутительное хамство! – негодовал он. – Нет, я этого так не оставлю!
Они прибыли в канцелярию полка, и тут их с изысканной вежливостью принял полковой адъютант, штабс-капитан Денисов – щеголеватый офицер с напомаженными волосами. Он предложил им сесть, обращался на «вы» и спросил Сергеева, которому явно отдавал предпочтение перед плохо одетым Петровым, откуда он и кто его родители. Сергеев, расцветая, сообщил о служебном положении своего отца, видного московского инженера. Затем, краснея и запинаясь, рассказал о встрече с офицером.
Денисов улыбнулся.
– Толстенький, белокурый? – переспросил он. – Знаю, знаю, поручик Жогин. Любит ловить солдат. Можете не беспокоиться, все устрою.
И, сразу став официальным, заявил, что назначает прибывших в десятую роту.
– Нельзя ли… на частной квартире? – спросил Сергеев.
– Устроим, – пообещал Денисов.
В десятой роте их встретил дежурный и, покосившись на изящный чемодан Сергеева, вызвал Смирнова.
– В прекрасную роту попали, господа вольноопределяющиеся, – сказал Смирнов, сладко жмуря глаза. – Прошу, прошу в нашу тесную семью.
Когда же Сергеев заявил о своем желании жить на частной квартире, зауряд-прапорщик одобрительно кивнул головой:
– Будет, все будет. Денька три поживете в казарме – и все сделаем. Я упрошу ротного командира.
Солдаты несколько настороженно осматривали вольноопределяющихся: обычно это были барчуки, будущие офицеры. И Петрову в первые дни было не по себе. Вскоре его вызвали в канцелярию, к Васильеву.
– Здравствуйте, вольноопределяющийся, – приветливо встретил Петрова капитан. – Прибыли на службу к нам?
– Да, ваше высокоблагородие, – ответил Петров, опасаясь, что его руки или ноги вдруг сделают запрещенное военным уставом движение.
– Ну что же: надеюсь, вам будет у нас хорошо. Служите, служите.
– Я с удовольствием! – подхватил с готовностью Петров и осекся: «Можно ли говорить офицеру «с удовольствием»?» Но Васильев был спокоен, и Петров продолжал: – Хочу заниматься, если разрешите. У меня склонность… к математике.
– Превосходная наука. Точная. Не буду препятствовать. Занимайтесь, пожалуйста.
«Почему я сболтнул о математике? – думал Петров, уходя. – У меня никогда не было к ней склонности. Ну, все равно. Надо скорее привыкать здесь. Во всяком случае, тут будет не хуже, чем в семинарии. А солдаты – народ простецкий, хороший…»
Он легко, без всяких усилий над собой вошел в казарменную жизнь. Обмундирование носил казенное, неперешитое, курил махорку, питался из общего котла и ел так же, как и все солдаты: черпал из миски, в которую совали ложки пять-шесть человек.
А Васильев подумал, что Петров гораздо приятнее Сергеева, который показался ему прожженным хлыщом.
7
Утро было дождливое, холодное. Тучи низко двигались над городом. Галки стаями опускались на двор казармы.
– Хорошие птицы к нам не залетают, – жаловался Самохин, уныло пожимаясь. – Голубь вот – птица радостная, легкая. А галки – они только скуку нагоняют.
Молодым солдатам выдали оружие. Чухрукидзе, оживившись, рассматривал винтовку, ощупывая острие штыка, прицеливался. Но веселье его скоро прошло. Упражнения с винтовкой никак не давались ему. Правда, помогал Карцев, учил показом, и каким-то инстинктом тот понимал его. Они крепко сдружились. Чухрукидзе сильно похудел, осунулся. Бритая голова казалась совсем маленькой, широкий мысок носа резко выделялся. Ночью Карцев не раз слышал, как Чухрукидзе стонал, всхлипывал и что-то говорил на родном языке.
Ученья с солдатами десятой роты проводил штабс-капитан Бредов – лобастый, лет тридцати человек, с неспокойными движениями и недоверчивым взглядом. Несколько лет он готовился в академию генерального штаба. В прошлом году держал экзамен и провалился. Был убежден, что к нему, захудалому армейскому офицеру, придирались профессора, и одно время даже хотел бросить занятия, потом подумал, что академия, пожалуй, единственный путь выбраться из болота провинциальной армейской жизни, не дававшей ему никаких перспектив, и решил не отступать.
Бредов обходил группы солдат, обучающихся ружейным приемам, рассеянно делал замечания и с тревогой думал, что в час дня ему предстоит беседа с командиром полка: допустит ли тот его к новым испытаниям при академии? Это последняя попытка: если провалится, надо уходить в отставку; у жены в Варшаве влиятельные родственники, можно будет там устроиться.
Его поразили нелепые движения Чухрукидзе. Он подошел к нему.
– Возьми к ноге! – приказал Бредов.
Чухрукидзе отупело смотрел на него.
– Одурел, что ли? Как твоя фамилия?
Тот молчал.
– Как фамилия? – раздраженно повторил Бредов.
– Разрешите доложить, ваше благородие? – выступил вперед Филиппов. – Молодой солдат Чухрукидзе по-русски не понимает.
– Как же ты его обучаешь?
– С показу, ваше благородие.
– Угу… Любопытно! Стоп, стоп! Да ведь я его видел, – вспомнил Бредов. – Он еще в бурке был, орлом выглядел. Что же с ним стало?
Ему ясно представилось смуглое молодое лицо, смелые, яркие глаза, свободная осанка горца.
– У нас же есть его земляки, – с участием проговорил Бредов. – Пускай обучают его, он их поймет.
– Не разрешено, ваше благородие, – понизив голос, ответил Филиппов. – Обучать разрешено только по-русски. Я уже просил. Нельзя.
Секунду Бредов и Филиппов молча смотрели друг другу в глаза. Потом штабс-капитан отошел, продолжая с возрастающим беспокойством думать об одном: что скажет ему полковник Максимов? И прозевал приход Васильева. Машков скомандовал «смирно», когда уже капитан был среди солдат. Морщась от чувства неловкости, Бредов повторил команду, подошел с рапортом. Васильев будто и не заметил упущения, пожал ему руку и протяжно поздоровался с ротой:
– Здравствуйте, ребята!
Он был в прекрасном настроении. Недавно произведенный в капитаны, Васильев чувствовал себя полным хозяином отдельной боевой единицы. Бредов сумрачно смотрел на него. Он любил капитана, ценил его военные знания, горько сожалея, что ему самому не скоро еще дадут роту и очередное звание. Размышлял, как трудно служить без связей даже талантливому и энергичному офицеру. Кто использует его любовь к военному делу, его боевой опыт? Нет, только академия может его спасти!
Он с трудом дождался конца утренних занятий. Беглым шагом несся по грязным, немощеным улицам и, задыхаясь от волнения и быстрой ходьбы, поднялся в штаб полка. Денисов, вместе с которым он окончил Московское юнкерское училище, протянул ему белую, холодную руку. Здороваясь, Бредов спросил прерывающимся голосом:
– Ну, что, примет меня командир полка?
– Полковник здесь, сейчас доложу, – сдержанно сказал Денисов.
Нервно оправляя портупею, Бредов вошел в кабинет командира полка. Максимов пригласил сесть. Это был крупный брюнет в золотых очках, с легкой сединой, толстым лицом и массивной, красной шеей. Наклонив голову, он слушал Бредова, морщил лоб, курил. И когда тот замолчал, он крепкими пальцами притиснул окурок папиросы к пепельнице, потрогал выбритый подбородок, сказал негромко и густо:
– Я бы все-таки воздержался от новой попытки, капитан Бредов… Воздержался бы, ей-богу!
Он отвел взгляд от растерянных глаз Бредова и мягко закончил:
– Я, конечно, не приказываю, не предписываю… просто советую, как старший товарищ. Шансов, знаете ли, маловато. Один раз вам уже не удалось, к чему опять рисковать?
«Прячется, – тоскливо подумал Бредов, – что-то ему известно, и не говорит. Неужели все пропало? Нет, я так не могу, не могу!»
Он не выдержал и заговорил, сам не узнавая своего голоса – ломкого, повизгивающего:
– Господин полковник, осмелюсь доложить. Для меня это вопрос жизни и смерти… Я потратил на подготовку к испытаниям в академии несколько лет, и неужели все бросить? Как это можно?..
Максимов нетерпеливо задвигался в кресле, сердито засопел. Он не мог ответить Бредову, почему именно нельзя допустить штабс-капитана к новым испытаниям, и раздражался, что тот ставит его, командира полка, в неловкое положение, не желает принять недомолвок, высказанных в виде дружеского совета.
Он тяжело поднялся – вскочил и Бредов – и грубо сказал:
– Кончим, штабс-капитан! Не могу разрешить вам новых испытаний при академии, если вы так ставите вопрос. А засим – до свиданья!
Бредов вышел. Комок подступил у него к горлу. Денисова в канцелярии не было. Он разыскал его в маленькой комнате, где помещалась секретная часть, плотно закрыл за собой двери.
– Слушай, Денисов: мы ведь с тобой однокашники! Скажи, умоляю тебя, скажи, почему мне не разрешают экзаменоваться в академию?
Денисов покосился на дверь.
– Уверяю тебя: ничего не знаю.
Бредов схватил его за руки…
– Андрей Иванович! – воскликнул он в отчаянии, весь дрожа и все крепче и крепче стискивая руки Денисова. – Помоги мне, ради бога! Клянусь, что никто не узнает!.. Но я это не могу так оставить. По лицу Максимова я заметил, да и по твоему вижу, что здесь есть какая-то причина. Мне надо знать, в чем дело, или я погибну!
Бредов так решительно это сказал, что Денисов испугался.
– Так слушай, – прошептал он, – даешь честное слово офицера, что никогда никому не расскажешь?
– Да, да. Клянусь!
– Помни: я очень рискую – выдаю служебную тайну.
– Денисов, я клялся!
– Дело в том, что Зоя Генриховна – полька. Ну, одним словом, получен секретный приказ, чтобы офицеров римско-католического вероисповедания или женатых на католичках не принимать, по возможности, в академию. Ясно? И помни свою клятву.
Бредов пошатнулся, рассеянно провел рукой по лбу и выскочил из комнаты, не слыша, что вслед ему говорил Денисов. По улице он шел широким, размашистым шагом, словно убегал от чего-то, миновал Воскресенскую улицу и выбрался на окраину города. Потянулись военные склады – низкие, длинные здания с зелеными, недавно покрашенными крышами. Часовой, стоявший у будки, сделал винтовкой «на караул», и Бредов отметил про себя, что солдат плохо выполнил прием. Разводящий вел смену и оглушительно крикнул:
– Смирно, равнение направо!
Кончились склады, вдали шумел лес, золотые и красные осенние листья, кружась, неслись по воздуху и мягко ложились на землю. Бредов остановился.
– В сущности, ничего не произошло, – громко сказал он, снимая фуражку. И вдруг неистово закричал, топая ногами: – Молчи, дурак, суслик! Не унижайся хоть наедине с самим собою!
«Нет, нет… – думал он. – Меня никто не оскорбил. Это все из-за нее… Я тут ни при чем. Я – русский офицер, участник японской войны, получил за храбрость Владимира с мечами… Зоя – полька! Господи, как глупо, как страшно! Кто придумал такое?»
Ему стало холодно. Ворона,-каркая, села на ветку в нескольких шагах от него и хитро смотрела черным глазом. Он надел фуражку, запахнул шинель и, согнувшись, побрел в город.
8
Ефрейтор Защима был пьян.
– Зембриовский, иди ко мне, – позвал он.
Наступил вечер, отошла поверка, солдаты готовились ложиться. Молодой солдат Зембриовский остановился перед Защимой, вытянув по швам руки.
– Здравствуй, Зембриовский, – икая, сказал Защима.
– Здравия желаю, пан ефрейтор!
– Не пан!.. Паны у вас в Польше, а я господин… Повтори!
Зембриовский повторил.
– Так… А скажи, кем я тебе прихожусь, полячок?
– Господин ефрейтор Степан Федорович Защима, командир второго отделения, третьего взвода десятой роты Моршанского полка.
– Так, полячок, а самого главного не сказал. Кто я тебе? Не знаешь? У, болван! Ближайший…
– Ближайший, непосредственный начальник, – с трудом выговаривая слова, ответил Зембриовский, не спуская с Защимы испуганных глаз.
Защима покачнулся, поискал руками опору и опустился на койку.
– Ближайший, непосредственный, – пробормотал он, – терзаю я тебя, Зембриовский, притесняю? Конечно, притесняю. Нельзя у нас не притеснять. Все начальники такие… Вот меня фельдфебель тоже и в хвост, и в гриву… Начальник, ничего не поделаешь.
Он повернулся на бок. К нему подошел дежурный по роте:
– Защима, пойдешь завтра старшим к мишеням на стрельбище.
– Иди ты, – сонно промямлил Защима, – не моя очередь.
– Фельдфебель назначил.
Он положил листок на койку, Защима, ругаясь, взял листок.
– «Карцев, Комаров, Рогожин, Кобылкин…» – прочел он – Быть вам к подъему готовыми, а то смотрите… И-эх…
Он повернулся так, что чуть не развалилась койка, и захрапел.
Еще затемно дежурный разбудил солдат, назначенных к мишеням. Карцев, быстро одевшись, вышел во двор, закурил папиросу, задумался. Темные тучи, гонимые ветром, медленно плыли на север. Они были тяжелые, словно каменные. Верхние края их клонились вперед. Казалось, вся земля перемещается вместе с ними. Звезды испуганно вспыхивали в черных провалах неба и исчезали, будто давили их обвалы туч. Грустные мысли одолели Карцева. Он вернулся в казарму. Терпкий, густой воздух ударил ему в нос. Защима, расставив ноги, застегивал пояс. Рогожин, остролицый, с розовыми пятнами на щеках, торопливо обувался, разглаживая на ноге почерневшую портянку.
Оделись, вышли, строем двинулись к полковой канцелярии. Там уже собрались все назначенные к мишеням солдаты. Командовал подпрапорщик из восьмой роты. Отряд направился через город. Вдоль улиц тянулись глухие заборы, опутанные колючей проволокой. Шагавший возле Карцева рослый солдат с худощавым лицом и широким лбом внимательно посмотрел на него серыми спокойными глазами и дружелюбно улыбнулся. Дорога была плохая, сапоги вязли в грязи. За крепко слаженным забором басовито лаял пес, лязгал цепью, видимо, в бешенстве куда-то рвался.
– Вот живут, – ухмыльнулся Рогожин, – запираются на сто замков, страшенных собак держат. Страшно, выходит, братцы, богатым быть, а?
– Мирное житие, – негромко отозвался рослый солдат, по фамилии Мазурин, как узнал Карцев.
– Места знакомые, – продолжал Рогожин, – плотничали мы тут однова с отцом. Вон купца Грязнова дом! – Он показал на низкое здание. – Склады как сундуки: двери кованым железом обиты, окна в решетках. А собак сырым мясом кормит, чтоб злее были, честное слово!
Город кончался. Рассветало, можно было различить окрестности. Скоро вошли в лес. Опавшие с сосен иглы мягко ложились под ногами. За деревьями показалась широкая поляна стрельбища. В конце ее были блиндажи, над которыми ставились мишени. Туда пришла команда показчиков. Из деревянной сторожки доставали щиты всех видов, укрепляли их на земляных насыпях. Из лесу перекатами доносились песни. Роты выходили на поляну, занимали назначенные места. Между деревьями блестели офицерские погоны. Командир третьего батальона подал команду. Звонко сыграл горнист боевую тревогу. Подпрапорщик из восьмой роты прыгнул в блиндаж.
– Лезь скорее в укрытия! – приказал он, но солдаты и без него торопливо прятались.
Карцев сидел в блиндаже рядом с Рогожиным. Над ними ясно виднелись установленные в длинный ряд мишени. Опять резко и тревожно заиграл горнист, и сейчас же первые выстрелы хлестнули осенний воздух. Слышался протяжный свист пуль, шелест сыпавшейся земли. Черные дырочки от пуль появлялись на щитах.
– Мажут, мажут, – сердито говорил подпрапорщик, следя за мишенями.
Горнист заиграл отбой. Выстрелы затихли. Солдаты вылезли из блиндажей, длинными указками обводили попадания, мелом накрест отмечали дырочки.
– Каждая дырка – гадючья смерть, – бормотал Защима, уже неведомо как успевший выпить. – Я такие дырки кое-кому в головах провертел бы…
Рогожин что-то тихо ему шепнул, тревожно поглядев на подпрапорщика.
– Не принимает натура, – горько ответил Защима. – Бунта мне хочется! Другой жизни!
И, увидев подходящего к ним подпрапорщика, грубо толкнул Комарова:
– Ну, не ленись. Знай показывай.
Опять полезли в прикрытие. С линии донеслись выстрелы. И вдруг одна мишень под ударами пуль накренилась, и видно было, что она сейчас упадет. Ставивший ее солдат с растерянным лицом полез вверх по земляным ступеням, чтобы поправить щит. Снизу виднелись сбитые каблуки его сапог. Отбоя не было, стрельба продолжалась.
– Куда, дурень? – закричал снизу сердитый голос. – Убьют…
– Да ведь моя мишень, – сказал солдат, – я же в ответе. Вздуют.
Он ухватился за низ мишени и проворно отдернул руку. Пуля ударила в щит возле самой руки, и когда солдат хотел повторить свою попытку, Мазурин схватил его за ноги, стащил вниз, а сам взял указку, подцепил мишень, поставил ее на место и засмеялся, показывая конец указки, пробитый пулей.
– Ты что прыгаешь, черт тебя возьми! – выругался подпрапорщик. – Марш вниз!
Мазурин легко соскочил в блиндаж. Карцеву понравилась сообразительность Мазурина и та уверенность и спокойствие, которые были видны во всем, что делал этот человек.
Показчики стреляли в последнюю очередь. Мазурин и Карцев оказались рядом. Карцев видел, как ловко лег Мазурин на левый бок, одним движением открыл затвор, вставил обойму и толстым пальцем вдавил патроны в магазинную коробку. Приклад прочно вошел в выемку плеча, и Мазурин хладнокровно выпустил свои пять пуль. И когда белая указка пять раз отметила попадания, он радостно усмехнулся.
– Хорошо стреляешь, – с уважением сказал Карцев.
– Пригодится… – Мазурин заботливо собрал отстрелянные гильзы. – Не знаешь, где свое найдешь. – Достав масленку, налил немного масла в канал ствола. – Потом легче счищать нагар, – пояснил он. – Раз протер – и готово!.. Карцев, а ты заходи к нам, в восьмую роту, у нас весело.
– Спасибо, непременно приду.
Мазурин дружески кивнул и побежал в свою роту.
На обратном пути проходили мимо фабрики купца Бардыгина. Несколько городовых в черных шинелях, с толстыми красными шнурами, тянувшимися от шеи к револьверной кобуре, выводили из чугунных ворот арестованных. Парень в русском картузике шел первым. За ним, прихрамывая, плелся небольшого роста пожилой рабочий. Третьей была женщина лет тридцати пяти, в коричневом платке, круглолицая, со свежим кровоподтеком на правой щеке. Она ступала свободно, с поднятой головой. Городовые остановились, пропуская солдат. Тем временем вокруг арестованных выросла толпа. Работница в телогрейке всплеснула руками:
– Царица небесная! Да ведь это ж Манюшку взяли из нашего цеху!.. Мужики, что же вы смотрите? Не давайте ее!
Толпа надвинулась теснее, и городовые вынули револьверы. Подпоручик Руткевич, проходивший мимо ворот со своей ротой, бросился к рабочим.
– Марш отсюда, хамье! – крикнул он и ножнами шашки толкнул одного фабричного. – Стрелять прикажу!
Люди неохотно отступили. Городовые быстро уводили арестованных. Солдаты, опустив глаза, проходили с мрачными лицами. Разговоры в их рядах затихли. День был пасмурный. Стал накрапывать скучный, осенний дождь.
9
Казармы помещались на краю города и выходили на большой пустырь, где часто проводились военные занятия. Дальше тянулись холмистые поля, вдали темнел лес. Случалось, что солдаты забирались далеко – к лесным полянкам, таким диким и нетронутым, что не хотелось даже думать, что в трех-четырех верстах отсюда лежит грязный, запущенный город с немощеными улицами, без водопровода, с лучшим зданием – тюрьмой.
Карцев сделался хорошим солдатом. Он метко стрелял, научился работать на брусьях и турнике, усвоил правила строя. Поглядывая на его складную, крепкую фигуру, Васильев говорил зауряд-прапорщику Смирнову:
– Как жаль, Егор Иванович, что Карцев политически неблагонадежный. Какой бы из него толковый унтер-офицер вышел!
Но вряд ли хотелось Карцеву стать унтер-офицером. Ему было тринадцать лет, когда в Одессе разыгрались события тысяча девятьсот пятого года. Митя бегал вместе с товарищами в порт смотреть на грозные орудия «Потемкина» и даже пытался пробраться на славный броненосец, видел тело убитого матроса Вакулинчука, лежавшее на набережной в открытой палатке, с зажженными у головы свечами, читал надпись, что Вакулинчук убит за то, что не хотел есть борщ с червями. Затем ходил на Бугаевку и Нежинскую улицу, где два дома носили следы снарядов, выпущенных революционным броненосцем. Как-то Мите все-таки удалось вместе с рыбаками пробраться к борту «Потемкина», и он с восторгом глядел на дула двенадцатидюймовых орудий. Плакал от злости и обиды, когда броненосец ушел из Одессы, не перебив городовых и околоточных. А Митя и боялся и ненавидел их. Тогда же у ребят появилась игра, изображавшая, как «Потемкин» разрушает снарядами полицейские участки и оттуда, словно черные тараканы, расползаются в страхе полицейские. Игру придумал Митя и был самым заядлым ее участником. Но он не только играл «в революцию», а с большим гневом в сердце помогал рабочим строить на улицах баррикады, таскал туда в карманах коробки с револьверными патронами. Когда однажды к их квартиранту пришли с обыском, тот успел передать мальчику револьвер и пачку листовок. Митя хорошо знал, что, если все это у него найдут, беда будет. И, не решаясь на глазах городовых выйти из дому, сидел, затаившись, в кухне, пока длился обыск. Квартиранта увели, но к утру отпустили, и Митя, гордый от счастья, вернул ему боевое оружие. Вскоре Митя поступил на завод, участвовал в демонстрациях, подпольных собраниях, забастовках…
Друживший с Карцевым солдат Самохин был полной ему противоположностью. Царь для него как икона: он не смел размышлять, плох иль хорош царь, а просто принимал его как нечто незыблемое и священное. Шел Самохин по жизни узенькой тропинкой, не думая, что могут быть иные, лучшие пути, безропотно переносил солдатские невзгоды и только старался как можно реже попадаться на глаза начальству. Его то и дело пинали, бивал его под злую руку и взводный, а он, моргая, тянулся и не возмущался, считал все это обычным явлением. И когда Карцев ругал его за такую собачью покорность, он только тяжело вздыхал.
Ходили на занятия и новые вольноопределяющиеся – Петров и Сергеев. Офицеры говорили с ними на «вы», дежурить на кухню их не посылали. Петров по-прежнему жил в казарме и с каждым днем все больше и больше сближался с солдатами, а Сергеев носил гимнастерку из японского хаки, роскошные сапоги, жил на вольной квартире, с нижними чинами разговаривал высокомерно, и солдаты не любили его, считали чужаком. Юла Комаров попытался было подмазаться к Сергееву, предложил ему чистить сапоги, следить за его винтовкой. Филиппов, узнав об этом, рассердился.
– Шпана! – с презрением сказал он. – В денщики ладишься?
– А ты не лезь, – озлился Комаров. – Он не такой, как мы. Он барин. Почему не услужить? Он заплатит.
– Да ты любому готов зад лизать! За сколько подрядился, июда? Говори!
Комаров обиженно промолчал. Почему придирается к нему Филиппов? Солдаты бывают разные. Вот Павлов, например, из их роты: получает пятнадцать рублей в месяц из дому и, кроме того, посылки; куда ему деньги девать? Взводный здоровается с ним за руку, по воскресеньям они вместе выпивают, всякая ему поблажка от начальства. А вот его, Комарова, суют во все дырки, помыкают им как хотят, потому что у него, кроме казенного полтинника, нет ни копейки. А с деньгами, известно, везде хорошо, даже на царской службе. Сколько раз он видел, как Павлов жрал сало, копченую колбасу и хоть бы кого-нибудь угостил!.. Нет, разные бывают солдаты. Нельзя их всех мерять одним аршином!
Он побежал в первый взвод к Черницкому раздобыть курева. Закурил, пошел по казарме. Все чем-то заняты. Одни чинят одежду, другие играют в шашки, третьи строчат письма домой. Только ему, Комарову, некому писать. Он – бобыль. Земли у него нет, нет и дома. Был пастухом, батрачил, служил половым в рязанском трактире. Там хозяин смертным боем избил его за разбитый графин с водкой, вытолкнул с крыльца, сломал ребро. Он пять дней шел в Москву, не мог там устроиться и два месяца прожил на Хитровке. Что и говорить: не везло в жизни! И солдатчина ничего не изменила. Никто его тут не уважает, отделенный, как бы шутя, дает ему затрещины. А попробуй обидеться на начальство!.. Да, собачья жизнь… Он с завистью смотрит на Загибина – сытого, хорошо одетого в собственную одежду и сапоги, белолицего солдата с низкими «николаевскими» височками. Загибин – солидный человек, бывший лакей из «Метрополя», знаменитого московского ресторана. Он запросто заходит к Смирнову, ухаживает за его дочкой Сонечкой. Смирнов благосклонно относится к Загибину, знает, что у того есть деньги, дорогие вещи. Вот они какие дела…
В воскресенье многих солдат отпускали в город. Отправились погулять и Карцев с Черницким. Вид у них был опрятный, хотя и не щеголеватый: казенная, хорошо заправленная одежда, кургузые бескозырки. Прошлись по широкой Московской улице – главной в городе, на ней магазины с зеркальными окнами, несколько каменных домов. Завернули на Соборную площадь. Перед собором торчал городовой, похожий на Тараса Бульбу, с длинными усами. Только что закончилась служба, и на соборную паперть начали выползать купцы, чиновники, расфуфыренные дамочки; выходил из церкви, крестясь, и мелкий люд, убаюканный молитвенными песнопениями. Нищие протягивали руки, просили подаяние. Им бросали копейки. Появился поручик Жогин – «самоварчик», как его прозвали в полку за округлую фигуру на коротких ножках. Солдаты, да и все в городе знали, что он ищет в купеческих домах богатую невесту и поэтому каждое воскресенье непременно шествует в собор, надев парадный мундир с орденом Станислава в петлице. Карцев и Черницкий козырнули Жогину. Тот, не ответив на приветствие, прошел мимо. Черницкий усмехнулся, вздохнул:
– О-хо-хо!.. Как трудно иногда человеку быть человеком!
Они вышли к речке Гуслянке. На поляне шла торговля, завывала шарманка, толпились люди. Навстречу попалась девушка с тяжелой корзинкой.
– Тоня, здравствуй! – весело поздоровался Черницкий и протянул руку.
Девушка улыбнулась, поставила корзинку на землю. Прядь светлых, вьющихся волос упала на лоб.
– Познакомься: это Карцев, мой товарищ, хороший парень. Люби его, как меня.
– Мало ему тогда достанется, – засмеялась Тоня. – Ну, прощайте, некогда мне.
Черницкий поднял ее корзинку.
– Мы проводим тебя, – сказал он.
Они шли рядом – два солдата и девушка. Тоня задумалась и не слушала веселой болтовни Черницкого.
– О чем вы грустите? – участливо спросил Карцев.
Она испуганно посмотрела на него:
– Так… Ничего.
И вдруг чему-то улыбнулась. Карцев отметил, какие у нее живые глаза, хорошая улыбка.
Когда прощались, он крепко сжал ее руку:
– Всего вам доброго. Буду рад встретиться с вами.
– Спасибо.
Тоня, подхватив корзину, скрылась в калитке.
– Кто она? – спросил Карцев.
– Горничная у командира полка. Хорошая, серьезная девушка, и должен тебе сказать…
Черницкий запнулся, толкнул Карцева в бок, и они, вытянувшись, отдали честь поручику – заведующему солдатской библиотекой. Поручик внимательно посмотрел на Карцева:
– Читатель Горького? – И, внушительно подняв палец, добавил: – Помню, помню тебя…