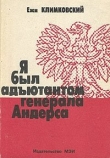Текст книги "Солдаты вышли из окопов…"
Автор книги: Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 29 страниц)
Солдаты вышли из окопов…
КНИГА ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Музыканты – пятнадцать солдат в мокрых сапогах – маршировали по грязной, немощеной улице. За ними с сундучками на плечах и спинах торопливо шли новобранцы, окруженные солдатами. Коренастый фельдфебель, шагая по деревянным мосткам тротуара, все время подозрительно поглядывал – не сбежал ли кто-нибудь?
У пригнанных со всех концов России молодых людей были встревоженные, напряженные лица. Лишь немногие ухарски посматривали кругом. Трое шли обнявшись – их сундучки вез старик на ручной тележке – и пели «Лучинушку». Но песня не получалась. И рослый новобранец в желтом, как масло, полушубке насмешливо говорил, косясь на певцов:
– Вот поют! Вот поют! На каторге так поют…
На повороте, возле зеленого одноэтажного домика, у парня, шагавшего в первом ряду, вдруг сорвался с плеча сундучок, и вещи вывалились прямо в лужу.
Фельдфебель скосил на него недовольный взгляд. Ефрейтор подошел и, сердито качая головой, сказал:
– Эх, сопля! Всю команду портишь!
Новобранец неловко и поспешно запрятал вещи в сундучок и, так как крышка плотно не захлопывалась, понес его, держа на груди, как охапку дров. Ему было трудно нести, руки не сходились на сундучке, затекли, но остановиться он не решался и шел, тяжело дыша.
Во дворе казармы фельдфебель, вынув из-за обшлага шинели бумагу, начал вызывать каждого по списку. В его голосе слышались низкие, властные ноты, тусклые глаза отсвечивали железом.
– Карцев! – выкрикнул он, и новобранец, который обронил на улице сундучок, вышел вперед.
– Что же ты, братец, неаккуратный такой? – спросил фельдфебель. – Сегодня барахло рассыпал, завтра винтовку уронишь. А?
– Скользко было, – ответил Карцев.
– Молчи, когда с тобой начальство говорит, тянись да слушай, – пригрозил фельдфебель.
Кривоногий ефрейтор с прижатыми, словно приклеенными к голове, ушами подошел сзади.
– Говори: «Слушаю, господин фельдфебель!» – сказал он. – Понял?
Карцев молчал.
– Понял? – настойчиво повторил ефрейтор. – Отвечай, когда начальство спрашивает.
– Понял.
– Тошно с вами, серыми чертями, возиться, – пробурчал ефрейтор и вдруг заорал: – Повторяй за мною: «Точно так, понял, господин ефрейтор!»
Карцев внятно повторил всю фразу. Лицо у него сжалось, стало угрюмым.
2
Карцев призывался в Одессе. Ему хорошо запомнилось воинское присутствие с вонючими коридорами, набитыми полураздетыми людьми, со шмыгающими писарями, наглыми и, как сразу было видно, продажными – они торговали чем только можно: и протекцией к врачу, и правом освидетельствования вне очереди, и назначением в хороший полк, обещанием льготы, освобождением от службы и многим другим. Он провел там несколько дней, дожидаясь, пока его вызвали, измерили рост и объем груди; врач со скучным лицом спросил его, не болел ли он гонореей, потом постукал крючковатыми пальцами по его груди и объявил годным. Ему выдали записку на сборный пункт к воинскому начальнику, и Карцев вышел, довольный, что избавился наконец от утомительного ожидания. Через два дня он явился к воинскому начальнику. Писарь с лаковыми глазами принял его вежливо. Щурясь и улыбаясь, расспросил, есть ли у него жена или девочка и не желает ли он до отправки в полк ночевать дома.
– А разве можно? – недоверчиво спросил Карцев.
– Все можно-с, – хихикая, ответил писарь и так ловко пошевелил пальцами, что Карцев сразу понял.
– Денег нет, – резко ответил он.
Писарь, сделав вид, будто не расслышал или вообще ни о чем не разговаривал с ним, закричал на новобранцев, чтобы те не торчали у него перед глазами, затем сложил стопкой бумаги, подравнял их и, мусоля пальцы, начал считать документы, как кассир деньги.
– А ты чего тут маячишь? – грубо сказал он Карцеву. – Марш отсюда во двор, в казарму!
Казарма у воинского начальника оказалась огромным помещением, с нарами в два этажа, как в бараках. Воздух был терпкий, прогорклый, воняло карболкой, всюду, куда ни глянешь, – грязь, оконные стекла так запылились, что почти не пропускали света. Видно было, что это временный этапный пункт и никто не хочет заботиться, чтобы он выглядел чище. Карцев, угрюмо оглядевшись, опустил на нары свои вещи.
Рядом с ним сидел с безнадежным видом маленький, худой человек с высоким лбом и странными глазами: большие, сиреневые, они смотрели так живо и тепло, что казались чужими на этом бледном, невеселом лице. Соседа звали Орлинский. Они разговорились с Карцевым.
– Какая тут грязища, – с отвращением сказал Орлинский. – Как надо не уважать человека, чтобы держать его в такой дыре!
– А за что нас уважать? – шутливо заметил Карцев. – Разве мы купцы или домовладельцы?
– Мне очень трудно, – тихо сказал Орлинский. – Если хотите, я боюсь. Да, боюсь. Не могу побороть себя… – Губы у него сморщились. – Понимаете, это не обычный страх. Это совсем другое… – Он оглянулся и прошептал, задыхаясь: – Я боюсь чужой, грубой власти. Ведь они могут заставить меня делать все, что захотят… Грабить и даже убивать… Понимаете?
Карцев взглянул на него с недоумением.
…На второй день явился воинский начальник – толстый полковник с лицом, исчерченным извилистыми кровяными жилками. Он обошел выстроившихся во дворе новобранцев и произнес речь.
– Теперь, ребята, вы будете служить царю и отечеству, – говорил он. – Вы все отныне родные братья, воины белого царя, защитники России. Вас все уважают, вам завидуют, и вы должны гордиться высокой честью, которая вам оказана.
Полковник помолчал и закончил:
– В полках, куда вас назначат, вы будете одинаково пользоваться отеческой заботой ваших начальников, и поэтому я не стану принимать никаких просьб о назначении в те или иные города. Везде служить хорошо, если честно выполнять свой воинский долг.
Одни смотрели покорно, другие насупились. Кто-то буркнул:
– Хорошо служить в солдатах, да что-то охотников мало!
Полковник, выставив грудь, закричал:
– Орлами, орлами смотреть! На царскую службу идете!
Оркестр заиграл веселый марш, писаря и унтер-офицеры стали кричать «ура». Новобранцев распустили, и к вечеру многие перепились. Водку покупали тут же у каптенармусов по повышенной цене. В казарме зажгли керосиновые лампы. Тусклый свет с трудом пробивался сквозь густой махорочный дым. Будущие солдаты сидели и лежали в обнимку на нарах, жаловались друг другу на злосчастную судьбу, целовались, плакали, пели…
Так провели всю ночь. Начальство не входило в казарму, зная по опыту, что лучше сейчас не трогать новобранцев: пусть погуляют напоследок – в частях все равно их обломают как полагается.
На третий день происходила разбивка по частям. Новобранцев по одному вызывали в канцелярию и давали назначение. Одни уезжали в Московский округ, другие в Сибирь, Туркестан, на персидскую границу. Мало кого оставляли на месте призыва: подальше от дома – спокойнее.
Сформированные под начальством ефрейторов и унтер-офицеров команды отправляли на вокзалы и там грузили их в товарные вагоны.
Партия, в которой ехали Карцев и Орлинский, попала в вагон четвертого класса, что для новобранцев считалось роскошью. Пассажиры охотно заговаривали с ними, давали советы, бывалые люди рассказывали, как им раньше служилось в солдатах.
На маленькой станции в вагон вошел старый рабочий с бородкой конусом и в очках с железной оправой. Он тут же включился в беседу, говорил ласково и насмешливо:
– Вот гляжу я на вас, пареньки: люди вы как люди, жили себе, работали, никому ничего плохого не делали, а теперь натаскают вас, как борзых, и станете вы, пареньки мои милые, вроде гладиаторами.
– Это кто же такие гла-ди-а-то-ры? – спросили у него.
Старик спокойно ответил:
– Гладиаторами, ребятки вы мои, назывались в древнем Риме рабы, плененные… Их специально обучали выступать в цирках и на потеху римской знати убивать друг друга.
К разговаривающим подошел ефрейтор и сердито взял старого рабочего за плечо.
– Ты что это слова всякие нехорошие тут говоришь? – грозно спросил он. – Смотри, сдам тебя куда надо. П-шел отсюда!
Старик улыбнулся.
– Я что же, я уйду, – ответил он, вставая. – Только я нехорошего им ничего не говорил.
– Слышал, слышал, что ты говорил!
– А разве неправда? – смеясь глазами, спросил старик. – Вот, к примеру, посмотри на себя. Тоже ведь заводной машиной сделали: сам тянешься и других тянешь. А, по всему видно, был, как и они, молочным когда-то…
Ефрейтор не нашелся что ответить.
– Иди, иди, – толкал он рабочего, – не к чему здесь языком трепать. Очки надел и задается. Тоже мне – лебедь-птица!
Ефрейтор был худощавый, узкоплечий парень с рыжими усами, неловко торчавшими над фиолетовыми губами. Лицо у него было бездумное, глаза цвета серой, засохшей земли. Двигался он размеренно, каким-то заученным шагом. И только когда спал или сидел в стороне, что-нибудь делая, его лицо и движения менялись, становились более простыми. И тогда можно было разглядеть в этой обезличенной фигуре неуклюжесть и застенчивость деревенского парня, а в глазах – невеселость и нетерпеливое ожидание чего-то.
3
Широкая деревянная лестница вела в просторные сени казармы, заставленные умывальниками и баками с кипяченой водой. Комнаты были светлые, с побеленными стенами и потолками, с вымытыми до блеска стеклами на окнах, с железными койками, одинаково заправленными одеялами из шинельного сукна. У стен стояли пирамиды для винтовок, а выше, вместо бордюра, черной краской были написаны изречения военной мудрости: «Пуля дура, а штык молодец», «Промедление смерти подобно есть», «Солдат – слуга царю и отечеству» и тому подобные.
Карцева в числе других назначили в первый взвод десятой роты. Взводный, старший унтер-офицер Машков, полный, ленивый в движениях, внимательно оглядел присланных к нему на выучку парней.
– Ну вот, ребята, – внушительно начал он, став против новобранцев и оттопырив пояс двумя пальцами. – Я уклонений не люблю. Тут вам не вольная жизнь. Хотя, конечно, и не каторга. Но военная служба, запомните, не тещин дом. Приказ – святая вещь. Избави бог его не выполнить. Иначе никакой пощады не будет. Портянка, добавлю, первая вещь для солдата. Без правильной завертки сотрешь ногу, а солдатская нога – казенное имущество. Тогда тебя, сволочь, накажут, и будет правильно. Тут и нарядов не жалко и под винтовкой сгниешь. Вообще. Еще скажу о высоком воинском звании. Сам государь император изволит носить военную форму, и вас того же удостаивают. Кто этого не поймет, тот пускай лучше просится в дисциплинарный батальон. Вникли? Начальство должны знать в лицо и по походке, и по звуку голоса, и по присвоенным ему отличиям. Называть начальство надо по чину и званию, и слушать его как господа бога. Без того никакой службы нет. К примеру, я – непосредственное ваше начальство: зовусь господин взводный, старший унтер-офицер Иван Николаевич Машков. Вот кто я! Запомните. Чтобы ко мне обратиться, должны раньше на то испросить разрешение у вашего отделенного командира. Вникли?
Он стоял перед ними в непоколебимом сознании своей власти, и они молча смотрели на него. Карцеву взводный казался похожим на каменного идола, которого он видел в музее.
Машков назначил к новобранцам старших, и те развели их по местам. Шестеро, направленные в первый взвод, пошли в цейхгауз за койками и постельными принадлежностями. Возле Карцева обосновался приехавший одновременно с ним Самохин – белокурый парень с плоским лицом, вялыми движениями и непомерно большими ногами. Карцев прилаживал койку. Сбитые доски с изголовьем клались на железные козлы. Все это сооружение было неустойчивым и качалось при малейшем движении лежащего на нем. К Самохину, распластавшемуся на койке, подошел рябой солдат мелкого сложения и, моргая глазами, спросил, не хочет ли тот поехать в отпуск. Самохин, усмехнувшись, ответил:
– Известно…
– Так ехай, – добродушно предложил солдат и, ухватив койку за край, потянул ее к себе и отпустил. Козлы качнулись, повалились, и койка с Самохиным рухнула на пол. Весь взвод хохотал.
– Ну вот и поехал в отпуск, – тоненько смеясь, проговорил солдат. Он суетился, заглядывая всем в глаза, и не трудно было понять, что историю с койкой он проделал, чтобы угодить другим, а не для собственного удовольствия.
Самохин встал сконфуженный и принялся неловко поднимать койку. Солдат с готовностью помогал ему. Карцев не удивился этой выходке. Он живал в бараках и знал, что в таких общежитиях существуют свои обычаи и нравы, часто жестокие, и надо по возможности мириться с ними, не давая все же себя в обиду: слабых нигде не любят.
Вскоре Карцеву выдали обмундирование и белье. Сапоги попались не по ноге. Он попросил обменять их.
– Меньших нету, – заявил каптенармус.
Карцев машинально опустил руку в карман, и тогда каптенармус, оживившись, сбросил с полки другие сапоги. Они были впору, и Карцев, поблагодарив, пошел к дверям. Каптенармус озадаченно посмотрел ему вслед и проворчал:
– Ну и фрукт. Погоди ты у меня! Научишься, как руку в карман совать… Задаром у нас не проживешь…
Первый день прошел без особых событий. Перед вечером пришел фельдфебель, зауряд-прапорщик Смирнов. Он осмотрел новобранцев, как осматривают поступивший товар, подергал за гимнастерки, потыкал пальцем в животы.
– Свеженькие! – выкрикивал он, глотая слова. – Рады, уж как рады мы вам!..
Полное лицо его казалось добродушным от плотной, седеющей бородки и от сощуренных глаз. На груди висел Георгиевский крест.
– Машков, – похрюкивая, продолжал он, закладывая пальцы обеих рук за пояс, – ты уж хорошо позаботься о молодых. Пригрей их, научи солдатскому обиходу. Они ведь серенькие, пушком еще покрыты…
– Слушаю, господин прапорщик, – отвечал Машков.
Звание зауряд-прапорщика Смирнов получил на японской войне, но он любил, когда его называли прапорщиком, и вся десятая рота отлично это знала. Он занимал среднее место между офицером и нижним чином, и тем ревнивее берег все то, что по крайней мере внешне приближало его к офицерам: офицерские погоны (но с желтой фельдфебельской нашивкой), офицерскую кокарду и пуговицы с накладными орлами.
– Так, так, – нараспев сказал Смирнов, – пришел к нам четырнадцатый годок. Просим, просим до нашего шалашу.
И покатился по коридору – маленький, круглый, – махая короткой рукой.
Вечером во дворе казармы Карцев встретил Орлинского и обрадованно пожал ему руку. Орлинский выглядел неуклюже в своей плохо пригнанной солдатской одежде, гимнастерка топорщилась, пояс спускался на живот.
– Милый друг, – улыбнулся Орлинский, – я рад, очень рад видеть вас. Вы такой здоровый и спокойный, что и я чувствую себя увереннее оттого, что вы здесь, со мной. Значит, не пропадем, правда?
– Зачем же пропадать? – Карцев дружески положил руку на плечо Орлинского. – Сперва всегда тяжело. Обживемся, и не плохо будет. Главное – не терять духа.
– Спасибо, – как всегда тихо, сказал Орлинский.
Беседуя, они шли по огромному, почти квадратному двору. Одноэтажные деревянные казармы замыкали его со всех сторон. В заднем, левом углу находились солдатская лавочка и библиотека. Там же помещалась музыкантская команда полка, и оттуда постоянно слышалось разрозненное гудение труб. Тромбон густо выводил веселый марш, флейта по-детски тоненько пела «Коль славен наш господь в Сионе», а баритон осторожно наигрывал трепака. Между лавочкой и казармой восьмой роты образовался уголок, вроде узенького коридора с навесом в глубине. Там часто собирались солдаты, устроив себе подобие клуба. До слуха Карцева доносились сдержанные голоса: кто-то с нерусским выговором произнес длинную фразу, ему ответил другой голос – низкий и возбужденный. Карцев шагнул под навес. Орлинский последовал за вновь обретенным другом, неловко подымая ноги в тяжелых сапогах (он до военной службы никогда не носил сапог).
Под навесом сидел на корчаге широкоплечий белобрысый солдат с печальными голубыми глазами, держа на коленях руки с туго сцепленными пальцами. Возле него стоял другой, с черными как уголь глазами, черными были и его волосы, усы и плохо выбритое лицо. Кадык, как сломанная кость, остро выпирал из-под кожи. Это был Гилель Черницкий – старый солдат десятой роты, с которым уже успел познакомиться Карцев. Черницкий говорил белобрысому:
– Еще раз повторяю, Мишканис: не следует торопиться, пропадешь ни за понюх табака.
Мишканис упрямо покачал головой:
– А мне все равно. Так скучаю, так скучаю, что больше невмоготу.
– Ну ладно, еще потолкуем, – сказал Черницкий, – а пока что идем в лавку.
Мишканис спокойно встал и пошел не к лавке, а в другую сторону.
Черницкий заговорил с Карцевым:
– Ну, как себя чувствуешь?
– Очень хорошо. Так понравилось, что думаю на три года здесь остаться, – ответил Карцев.
– Боевой парень! Нигде не пропадешь! – Черницкий хлопнул Карцева по спине.
И покосился на Орлинского:
– А вы, я вижу, тяжело разочарованы. Но знайте, что солнце и тут светит, и никто, даже сам господин фельдфебель, не в силах его потушить.
…Они вошли в лавку, полную махорочного дыма. Продавец – ефрейтор в смятой бескозырке – резал ситный широким, как топор, ножом, клал на стойку пачки махорки, взвешивал баранки, колбасу, ловко бросал медяки в ящик. Многие солдаты стояли, ничего не покупая. Три копейки на ситный, две на махорку имелись далеко не у всех. На подоконнике сидел солдат в собственном обмундировании, в хороших хромовых сапогах и ел колбасу с белым хлебом.
– Купцам везде сладко, – сказал Комаров, тот мелкого сложения солдат, что опрокинул койку Самохина. – Им даже на военной службе – жизнь, а мы и на воле дохнем.
Солдат доел колбасу, достал пачку папирос и закурил. Комаров подскочил к нему, угодливо хихикая, протянул руку к пачке, но тот, словно не замечая его, вышел из лавки.
Черницкий купил папирос, предложил Комарову закурить. Комаров быстро схватил папиросу, стукнул мундштуком о ноготь, чиркнул спичкой.
– Покорнейше благодарим, господин старослужащий! – ухарски выкрикнул он и подмигнул Карцеву. – Старослужащий – это тебе не серый, – важно объяснил он. – Для такого звания надо двое шаровар сносить да дерьма сто пудов вычистить, вот так-то…
И вдруг сразу как-то сник, мгновенно исчез. В лавку входил офицер – грузный, с черными рожками усов над красными, спелыми губами. Продавец оглушительно крикнул:
– Встать! Смирно!
И вытянулся за стойкой, опустив руки по швам. Головы солдат повернулись к вошедшему, как подсолнухи к солнцу.
– Вольно, – скомандовал офицер и, не повышая голоса, обратился к Орлинскому: – Как стоишь? Почему ноги расставил, когда командуют «смирно»?
Орлинский растерялся.
– Видите ли… – начал он.
Офицер грубо прервал:
– Дурак! Как обращаешься? В гости ко мне, что ли, пришел?
Черницкий с рукой у козырька шагнул вперед:
– Разрешите доложить, ваше благородие? Это новобранец. Два дня назад прибыл в роту.
– Так не выпускайте его из помещения, пока не научится обращаться к начальству.
Офицер прошел к шкафу, стоявшему в углу.
– Кто в библиотеку, подходи, – приказал он и опустился на стул.
Солдат-библиотекарь выдавал книги, записывая фамилии. Солдаты робко брали потрепанные томики и, повернувшись через левое плечо, выходили уставным шагом.
Карцев попросил что-нибудь из произведений Горького. Офицер быстро повернулся к нему:
– Что? Кого ты просишь?
– Горького, – повторил Карцев, – Максима Горького, ваше благородие.
– Мак-си-ма, – по складам повторил офицер. – Ты даже имя знаешь? Хм!.. А Белинского не желаешь? Или, может, Чернышевского?
Приподнявшись, он вылез из-за стойки и с удивлением рассматривал Карцева.
– Откуда ты взялся? Какой роты? Фамилия?.. Новобранец? Так, так… Вот что, голубчик… возьми-ка, почитай «Битву русских с кабардинцами». Это полезнее Горького. Ступай!
4
Карцева и Самохина обучал Филиппов – солдат, у которого через два месяца кончался срок службы. Филиппов был неспокоен (уж очень долго тянулись последние дни!), рассеянно занимался со своими учениками и подтягивался лишь при появлении начальства. Тогда он весь будто деревенел, грубо кричал, ругался, так как другого метода обучения не знал за все время своей солдатчины.
Ему дали третьего ученика – грузина Чухрукидзе, прибывшего в полк позже других. В косматой бараньего меха шапке, смуглый и горбоносый, он сидел у стены коридора на своем сундучке, похожий на дикую птицу, нечаянно залетевшую в чужие места. Утром его остригли, переодели. И теперь, сразу похудевший, с запавшими глазами, он стоял перед Филипповым, ничего не понимая из его объяснений. И Филиппов зверел, подносил кулак к лицу новобранца:
– Как же тебя, сволочь, не бить? Ну, повторяй за мной, дьявол, повторяй!
Чухрукидзе молчал.
Тогда Филиппов попросил разрешения взять на помощь другого грузина – Махарадзе, служившего почти два года.
– Ты что выдумываешь? – наскочил Смирнов на Филиппова. – Хочешь здесь грузинскую армию создать? Не знаешь разве, что русского солдата можно обучать только по-русски? Возьмешь два наряда не в очередь!
Филиппов не понимал, почему нельзя обучать Чухрукидзе по-грузински, но знал, что возражать зауряд-прапорщику нельзя. Он все же уговорил старого солдата Махарадзе подучить своего земляка, да так, чтобы никто об этом не пронюхал. И Махарадзе занимался с ним в сарайчике, за уборной, куда не заходила ни одна душа.
Карцеву военная наука давалась легко. Сильный и хорошо приспособленный к работе, привыкший на заводе к дисциплине, он быстро усваивал уроки Филиппова, купил книжку Березовского «Первый год обучения солдата» и знакомился по ней с главными положениями солдатской премудрости.
Самохину же приходилось труднее. Он плохо запоминал то, чему учил его Филиппов, выправка у него была плохая, да и весь он, хилый, неказистый, мучительно переносил солдатскую службу, всегда со страхом шел на занятия. К Филиппову он мало-помалу привыкал, но взводный унтер-офицер Машков возбуждал в нем ужас и смятение. Когда тот проходил с медным, злым лицом и смотрел на Самохина, бедный парень ничего не соображал, все путал. Офицеры вообще казались ему существами, в которых не было ничего человеческого. В его представлении они управляли той грозной и страшной машиной, что засосала и его, Самохина.
Однажды занятия проводил младший офицер роты подпоручик Руткевич – высокий, молодой, с едва пробивавшимся на верхней губе пушком; Самохин же видел только его офицерский мундир, пуговицы с накладными орлами и твердые блестящие погоны. Руткевич поздоровался с ним, а он молча шевельнул губами и, как рыба, вытащенная из воды, раскрыл рот.
– Почему не отвечаешь? – спросил Руткевич.
Самохин заплакал, судорожно всхлипывая.
– Отпусти его полегче, – сказал Руткевич Филиппову. – Дай привыкнуть.
Филиппов сочувственно посмотрел на Самохина, на его несчастное лицо, на согнутую фигуру.
– Чего ты плачешь? – спросил он. – Ведь я тебе плохого не делаю… Ну, ну, не распускай соплей…
Во время занятий ротный писарь ефрейтор Шпунт вызвал Карцева к ротному командиру.
И когда они отошли, спросил, не поворачивая головы:
– У тебя в сундучке нет ничего т а к о г о?
– Ничего… А что?
Перед ними неожиданно выросла фигура зауряд-прапорщика Смирнова.
– На носках, на носках, марш, марш! – скомандовал он.
В ротной канцелярии за столом, читая бумаги, сидел капитан Васильев – небольшого роста, худощавый.
– Молодой солдат Карцев явился по приказу вашего высокоблагородия! – вытянувшись и держа руку у козырька, четко произнес Карцев.
Васильев уставился на него синими спокойными глазами, потом встал, подошел к нему и, подкручивая свои соломенные усики, негромко сказал:
– Здравствуй.
Карцев выкрикнул ответное приветствие.
– Откуда? Чем занимался до службы?
Карцев ответил.
– Был под судом?
– Был. По делу о забастовке на заводе, ваше высокоблагородие.
Васильев шагнул к столу, вынул из конверта, носившего следы сургуча, бумагу, стал ее читать.
– Ты политически неблагонадежный?
– Не знаю… – Карцев почувствовал, как злой холодок подступает к сердцу. – Мне ничего об этом не известно.
– Помни: если хоть ниточку замечу, хоть волосочек, не пощажу. Прямо под суд!
Васильев заходил взад и вперед по комнате, крутя усики. Писарь Шпунт работал у стола с безучастным видом.
Карцев с удивлением отметил, что капитан волнуется.
– Прошу тебя, братец, не порть мне роту, – внушительно сказал Васильев, снова подойдя к Карцеву. – Я за тебя отвечаю, понял?
– Так точно, понял.
– Ты меня подведешь, а к чему тебе это? Веди себя честно, как и подобает русскому солдату.
Дверь скрипнула, и на пороге появился Смирнов.
– Егор Иванович, – обратился к нему Васильев, – распорядитесь, чтобы принесли его сундучок. Впрочем, пусть он сам принесет.
– Слушаю, господин капитан! Карцев, за мною, марш!
Через несколько минут сундучок новобранца был в канцелярии. Васильев посмотрел на аккуратно сложенные вещи, ни к чему не притронулся. А Смирнов, став на колени, начал шнырять руками в сундучке, вытащил тоненькую книжку, прочел заглавие.
– Похвально! – сказал он, передавая книгу Васильеву. – Учебник для рядового первого года службы. А больше, господин капитан, ничего такого нет…
Васильев улыбнулся:
– Ну, вот и прекрасно.
И написал на обложке учебника:
«Разрешаю. Командир 10-й роты кап. Васильев».
– Только не держи у себя книг без моей подписи, – предупредил он.
– Слушаю, ваше высокоблагородие!
5
С полковых работ вернулся второй взвод. Солдаты весело вбегали в казарму, стучали сапогами, перекликались с товарищами. В сенях им оставили два ведра с супом и кашей. Взводный, старший унтер-офицер Колесников, первый налил себе густого супа, положил самой жирной каши, затем взяли себе отделенные командиры, а уже после этого ведра понесли в коридор и поставили там на длинный стол, за которым обычно солдаты пили чай и чистили винтовки. Голодные люди, не разливая суп в баки, хватали его прямо из ведра ложками и вычерпали все до дна. Принесли заваренный кипяток в огромном медном чайнике. Те, у кого не было сахара, пили чай с черным, посоленным хлебом.
Керосиновые лампы, подвешенные к потолку, лили желтый скупой свет. Солдаты сидели за столами, расхаживали маленькими группами, разговаривали. Это был лучший час, когда все трудности дня оставались позади и можно было отдохнуть, заняться своими делами. В это время писались солдатские письма, осторожные и сдержанные, так как было известно, что конверты вскрываются. Самое заветное и нужное старались переслать с оказией, с верным человеком.
Кобылкин, получивший от взводного наряд, чистил винтовку. За высокий рост и худобу его прозвали в роте «цаплей». Уперев винтовку прикладом в пол, он водил шомполом с намотанной на конце промасленной тряпочкой. Костистое лицо Кобылкина было печально. Его мучило письмо, полученное из дому: жена писала, что всю собранную рожь взял лавочник за старый долг, и спрашивала, нельзя ли продать тулуп, иначе она не обернется.
Шомпол со свистом и шипением входил в канал ствола, вытесняя грязные, пенистые пузырьки масла, а Кобылкин видел перед собою свою избу, низенькую жену Симу и ситцевую занавеску, отделявшую угол, за которым он спал с Симой и ребенком. Домой Кобылкина не тянуло, но и тут было плохо. А какому солдату хорошо? Наверно, у каждого своя боль, свое несчастье… И Кобылкин длинно и тяжело вздохнул, поднял винтовку, заглянул прищуренным глазом в дуло – блестят ли как положено винтовые нарезы канала?
Открылась дверь, ведущая в квартиру Смирнова, и вышел он сам – в войлочных туфлях и старой шинели, служившей ему халатом. Двигался зауряд-прапорщик медленно, локтями подтягивал сползающие штаны. Осмотрел винтовку Кобылкина, вслух прочитал ее номер, год выпуска.
– Еще на японской была, – задумчиво произнес он и пошел дальше. Толстый, кругловатый, Смирнов напоминал крестовика, осматривающего свою паутину: крепка ли она, не прорвалась ли где-нибудь хитрая петля? За ним настороженно наблюдали солдаты. Он хорошо это видел. У него верный, волчий нюх, и, потолкавшись по казарме, Смирнов вернулся к себе. Все мирно и спокойно, но какая всему этому спокойствию цена?
В казарме рассказывали о том, как били зауряд-прапорщика. «Учили» его за страшную, изводящую солдат нудность, за то, что он и ночью не оставлял их в покое, выходил в шинели, накинутой на белье, – тесемки кальсон волочились за ним, – засматривал в лица солдат, проверял, правильно ли сложены вещи, уличал заснувшего дневального и говорил:
– Возьми, сукин сын, три наряда.
Его накрыли в одну из таких ночей и, укутав одеялами, мяли, били, тискали, и все это – молча, без единого звука. Он не кричал, зная, что убить его не рискнут, и только поджимал голову к груди. Его покатили по коридору до дверей квартиры и, ударив напоследок, втолкнули туда. Он не жаловался, никому не рассказал, что с ним случилось. Только запомнил ефрейтора со странной фамилией – Защима, дежурившего в ту ночь. Защима не выходил у него из дисциплинарных взысканий, получал самые тяжелые назначения, и в конце концов Смирнов сумел допечь его.
…Взводный Машков поднялся со своей койки и скомандовал становиться на песни. В роте знали, что он остается на сверхсрочную службу и скоро поступит в школу подпрапорщиков. Машков прекрасно усвоил железное правило начальства: ни на одну минуту не оставлять солдата праздным, дабы ему не лезли в голову «вольные» мысли. Песни – другое дело, – верные, хорошо подобранные, они настраивают солдата на боевой лад, придают бодрость, а если и позволяют грустить, то тихо, мечтательно, безвредно для начальства.
Солдаты построились кру́гом. Машков стал в центре, расправил плечи, сложил руки на груди.
– Руки на грудь! Слева направо качаться! – покрикивал он. – Раз-два! Раз-два!.. Запевай «Кари глазки»!
Расставив для равновесия ноги, скрестив на груди руки, все ритмично раскачивались, точно убаюкивали себя. Солдат с тонкой шеей откашлялся и начал чисто и мягко, задушевным тенором:
Кари глазки, куда вы скрылись,
Мне вас больше не видать…
Остальные дружно подхватили:
Эх, куда же вы удалились,
Навек заставили страдать…
Многие забывались в песне. Обмякали лица, туманились глаза, затихала на время солдатская тоска, на душе делалось легче. Песни следовали одна за другой и закончились разудалой «Взвейтесь, соколы, орлами». На дворе горнист заиграл вечернюю зорю. Дежурный, придерживая у пояса штык, пробежал по казарме, торопил:
– Становись на поверку!
Солдаты, подтягивая пояса, выстроились во всю длину коридора. Взводные и отделенные стали перед вздвоенной шеренгой. Началась перекличка. Голос откликавшегося выскакивал, точно клавиша на рояле, когда ее ударяют. Но одна клавиша промолчала: не отозвался Мишканис…
– Если сегодня не явится, доложить ротному командиру, – проворчал Смирнов.
Но Мишканис не явился и на следующий день. Его сначала считали в самовольной отлучке, а потом приказом по полку объявили находящимся в бегах.