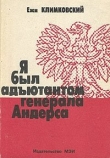Текст книги "Солдаты вышли из окопов…"
Автор книги: Кирилл Левин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц)
Бредов с уважением глядел на плечи, выдерживающие такую тяжесть. Алексеев шел сгорбившись, устало подымая ноги. Бредов смотрел на него сзади, и внезапно страх охватил его. Верит ли генерал в победу? Ведь ему лучше, чем всем другим, ясны причины поражений русских. Отдана Галиция, добытая большой кровью. Только недавно потеряна Варшава, пали лучшие русские крепости – Новогеоргиевск, Брест-Литовск, Ковно, Осовец… «А если… если Алексееву ясно, что победы не будет?» – ужаснулся он своим мыслям.
18
По дороге, покрытой мягкой шелковой пылью, во главе остатков своей роты шел Петров. Ему нестерпимо хотелось пить. Он облизывал распухшим языком губы, песок хрустел на зубах. С трудом переставляя ноги, за ним брела кучка солдат. Тяжело вздохнув, Петров подумал, что сегодняшний день надолго запомнится ему. Только час тому назад рота вышла из боя. На лесистом холмике остались убитые, пустые гильзы патронов… Десятая рота прикрывала отход полка и отступала последней. Больше двух верст пробирались лесом и вышли наконец на дорогу. Воздух сотрясался от артиллерийской стрельбы. Бой, очевидно, шел с обеих сторон, и Петров с раздражением поглядывал влево, где совсем близко рвалась над деревьями германская шрапнель. Он увидел Карцева, у которого голова была перевязана розовым от крови бинтом, и окликнул его. Карцев шел шатаясь. Голицын нес его винтовку.
– Сейчас же на перевязочный пункт! – распорядился Петров.
– Ничего, – пытаясь улыбнуться, ответил Карцев. – Я с ротой останусь…
Пить хотелось так мучительно, что больше ни о чем нельзя было думать. Петров решительно свернул с дороги к какому-то деревянному строению. Строение это оказалось обыкновенным сараем со сломанными дверями. Сквозь разбитую стенку он увидел зеленый матовый отсвет и, проворно обежав сарай, нашел большую круглую лужу, покрытую плесенью. Наклонившись, отогнал руками плесень и стал пить. Вода была теплая, с резким запахом болота, но он не мог оторваться и все пил и пил. Потом сел, прислонясь к стене, снял мокрые сапоги. Солдаты, толкаясь, бежали к луже. Напившись, обливали головы. Петров перемотал мокрые портянки, с трудом натянул сапоги и встал. Опять вышли на дорогу. Справа что-то началось. Там чаще стали стрелять, слышались крики. Худощавый прапорщик в стоптанных солдатских сапогах бежал оттуда к роте.
– Приказ начальника дивизии! – кричал он. – Я вам говорю, что приказ начальника дивизии! Куда же вы уходите?
– Мы прямо из боя, – резко сказал Петров. – Не спим уже три ночи. У меня в роте осталось тридцать человек…
И вдруг с внезапно вспыхнувшей злобой он закричал:
– Какой же тут к черту приказ? Какой же тут к черту начальник дивизии? Где он сидит? Откуда его приказ? Из тыла? За двадцать верст посылает приказы?
Весь охваченный яростью, он бросал в лицо прапорщику самые отборные ругательства. Потом повернулся и диким голосом скомандовал роте двигаться. Пыль прилипала к мокрым сапогам. Скуластое лицо Петрова дрожало. Он услышал тонкий крик и увидел, как прапорщик, нелепо подымая ноги, подбегал к нему.
– Я вам говорю, там гибнут наши! Нужна помощь, я же вам правду говорю!
И он, наклоняясь к Петрову, шел с ним рядом и заглядывал ему в лицо. Петров молчал и ускорял шаги, но прапорщик не отставал от него.
– Я соврал про начальника дивизии, – сказал он и всхлипнул. – Мы за все время ни разу не видели его. Но надо же нам помочь! Ах, как нас уничтожают, ужасно, как нас уничтожают!
«Приходится отдавать последнее!» Петров устало поднял руку, останавливая роту. Украдкой поглядел на солдат, хотел сказать им несколько слов, но спазма сжала горло. Снаряд разорвался так близко, что многих ударило комьями земли. Но люди стояли, не разбегаясь, в смертном равнодушии. Когда двинулись к лесу, Петрову показалось, что никто не идет за ним. Он первый лег у опушки и, не отдавая команды открыть огонь, стал стрелять из винтовки по наступающим германцам. Радость охватила его, когда он почувствовал локоть Рогожина, когда увидел других своих солдат, лежавших в цепи, и с ними – раненого Карцева.
«Друзья, друзья!» – думал он и движением головы стряхивал слезы, которые мешали ему целиться. Он забылся, не ощущал больше своего тела, не знал, что с ним… Была первая майская гроза. Серебряный ливень обрушился на семинарский сад, крепкие водяные струи били по листьям, пригибая их книзу, сбегали по морщинам стволов. Прокатился гром, густой и мягкий, как бас соборного протодьякона. От земли, от деревьев, от дождя шел теплый, пьянящий запах. Ветка больно ударила Петрова в бок. Гром слышался ближе…
Петров вздрогнул, открыл глаза. Рогожин толкал его. Петров вскочил. Неужели он уснул в бою, под выстрелами?
…Теперь они перебегали под деревьями. Иногда тот или другой солдат останавливался, припадал к стволу сосны и стрелял. Сверху, сквозь мощные кроны деревьев, прорывались синие просветы неба, падали солнечные лучи.
Голицын, посланный в разведку, выскочил из кустов и махнул рукой.
– Назад! – протяжно крикнул он. – Обошли нас, сейчас ударят!
Солдаты бросились назад.
– Спокойнее, спокойнее, – остановил их Петров. – Не в первый раз пробиваемся, и теперь пробьемся.
Он держался за Голицыным, доверяя его мудрости, и все посматривал на солдат, боясь, что они побегут. Близко сзади застрочил пулемет. Кто-то пронзительно крикнул. Пули со свистом били по стволам, сшибали листья и ветки. На мгновение стало тихо. Шрапнель разорвалась высоко в воздухе. Рухнула вершина дерева – груда свежих, совсем еще молодых, трепещущих листьев, разбитые, белые в переломах ветви. Длинный лоскут молодой коры висел, как сорванная кожа. Голицын шел беглым шагом, пригибаясь к земле. Сбоку послышался треск сучьев. Выбежал толстый фельдфебель с бурым лицом и, сердито посмотрев на Петрова, скрылся в кустах. За ним бросилось несколько солдат. Рота ускорила шаг. С трудом пробирались сквозь колючие заросли ежевики. Лес становился гуще, сосны выше. Выстрелы слышались все дальше позади. Вышли на маленькую круглую поляну. Посредине – громадный выкорчеванный пень. Возле него на животе лежал стонущий солдат. Темная, кровь пропитала его гимнастерку и стекала на землю.
– Перевязать бы его, – сказал Рогожин.
Он опустился на колени, расстегнул раненому шаровары и осторожно сдвинул их к коленям. Рана была на пояснице. Скупо намочив тряпку водой из манерки, Рогожин стер кровь вокруг раны. Он с недоумением показал Голицыну на частые рубцы, пересекавшие зад раненого.
– Поротый он, – пояснил Голицын.
Взяв у Рогожина тряпку, он легко провел по рубцам. Раненый лежал неподвижно, стонал. Рана зияла выше иссеченного зада, кровь все еще текла, густея. Подошел Петров и резко отступил назад. Охваченный стыдом и горем, он отошел в сторону и, не выдержав, побрел дальше. Узенькая изумрудная ящерица скользнула по земле и замерла, прижавшись к зеленым листьям куста. Откуда-то сверху дружелюбно прочирикала птичка.
– Да, мы отступаем, – громко сказал Петров, – отступает вся наша армия. Мы отдали все, что завоевали в первые месяцы войны, у нас нет снарядов, нет достаточного числа винтовок и, кроме того… – Он остановился, боясь высказать последнюю, самую страшную мысль.
Он пошарил в кармане, отыскал папиросы и закурил.
– Надо идти к роте, – снова вслух произнес он. – В конце концов, разве я виноват? Я не могу отвечать за все безобразия и подлости, которые совершаются в России. Но наши солдаты… Если бы не вся эта сволочь там, наверху, – на фронте и в тылу, – как бы били русские воины своих врагов!..
Послышался слабый голос, зовущий Петрова.
– Кто там? – крикнул он.
– Петров, помогите!..
Он бросился вперед. Под деревом лежал штабс-капитан Тешкин. Его голова была немного приподнята, черные спутанные волосы свисали на лоб, к широко раскрытым, испуганно глядевшим глазам.
– Помогите… я тяжело ранен… – прошептал он. – Не покидайте меня…
И вдруг совершенно непроизвольно Петров сделал движение, точно хотел уйти. Тешкин тоненько застонал, и его беспомощно вытянутые ноги дрогнули.
– Кто вас оставил здесь?
– Солдаты… В сущности, они правы… Что хорошего я им сделал?.. С какой стати было им возиться со мной?
Он закрыл глаза. Голос его прерывался, слова перемежались с хрипами и стонами.
– Юноша, – заговорил он, – я старше вас на двадцать лет, чего только я не испытал, чего не знал в жизни!.. У меня была черная, страшная жизнь… о… о, как больно говорить!.. Меня пинали, били, гнали. Меня не пускали на человеческие праздники… Меня любили только за деньги – на рубль, на пять рублей. За деньги мне прощали мои угри, вернее, соглашались не замечать их… Я жил не как человек, а как отросток слепой кишки – ненужный, рудиментарный придаток, от которого, когда он мешает, избавляются посредством операции. Говорят, у будущего человека не будет такого отростка. Значит, и не будет таких людей, как я. Меня не трогали людские, несчастья, как людей не трогали мои. Разве мало таких одиноких на свете? Ах, как мне хотелось хорошей, цветущей жизни, большого дела, красоты мне хотелось, Петров, музыки, садов… Будет ли когда-нибудь на земле такая жизнь? И вот я на чужой земле умираю за чужое дело… Мне холодно, пусто… Петров, где вы? Не уходите… Петров, у меня на груди в кармане пакет. Возьмите его. Где вы, Петров?.. Дайте руку… Отчего я не вижу вас?.. Тухнет день, да? Неправда!.. Солнце… вон там, в просвете солнце… Петров, я ви…
Он не договорил. Большая мутная слеза выкатилась на угреватую щеку. Его рука отяжелела в руке Петрова. Но еще долго она оставалась теплой, как бы живой.
Петров вынул из грудного кармана мертвеца пакет. В нем был второй, с надписью (буквы были длинные, угловатые, чем-то напоминавшие самого Тешкина):
«ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ НАЙДЕТ МЕНЯ МЕРТВЫМ, – МОЕМУ НАСЛЕДНИКУ».
Петров осторожно, чтобы не испортить надписи, вскрыл конверт, нашел в нем фотографическую карточку Тешкина, две новенькие сторублевки и письмо. Портрет и деньги были аккуратно перевязаны ниткой. Карточка изображала Тешкина в штатском костюме. Он сидел у стола, держа на коленях книгу, и смотрел неприязненным, насмешливым взглядом. Петров прочитал:
«Дорогой друг! Кто бы ты ни был, исполни последнюю просьбу одинокого человека. Меня уж нет. Все, что от меня осталось, – это фотография, которую ты нашел в письме. У меня нет родственников, нет друзей. Страшно исчезнуть совсем, не оставив в жизни никакого следа. Ты – мой наследник, единственный человек, который будет обо мне помнить. Отметь дату моей смерти на обороте карточки и повесь ее под стеклом (чтобы не загадили мухи) в своей комнате. В годовщину моей смерти вспомни на пять минут обо мне. Посмотри на портрет и подумай, представь себе, что жил на свете такой человек, Иван Андреевич Тешкин. Был он живой, как и ты, в детстве его звали Ваней. Потом можешь забыть его до следующей годовщины. Вот и все, о чем я прошу тебя. В благодарность оставляю тебе двести рублей, может быть, эти деньги помогут тебе лучше жить. Прощай. Постарайся исполнить то, о чем я прошу тебя, ведь это так немного, не правда ли?
Иван Тешкин».
На обороте карточки крупными угловатыми буквами было написано:
«ИВАН АНДРЕЕВИЧ ТЕШКИН
Родился в городе Туле, семнадцатого мая 1872 года.
Убит на фронте мировой войны
. . . . .191. . . . года».
19
Поработав около пяти месяцев в ставке, Бредов освоился с ее бытом, узнал весь распорядок жизни – такой величественной и таинственной со стороны. Каждое утро в одиннадцать часов Алексеев отправлялся к царю с докладом. На десятиверстных картах, развешанных в комнате, были нанесены последние сводки с фронтов. Царь сидел неподвижно, курил, украдкой, со скукой, поглядывал на генерала – скоро ли тот кончит? Потом выслушивал уже написанные Алексеевым распоряжения, никогда их не оспаривая, а днем, запершись у себя, тайком раскладывал пасьянсы или играл с флаг-капитаном Ниловым, неразлучным своим другом, в любимую карточную игру – безик.
Бредов любил работать. Целые дни он готов был проводить за письменным столом, лишь бы только отвлечься от странного беспокойства, которое все более мучило его. Но бумаги, проходившие через руки Бредова, возбуждали в нем чувства, менее всего сулившие покой. Поступали донесения о развале тыла, о большом количестве бродящих нижних чинов, ведущих себя распущенно, о неурядицах, недоставленных боевых припасах, о порке и расстреле нижних чинов, о самострелах, дезертирах, о добровольно сдавшихся в плен. Было немало потушенных дел о мародерстве, о бездарных генералах, о гнилых солдатских сапогах, поставляемых интендантами. Однажды, копаясь в старых делах, Бредов наткнулся на папку с делом об операции в Карпатах. Там он прочитал, что зимнее обмундирование по чьей-то преступной небрежности не было доставлено войскам, и два месяца они пробыли в горах раздетые и почти босые. Официальный отчет насчитывал более семи тысяч обмороженных нижних чинов, эвакуированных в тыл.
Бредов в отчаянии думал, что воевать дальше так нельзя. Он присматривался к работникам ставки и видел, что все они, за редкими исключениями, настроены очень спокойно, всегда обедают вовремя и не озабочены судьбой войны. Их внимание поглощала повседневная мелкая суета, ревнивое наблюдение друг за другом, жажда карьеры. В ставке знали, что командующие армиями и фронтами часто отказывались от операций, которые хотя и были необходимы, но содержали в себе известный элемент риска, отказывались, не желая портить своего служебного положения, и все считали это в порядке вещей. Знали, что многие донесения преувеличены, и часто там, где указывалось, что неприятель разбит и доблестные войска на его плечах ворвались в окопы или деревню, было на деле мирное занятие очищенных противником позиций. Чаще всего ставка лишь регистрировала события, происходившие на фронтах, подтверждая своим авторитетом распоряжения главнокомандующих. Каждый, кому удавалось сфотографироваться с царем на групповом снимке, был горд, точно получил боевой орден. Когда случалась большая военная неудача, о ней говорили прежде всего как о неудаче командующего армией и гадали, что ему за это будет. Но мало кто задумывался над тем, что потерпела поражение русская армия. К поражениям так привыкли, что с чиновничьим равнодушием регистрировали новые удары германцев. В управлении дежурного генерала, ведавшем переменами и продвижением личного состава в армии, кипело больше людских страстей, чем в управлении генерал-квартирмейстера, ведавшем оперативной стороной. Знали, что некомплект в оружии, снарядах, в обученных кадрах был так велик, что до весны шестнадцатого года нельзя и помышлять о каких-либо крупных действиях.
По инициативе Алексеева было созвано совещание главнокомандующих фронтами. Царь провел первое заседание, пригласил потом генералов к себе на обед, а на следующий день неожиданно уехал в Крым. Совещание закончил Алексеев.
Бредов ужасался, видя, каким бездарным, ничтожным людям вверялась защита страны. Огромнейший фронт катился назад, врагу были отданы Галиция, Польша и часть Прибалтики, сотни, тысяч солдат гибли или сдавались в плен, пропадало ценнейшее военное имущество. И между тем, как ни в чем не бывало, писались сводки штаба верховного главнокомандующего, генералы, офицеры и чиновники выполняли очередную работу, фельдъегеря доставляли в запечатанных портфелях бумаги. Колесо войны крутилось, и если менялись отдельные его спицы – вместо Николая Николаевича верховным главнокомандующим стал числиться царь и вместо Янушкевича начальником штаба назначили Алексеева, – то все равно не менялся стремительный бег этого колеса в пропасть. Бредов мучился, искал для себя выхода. И как-то раз, после долгого разговора с пьяным Нестроевым, когда капитан изложил Бредову, в чем, по его мнению, заключается сущность умной жизни – ни во что не вмешиваться и ладить с начальством, ибо оно всегда право, – Бредов без всяких колебаний написал рапорт об откомандировании его в строй. При отъезде ему присвоили звание подполковника.
20
Горели военные склады. Черно-рыжий лохматый дым поднимался в бледно-голубое весеннее небо. Дороги были покрыты сломанными повозками, разорванными мешками с продовольствием, новым и старым обмундированием, военной амуницией. Когда армия еще дралась с прорвавшимся противником, на фронте не было снарядов, патронов и винтовок. Когда же разбитые, плохо вооруженные части бросились назад и в стремительных, беспорядочных маршах достигли ближайших за фронтом тылов, оказалось, что там – на складах, в неразгруженных вагонах и на платформах станций – лежали крупные запасы боевого снаряжения. Некому было проследить за их перевозкой, и так пролежали они все эти страшные дни в нескольких десятках километров от места боя. Теперь эти запасы взрывали, чтобы они не достались неприятелю. Интендантские чиновники в радужном настроении суетились вокруг складов. У них большой праздник, никто теперь не мог учесть их! Армия отступала – многотысячная, грузная, все еще могучая своим числом. Солдаты бродили по окрестным селениям. Одни стремились пробраться домой, другие – отставали, предпочитая закончить войну в плену.
Петров заменил раненого Руткевича. Понурясь, он шел впереди четырех десятков солдат, уцелевших от последних сражений. Лицо его заросло кудрявой рыжей бородой, усталость была в глазах. Он вспомнил Иркутск, военное училище, парадные военные карты, развешанные на стенах классов, извилистые линии фронтов. Там решалась судьба России – страны, протянувшейся на две части света. Оттуда приезжали герои, газеты писали о величественных сражениях. Пленные австрийцы, прибывавшие целыми эшелонами, свидетельствовали о победах и мощи русского оружия. Девушки встречали раненых, дарили им цветы… Было стыдно оставаться в тылу… Затем – производство в прапорщики, отправка молодых офицеров под музыку на вокзал, напутствия, поцелуи, слезы, оборвавшаяся любовь, клятвы в верности и прочее, прочее, прочее…
Петров не слал домой писем, так как в России представляли себе войну так же, как он прежде представлял ее, и ему не хотелось нарушить их иллюзии… Что происходит сейчас на фронте? Долго ли будет продолжаться отступление? Петров с горечью подумал, что он, русский офицер, очень слабо понимает положение. Задачи той или другой операции для него оставались таким же секретом, как и для рядового солдата.
Летнее солнце сильно грело. Как назло, день был прекрасный, небо синело, пели птицы. А полк метался в гуще растрепанных, перемешавшихся частей, обозы врезались в его ряды. В поле, возле дороги, лежали стонавшие раненые, и фельдшер беспомощно ходил возле них.
Армия текла по дорогам и без дорог, как течет в половодье река. Проехала артиллерия. На передке сидел солдат с веселым лицом, держа в руках гуся. Другой гусь был привязан за лапу к передку. Кругом смеялись. Сбоку по тропинке проходил эскадрон. Оттуда слышались переливы гармошки.
– Эх, разнесчастная пехота! – горько шутил Голицын. – Топает да топает, пока деревянный крест не выслужит…
Он курил сушеные листья, мелко накрошив их и перемешав с какой-то дрянью. Едкий, вонючий дымок стлался над ним. Самохин, две недели лежавший с простреленной рукой и только недавно вернувшийся в строй, попросил закурить. Голицын с сожалением посмотрел на окурок, затянулся и бережно протянул его Самохину.
– Ты вот меня моложе, – наставительно сказал он, – раздобыл бы курева и дядю угостил бы…
Самохин не отвечал. Внимательно поглядев на него, Голицын спросил:
– Что же ты, парень, скучный? Отступлению не рад?
– Мне все равно – отступать или наступать, – ответил Самохин и сморщился: докуренная папироска обожгла ему губы. – Начальству виднее… Оно знает…
– А ты что знаешь? Или тебе ничего не полагается знать?
– Не полагается, – покорно сказал Самохин, опуская голову. Он не верил никому, боялся разговаривать даже с товарищами по роте. Ночью же, когда его не видели, он забирался в тихое местечко и плакал. Плакал оттого, что было страшно и тяжело. Жил он как во мгле, оторванный от всего мира. По-прежнему боялся Машкова, тупо выполнял его приказы. К боям привык. Стрелял, шел в атаку. Однажды услышал, что война скоро кончится. Это известие глубоко его потрясло: ему думалось, что война никогда уже не выпустит его. С тех пор он прислушивался к разговорам солдат о мире и ночами мечтал, как его, Самохина, отпустят и никогда, никогда больше он не увидит Машкова, офицеров…
На другой день был успешный бой с немцами, но и это сражение ничего не изменило. Густые массы отступающих русских двигались на северо-восток, и отдельные стычки не имели никакого значения. Уречин пытался задержаться на занятом участке. Четыре пулемета, еще уцелевших в полку, обстреливали луг, за которым расположились германцы, а приданная полку батарея, хорошо пристрелявшись, громила наступавшие цепи противника. Мимо полкового штаба проскакал казачий разъезд. Есаул, придержав поджарого, задравшего голову донца, крикнул Уречину, что справа идут крупные силы немцев, а полк, бывший на этом участке, отступил. Уречин сердито посмотрел на есаула, как будто тот был виноват во всем, и приказал сняться с позиции.
Третий батальон задержался, охраняя отступление. Остатки десятой роты цепью лежали на гребне холма, наблюдая громоздкую массу уходящей армии. Пули, вздымая пыль, били в сухую землю. Откуда-то из-за леса непрерывно стреляли германские пушки. Шрапнели рвались над колоннами, и с гребня хорошо было видно, как падали люди. Слева карьером вынеслась русская батарея. Пожилой офицер, осадив коня, скомандовал, и орудия разъехались на полные интервалы. Прислуга еще на ходу соскакивала на землю, передки, отделившись от орудий, отъезжали назад. Телефонисты бегом тянули провод от высокого дуба к батарее. Карцеву всегда нравилась работа артиллерии. Артиллеристы были почти все на подбор – рослые, смышленые, быстрые в движениях люди. Телефонист, лежа на земле и не отрывая трубку от уха, что-то торопливо передал старшему офицеру, и тот, на лету подхватывая его слова, весело приказывал:
– По батарее, уровень тридцать ноль, сто, трубка сто…
Стукнули тяжелые затворы, длинные металлические стаканы с коническими головками скрылись в черных отверстиях («Точно хлебы в печь сажают», – подумал Карцев). Резкие голоса закричали «готово», офицер крикнул «огонь», и гром шести орудий ошеломил пехотинцев.
– Сто семь, трубка сто семь, два патрона, – звонко командовал офицер, и огненный вихрь вырывался из длинных хоботов. Визг снарядов быстро удалялся.
– Хорошо, два орудия подбиты! – задорно передавал телефонист.
– Спасибо, родная батарея! – крикнул офицер. Потом поднял бинокль к глазам, скомандовал: – Первая полубатарея, шрапнелью! Вторая – гранатой!..
С восхищением смотрел Карцев на эту кипучую, четкую работу. «Нам бы так», – с завистью подумал он.
Батарея вдруг прекратила огонь. Подъехали передки.
– Эх, еще бы хоть очереди две, – вздыхая, сказал усатый фейерверкер. – Никак снарядами не разживемся!
Лошади взяли с места крупной рысью, грохот тяжелых колес затих на дороге.
Петров воспаленными глазами (он не спал уже третью ночь) следил за наступающими немцами. Они продвигались медленно, осторожно, видимо не зная, что батарея уже снялась.
– Еще час надо продержаться, ребята! – сказал он.
Карцев тихо доложил, что патронов не больше как по десять штук на винтовку. Петров, не отвечая ему, смотрел в бинокль и думал: шагах в четырехстах от гребня тянулась низенькая поросль; если враги доберутся до нее, трудно будет потом отступать, перестреляют всю роту…
– Карцев, – вполголоса сказал он, – возьми свой взвод, проберись к зарослям и попробуй там продержаться до сигнала. Береги патроны!
Сам он с перевязанной головой остался в строю. Чтобы отвлечь внимание германцев, рота открыла редкий огонь. Распластавшись, солдаты поползли вперед. Их заметили. Пули сухо защелкали, врезаясь в землю. Банька охнул. Пуля, скользнув по спине, оцарапала ему зад.
– А ты чего ее выставил?.. – сердито сказал Голицын. – Неужто до сих пор ползти не научился?
Сам он полз, волочась, как раздавленный, держа голову набок и прикрывая ее спереди лопатой. Первым дополз Карцев и лег за кустами. Тут были окопы, вырытые раньше, и взвод занял их. Голицын, ворча, перевязывал насупившегося Баньку. Черницкий вежливо спрашивал ефрейтора, как же он теперь будет сидеть.
– Ничего… Так и буду: на раненом заде и в том же стаде! – отшучивался Банька.
– Ползут, ползут! – придушенным голосом сказал вдруг Рогожин. – Стреляйте, братцы!
– Подожди! – шепнул Карцев. – Когда будут у той желтой кромки, мы их поймаем. Целься по кромке, без команды не стрелять!
Он лег удобнее. Поймал мушку и ровно навел винтовку. В зеленых стебельках что-то шевельнулось, подвинулось. Карцев не спеша нажал спуск. Сбоку тоже затрещали выстрелы. Самохин стрелял часто. Голицын выцеливал каждую пулю. Германцы затихли. Потом опять застрочил пулемет. Черницкий лежал рядом с Карцевым. Вдруг он перестал стрелять. Карцев повернул к нему голову. Винтовка вывалилась из рук Черницкого, правое плечо было залито кровью. Никогда еще за всю войну Карцев не чувствовал такого горя.
– Гилель, друг!.. – прошептал он. – Гилель, Гилель.
Из роты сигналили вернуться. Карцев, Голицын и Рогожин тащили Черницкого. Его голова моталась, лицо сделалось серым. За гребнем остановились, и Карцев расстегнул на раненом гимнастерку. Пуля попала под ключицу, вышла возле правой лопатки. Кровь текла. Черницкий не шевелился. Только когда рану перевязывали, он застонал, открыл глаза.
– Свадьба! – невнятно пробормотал он, и слабая улыбка показалась на его посиневших губах. – Скажи, Карцев, зачем мне вся эта свадьба?.. Если увидишь Мазурина, пожми ему руку… Может быть, он дождется… дождется…
Поздно ночью полк шел какой-то неведомой дорогой.
Вокруг пылали пожары. Солдаты жались друг к другу. Все было необычно и страшно. Отсветы пожаров колебались в небе, точно там раскачивались от ветра исполинские деревья. Даже собаки не лаяли, не слышно было ни одного звука, который бы показывал, что здесь сохранилась обычная жизнь. А издали доносился глухой мощный гул, похожий на землетрясение. Карцев шел, подняв голову. Он не видел ни Петрова, ни Голицына, шагавших возле него, никого… Ему казалось, что идет он в небывалой пустоте, шагает по рытвинам и обломкам и далеко-далеко впереди – одни развалины. Он взглянул вверх, отыскивая в небе звезды, и на востоке увидел одну – горевшую в ночи чистым, ярким светом.
Он простер к ней руку, улыбнулся.
– Мы дождемся утра, – сказал он так громко, что на него оглянулись солдаты. – Мы дождемся!