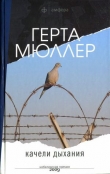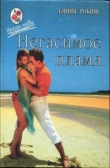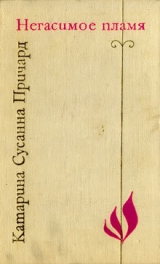
Текст книги "Негасимое пламя"
Автор книги: Катарина Причард
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 32 страниц)
III
Последний – тринадцатый по счету – роман Катарины Сусанны Причард «Негасимое пламя», опубликованный в Австралии в 1967 году, посвящен новой в мировой литературе теме – борьбе за мир. О войне написано много романов, повестей, драм и даже поэм; миллионы страниц рассказывают о том, с какой вероломной и трагической неожиданностью (для их жертв) войны начинаются, с какой бессмысленной жестокостью разрушается все, что создано веками разумного и вдохновенного труда человека, с какой беспощадностью уничтожаются жизни и души людей и с какой торжествующей радостью для победителей и горечью для побежденных завершаются они. Писатели, бывшие свидетелями войн, спешили запечатлеть свои переживания, физические и душевные муки своих товарищей по оружию, родных и знакомых. Некоторые посвящали годы своей жизни, чтобы уже после войны собрать документы, свидетельские показания, рассказы очевидцев и воспоминания участников, чтобы воссоздать, как Лев Толстой, широкую картину войны, оставившей большой след в истории, ознаменовавшей поворот в развитии человечества.
Во многих произведениях, посвященных войне, она так или иначе осуждалась: пацифистская струя была всегда сильной, особенно в первые послевоенные годы. Вспомните на «Западном фронте без перемен» Ремарка, «Воспитание под Верденом» Арнольда Цвейга, «Прощай, оружие!» Хемингуэя. Однако это осуждение чаще всего сочеталось с признанием бессилия отдельного человека противостоять чудовищной и бесчеловечной машине войны, сокрушающей на своем пути не только одиночек, но и нации. Лишь редкие писатели, как, например, Барбюс в «Огне», делали попытку вскрыть подлинные причины войны и призвать людей к открытой антивоенной борьбе.
И хотя войнам предшествовал мир и все они – как бы долго ни длились, – кончались миром, тема борьбы за мир но отнимала у романистов много внимания и труда. Даже в наше время лишь некоторые, главным образом, левые писатели решаются взяться за эту тему, хотя среди участников движения сторонников мира немало мастеров пера.
Среди писателей – активных борцов за мир самое видное место занимает, конечно, Катарина Причард. Давняя – еще с 30-х годов – страстная участница движения сторонников мира, коммунистка Катарина Причард не случайно взялась за тему антивоенной борьбы в Австралии, где эта борьба не только особенно сильна, но и многозначительна: с нею связана независимость страны. Австралия, расположенная в самом дальнем «углу» нашей планеты, не обладает ни большим экономическим могуществом, ни особой военной мощью, и все же она неизменно участвовала и участвует почти во всех войнах и крупных военных конфликтах XX века. Могилы ее сыновей разбросаны по лицу всей земли – от Южной Африки до Нордкапа, от берегов Ла-Манша до холмов Кореи.
В конце 1956 года, когда после англо-франко-израильского нападения на Суэцкий капал Советское правительство твердо заявило, что оно окажет жертве агрессии всю возможную помощь, Австралия, учитывая возникший международный кризис, приготовилась объявить мобилизацию, и большая группа советских людей – олимпийская команда, оказавшаяся в то время в Мельбурне, – пережила немало тревожных дней. Встречаясь с представителями властей, которые были, как предписывал закон международного гостеприимства, вежливы и предупредительны, мы спрашивали их, почему Австралия полна решимости поддержать виновников агрессии, и они обычно отвечали:
– Но это же Англия. А когда война затрагивает Англию, мы, в Австралии, сразу складываем в рюкзаки белье и отправляемся в ближайший порт, чтобы плыть в Англию и сражаться рядом с англичанами. Это – традиция…
Долгое время это была не только традиция, но и необходимость: Австралия целиком зависела от Англии, была фактически ее вассалом и поставляла метрополии не только шерсть, мясо и масло, но и солдат. После второй мировой войны зависимость от Англии стала слабее – австралийские шерсть, мясо и масло двинулись через Тихий океан в Соединенные Штаты Америки. Хотя Австралия осталась в составе Британского содружества наций, американский капитал после войны проник во все поры австралийской экономики, подчинил ее себе, превратив отдельные отрасли ее промышленности в филиалы своих монополий. Австралия связала себя с Соединенными Штатами и политически, войдя в военные блоки Австралия – Новая Зеландия – Соединенные Штаты (АНЗЮС) и СЕАТО.
Теперь австралийцы стали «складывать в рюкзаки белье» не только в тех случаях, когда война затрагивала Англию, но и когда этого требовал Вашингтон. По его настоянию Австралия приняла участие в корейской войне, когда вооруженные силы США, прикрываясь флагом Организации Объединенных Наций, вмешались во внутреннюю борьбу в Корее на стороне продажной компрадорской буржуазии и реакции. Позорную роль вассала США правящая верхушка Австралии пыталась прикрыть решением Совета Безопасности ООН, который в отсутствие советского представителя благословил незаконное вторжение на корейскую землю вооруженных сил США и зависимых от них стран.
Вооруженную помощь американскому империализму, пытающемуся помешать вьетнамскому народу устраивать жизнь по своему усмотрению, правящая верхушка Австралии не стала прикрывать ни решением международной организации, ни лицемерными разговорами о «защите свободы»: австралийские солдаты были посланы во Вьетнам как средневековые наемники в обмен на американскую финансовую помощь монополиям Австралии. Это вызвало взрыв негодования всего австралийского народа. Катарина Причард, резко осуждая соучастие правящих кругов Австралии в американской агрессии во Вьетнаме, с негодованием писала: «Я верю, что если бы был устроен референдум, то большинство австралийцев проголосовало бы против ужасающего разрушения другой страны, против беспощадного уничтожения парода, борющегося за национальную независимость, против агрессивных замыслов внешней политики США господствовать над Азией и Австралией».
Чем усерднее следовала правящая верхушка Австралии в русле американской империалистической политики, тем сильное становилось сопротивление австралийского народа, возглавляемого в борьбе за мир организованным рабочим классом и его авангардом – Коммунистической партией. Сразу же после войны, в конце сороковых годов, когда в Европе и в других частях света развернулось широкое народное движение за мир, его австралийские сторонники первыми провели сбор подписей под так называемым «Голосованием за мир». Движение перекинулось на другие континенты, и вскоре по всему миру начался сбор подписей под знаменитым Стокгольмским воззванием, требующим запрещения атомного оружия. Более шестисот миллионов человек – почти четверть населения земного шара того времени – поставили свои подписи под воззванием, откликаясь на убедительное слово сторонников мира. Трудно сказать, насколько весомы на весах истории оказались эти шестьсот миллионов голосов против атомного оружия, но несомненно одно: это всенародное единодушие в осуждении оружия массового уничтожения, охладило горячие головы атомных маньяков, которые размахивали атомной бомбой, шантажируя в те годы Советский Союз.
Австралийские сторонники мира, приняв активное участие в международном движении за мир, развернули широкую и не ослабевающую с тех пор антивоенную кампанию. Уже в 1950 году они провели в Мельбурне Конгресс мира, в котором приняли участие представители других континентов, затем конференцию о войне и мире и молодежный карнавал за мир и дружбу. Созданный в стране Совет мира, включающий представителей не только профсоюзов и левых партий, но и видных деятелей культуры, медицины, свободных профессий, возглавлял всю антивоенную активность, организовав, в частности, в середине пятидесятых годов «Неделю мира профсоюзов», в результате которой родился популярный до сих пор в Австралии лозунг: «Мир – это дело профсоюзов».
С особой широтой и боевитостью антивоенное движение развернулось в Австралии в середине шестидесятых годов, когда австралийское правительство согласилось с требованием Вашингтона послать значительные контингенты войск во Вьетнам, узаконив одновременно мобилизацию молодых австралийцев для несения военной службы за пределами страны. Тогда были проведены первые массовые демонстрации против империалистической авантюры австралийского правительства, молодые австралийцы стали сжигать, как в США, свои призывные карточки и, так же как в Америке, были проведены в 1970 году «мораториумы» – дни, когда все должны были выступить за прекращение войны во Вьетнаме. Они проводились несколько раз и были весьма успешны: люди самых различных общественных слоев, взглядов и убеждений объединялись в «мораториуме», чтобы потребовать немедленного отозвания войск интервентов из Вьетнама, отказа от мобилизации, лишения сайгонского режима поддержки. Под лозунгом «Останови работу, чтобы остановить войну!» в некоторых отраслях промышленности, университетах, школах были проведены забастовки.
Эта борьба австралийских сторонников мира, в которой кропотливая настойчивость перемежается с острыми и драматическими схватками, стала темой романа Катарины Причард «Негасимое пламя». С яркостью, присущей настоящему художнику слова, писательница показывает, что простые люди имеют право и обязаны вмешаться, как говорил Ленин, в вопросы войны и мира, которые были и во многих странах до сих пор остаются в компетенции правящей капиталистической верхушки.
IV
Сюжет романа, как увидит читатель, прост. Способный и преуспевающий редактор газеты и директор ее издательства Дэвид Ивенс, получив известие о бессмысленной и трагической гибели в Корее младшего сына, бросает свою работу, считая себя виновником его смерти.
«Я знал о махинациях, которые вызвали эту «грязную войну», – признается он в разговоре с женой и детьми, объясняя им причину своего ухода из газеты. – Но я не сделал ничего, ровным счетом ничего, чтобы разъяснить людям истинное положение вещей. А ведь, по существу, все было заранее спровоцировано. Вот почему я чувствую себя ответственным за смерть Роба, да и не одного Роба, а сотен других юношей. Да, я не сделал ничего, чтобы воспрепятствовать их отъезду в Корею. Напротив того, я горячо поддерживал эту войну… Я внушал этим мальчишкам, что, вступая добровольцами в действующую армию, они совершают прекрасный героический поступок».
Однако, отказавшись от роли литературного подручного тех, кто направлял политику газеты, Дэвид Ивенс не сразу понимает, что этого мало. Другие журналисты и редакторы продолжали внушать «этим мальчишкам» ложные идеалы, подвергая их жизни опасности. Он постепенно приходит к мысли, что бездействие равносильно пособничеству, и его уединение на лоне природы – бегство от жизни.
«…Мечты о простой жизни вдруг стали ему неприятны. Как! Покинуть поле боя, где, он знал, его настоящее место, арену, на которой люди сражаются оружием своего ума, слова, энергии… Это было бы трусостью».
Постепенно он приходит к мысли, что во имя спасения людей от гибели в войне, особенно от массовой гибели в результате применения атомной бомбы, надо действовать. Он пытается в одиночку выступить против тех, кто ради личного обогащения заинтересован в гонке вооружений, написав резкую и ядовитую статью. Но газета, на которую он рассчитывал, полагаясь на свое имя, отвергает статью без объяснений. Ивенс отправляется к редактору – своему бывшему приятелю-сопернику.
«…Бессмысленно рассчитывать, что народ в силах приостановить гонку вооружений, – сказал ему редактор. – Народ беспомощен. Он не может даже избрать правительства, способного что-то предпринять в этом направлении…
– А почему? – горячо спросил Дэвид, – Потому, что мы с тобой заморочили им голову…»
Попытка Дэвида Ивенса стать своего рода бродячим проповедником идей мира помогает ему сблизиться с простым народом, лучше понять его заботы и тревоги, но его «проповеди» не имеют успеха. Встретившись на улице с женщиной явно из трудовой семьи, он говорит ей о пользе мира, о его благах, и женщина охотно соглашается с ним, но ссылается на отца, который утверждает, что войны всегда были и всегда будут.
«– Не верьте этому, – сказал Дэвид с улыбкой, заметив тревогу в ее глазах. – Мир сильно изменился с тех пор. Изменились и люди, и многие из них сейчас уверены, что можно избежать новой мировой войны, если простые люди, вроде нас с вами, заставят свои правительства приложить усилия к тому, чтобы предотвратить войну, вместо того чтобы готовиться к ней, как это делают они сейчас.
– Вы что – комми? – подозрительно спросила женщина и взялась за ручку детской коляски.
– Нет, я не коммунист, – ответил Дэвид, – хотя я думаю, что коммунисты правы в своем стремлении убедить людей всего земного шара объединиться в защиту мира».
В долгих скитаниях по улицам рабочих районов Мельбурна Ивенс имел возможность познакомиться с людьми самых различных возрастов, склонностей и убеждений. Его встревожило нежеланно молодежи знать историю недавнего и страшного прошлого, когда такие же молодые люди, как они, так же бездумно отправлялись на фронт, чтобы уже никогда по вернуться домой или вернуться искалеченными. Не только первая, но и «вторая мировая война тоже становилась смутным воспоминанием для людей, слишком молодых, чтобы принимать в ней участие». Лишь искалеченные помнили об ужасах войны в понимали, кто ее настоящие виновники.
«– Мы, те, кто остался в живых, – говорил Мик, – должны бы потребовать, чтобы богачи и политики, которые хотят войны, сами отправились на фронт, в окопы. И тогда бы войнам сразу пришел конец…»
Попытка Дэвида Ивенса бороться за предотвращение войны в одиночку не приносит успеха ни ему, ни сторонникам мира, с которыми он знакомится, но продолжает действовать обособленно. Он не поддается уговорам ни студентки-коммунистки Шарн, встреченной им во время «хождения в народ», ни своей дочери Мифф, вышедшей замуж за коммуниста – профсоюзного деятеля и разделяющей его взгляды.
«– А я пытаюсь разобраться в путанице, которая называется международной политикой, и понять, что тут может быть сделано. И я не хочу быть связанным ни одной теорией при решении этого вопроса. Меня могут убедить только мои собственные знания и опыт».
Долгие поиски «собственных знаний и опыта» убеждают Ивенса, что бороться за мир, за предотвращение грозящей человечеству катастрофы ядерной войны следует вместе с другими людьми, со всеми группами людей, со всеми организациями и обществами, профсоюзами и партиями, словом, со всем пародом. И не только со своим народом, но и с народами других стран. «Единоборство», приведшее Ивенса сначала на социальное дно Мельбурна, толкает его затем на опасную схватку с уголовниками – торговцами наркотиками и убийцами, которая завершается столкновением с «законом» в лице полиции и суда и заключением в тюрьму. Правда, это расширяет его «знания и опыт», но мешает вести ту борьбу за мир и безопасность людей, которой Ивенс захотел посвятить себя.
Логика жизни и борьбы привела его к сторонникам мира, в Совет мира, где особенно пригодилось его талантливое перо, чтобы донести до простых людей убедительное слово правды. Та же логика борьбы подтолкнула его к коммунистам – последовательным защитникам интересов парода, среди которых забота о мире занимает одно из первых мест.
Образ мятущегося интеллигента, пытающегося искупить свою вину перед погибшим сыном и другими такими же несчастными «мальчишками», нарисован в романе убедительно и ярко. Хотя семейные и личные дела Дэвида Ивенса занимают сравнительно много места, они скорее составляют только фон для показа главного события романа – превращения бывшего пособника правящей верхушки в ее противника, а затем и в активного борца за мир, за спасение человечества от самого страшного преступления, которое кроется в новой мировой войне. Этот процесс долог, сложен и труден, и потребовалось мастерство Катарины Причард, чтобы преподнести его читателю с такой яркостью.
Скромная, тихая, целомудренная и самоотверженная Шарн остается в памяти читателя как обаятельная девушка и как воплощение того неизвестного, но незаменимого борца за мир, благодаря которым движение сторонников мира стало великим движением современности. Шарн не может отделить свое счастье от счастья других, для которых живет и трудится, и именно это дает ей право наслаждаться своим счастьем: нельзя быть счастливым среди несчастных.
Помимо них в романе много других «героев», представляющих в основном простой народ Австралии – рабочих, профсоюзных работников, мелких служащих. Показывая их трудную жизнь, писательница как бы подчеркивает, насколько бессмысленно и античеловечно тратить такие огромные средства на вооружение, когда еще нужно сделать так много, чтобы жизнь стала достойной человека.
Роман «Негасимое пламя» замечателен не только тем, что большой писатель, признанный мастер слова нарисовал картину кропотливой и нужной, трудной, самоотверженной, настойчивой и героической работы сторонников мира, которая заслуживает признания и восхищения не меньше, чем подвиги на поле брани. Чтобы вооружить своих «героев» яркими доводами в пользу мира, убедительно разоблачить поклонников гонки вооружений, «ядерного сдерживания», «превентивной войны» и т. п., писательнице пришлось изучить, исследовать, осмыслить массу сложных документов, предложений и контрпредложений. Она сумела придать своим «аргументам» не только памфлетную непримиримость и остроту, но и настоящую художественную форму.
«И конечно же, – думает Ивенс, – нет идеи более великой, чем идея мира на земле, избавленной от варварского безумия войны. Ведь всякий раз, после каждой кровавой бойни поджигатели войны бывали вынуждены вступать в переговоры. Так почему же не сделать этого прежде, чем начнется зверское истребление мужчин, женщин и детей в современной войне?»
Глубоко гуманистический, проникнутый любовью к людям труда роман «Негасимое пламя» зовет к миру и дружбе между народами, вдохновляет благородное стремление действовать во имя человека и человечества.
Д. Ираминов

Катарина Сусанна Причард

Негасимое пламя
РОМАН
Перевод с английского Н. ХУЦИШВИЛИ и Э. ШАХОВОЙ
Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1972
(Австрал)
A 22
Katharine Susannah Prichard
SUBTLE FLAME
1967
Предисловие Д. KPAMИHOBA
Рисунки художника Н. ВОРОБЬЕВА
Оформление художника В. ДОБЕРА
7-3-4
194-72
Катарина Сусанна Причард
НЕГАСИМОЕ ПЛАМЯ
Перевод Н. Хуцишвили(стр. 19–217) и Э. Шаховой(стр. 218–415).
Редактор Н. Будавей. Художественный редактор Д. Ермоленко. Технический редактор Т. Таржанова. Корректор Н. Гористова.
Сдано в набор 4/11 1972 г. Подписано в печать 2/VI 1972 г. Бумага типографская № 1. Формат 84×108 1/ 32. 13 печ. л. 21,8 усл. печ. л. 23,94 уч. – изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ 861. Цена 1 р. 50 к.
Издательство «Художественная литература» Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19
Киевская книжная фабрика Комитета по печати при Совете Министров УССР» ул. Воровского, 24