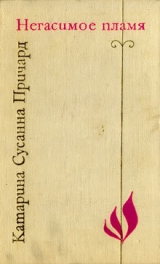
Текст книги "Негасимое пламя"
Автор книги: Катарина Причард
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц)
В деревьях под окном защебетала птица. В слабом свете зари уже можно было различить их серебристо-серые стволы. Вдали закуковала кукушка, и ее жалоба отозвалась в печальном сердце Миффанви. Опа вздрогнула, внезапно ощутив холод, и очнулась от видений прошлого, которые унесли ее так далеко от событий минувшего дня.
Светало. Надо было постараться уснуть. Слишком усталая, не в силах раздеться, она бросилась на постель и натянула на себя стеганое пуховое одеяло. Воспоминания о Робе, о их жизни в семье вывели Мифф из оцепенения, охватившего ее после звонка Герти. Утром, прочтя телеграмму, она не ощущала ничего, кроме страшного, безмерного горя. А теперь словно чья-то огромная рука, весь день сжимавшая ее сердце, тихонько разжалась. Боль утраты стала утихать. Но она знала, что никогда не сможет примириться с гибелью этой сильной молодой жизни, с потерей дорогого ей существа. Никогда не сможет забыть, что Роб стал жертвой исступленного военного психоза и преступных махинаций, приведших к войне. Нет, людям, которые обманывали юношей, таких, как Роб, посылая их на смерть, – этим людям вовек не будет прощенья!
Слезы хлынули из глаз Миффанви. И она зарылась лицом в подушки.
– О Робби, дорогой, – прошептала она, – если бы я могла передавить всех их утят!
Глава III
Он уронил перо. Под письмом, отпечатанным на машинке, резко выделялась его подпись: Дэвид Дилейн Ивенс. Чернила казались темнее, чем обычно; каждая буква выступала с такой отчетливостью, словно ее вывели жирным шрифтом, как на плакате. Дэвида страшило принятое им решение.
Месяцы нерешительности, нервного напряжения, смутных раздумий и бессонных ночей – все отразилось в этом письме. И вот наконец мысли его прояснились. Решительный шаг сделан: он отказался от поста главного редактора и коммерческого директора газет «Дейли диспетч» и «Уикли баджет».
«А Роб все равно убит!» – прозвенело у него в мозгу.
Эти слова снова всплыли в его сознании, словно глумясь над ним. Так было с той самой минуты, как он впервые услышал их, и все те долгие недели, когда он тщетно пытался забыться в водовороте дел.
По вечерам он читал все, что могло пролить свет на события этой войны, и среди других материалов – книгу И.-Ф. Стоуна «Закулисная история войны в Корее».
Книга была написана на основе документов и официальных сообщений. Он впервые узнал оттуда, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций был вынужден поддержать акцию Соединенных Штатов в Корее; что телеграмма из ста семидесяти одного слова от посла Соединенных Штатов была перефразирована и сокращена до тридцати восьми слов и в этом варианте представлена на рассмотрение Трюгве Ли лишь спустя пять часов после получения ее Государственным департаментом.
В то время еще оставалось неясным, какая из сторон первой открыла военные действия. Северные корейцы утверждали, по словам Стоуна, что «они перешли в контрнаступление, отражая нападение врага, вторгшегося на их территорию в трех пунктах». Это, однако, могло и не соответствовать истине. С другой стороны, не исключено, что южные корейцы намеренно спровоцировали конфликт тремя атаками на границе.
Дэвид искал встреч с фронтовиками, вернувшимися в Австралию из-за ранения или по болезни, выслушивал их истории и рассказы о пережитом. Один парнишка, по имени Брайан Макнамара, служил в том же взводе, что и Роб. Это он рассказал Дэвиду о сражении при Чиппийонги, в котором сам был ранен, и о том, что тело Роба нашли в глубоком снегу несколько дней спустя. Дэвид старался отогнать от себя картину, нарисованную Макнамарой, хотя она навеки запечатлелась в его душе, терзая напоминанием об одинокой и мучительной смерти сына.
Глаза Дэвида обратились к мутному окну, возле которого стоял его письменный стол. Он видел отсюда бесчисленные сверкающие провода, скрещивающиеся над сортировочной станцией, и ветви оголенных деревьев, чернеющих в ранних сумерках под моросящим дождем.
Этот вид из окна и небольшой кабинет с книжными полками по стенам составляли неотъемлемую часть его жизни. До недавнего времени его письменный стол и кресло стояли в гораздо более просторном помещении, где собирался совет директоров, размещавшихся по обе стороны длинного полированного стола, с председателем во главе; он же занимал место в противоположном конце комнаты. Но теперь резная деревянная перегородка отделяла зал заседаний от его редакторского убежища.
В серых глазах Дэвида светилась улыбка, но ей противоречили горькие складки у рта, выдающие внутреннее страдание. Прядь блестящих черных волос упала на лоб – в ней уже стали заметны серебряные нити. Он сидел задумавшись, глубоко уйдя в свое кресло. Его изящно очерченное нервное лицо казалось болезненным и изможденным. И все же, несмотря на крайнюю усталость, в этом человеке угадывалась скрытая сила жизни. С горьким сарказмом перебирал он в памяти события прошлого.
За окном, сквозь сетку дождя, мерцали огни города. Они мерцали, дробились и вспыхивали, и так же мерцали, дробились и вспыхивали мысли Дэвида.
Что говорили ему люди? В клубах, в поездах?
– Вы сделали «Диспетч» солидной газетой, Ивенс.
– Прежде «Диспетч» была сомнительным листком, мистер Ивенс. Помнится, жена не разрешала мне приносить ее домой. Вы вытащили эту газету из сточной канавы!
Он любил по утрам ездить в город поездом и так же поездом возвращался домой, хотя в гараже у него в те дни уже стоял роскошный «хилман-минкс». Он говорил своим, что считает для себя полезным постоянно ощущать общественный пульс, быть в курсе того, о чем думают и что говорят читатели его газеты. По той же причине время от времени он бродил по улицам, вступая в разговоры с незнакомыми людьми.
Да, он действительно создал из «Диспетч» настоящую газету, – Дэвид знал это. Оп вымел с ее страниц порнографическую грязь: подробные судебные отчеты о скандальных процессах, сенсационные сообщения об убийствах и сексуальных извращениях. Он превратил «Диспетч» в газету, которую можно было принести домой, дать прочесть жене и детям, хотя и понимал, что без сдержанной критики нравов газете не обойтись.
Даже в самых добропорядочных людях живет скрытое любопытство, желание узнать подноготную своего ближнего, услышать историю преступления, связанного с тайным пороком или насилием. Ни одна газета не может позволить себе пренебречь этим фактом. Нужно было учитывать такого рода интерес читателей, не разжигая при этом нездоровых страстей отвратительными подробностями. Его помощники считали, что Дэвид избрал для газеты довольно опасное пуританское направление, тем не менее оно приносило газете постоянный доход.
Экономический кризис нанес акционерной компании «Диспетч лимитед» сокрушительный удар; терпя убытки на каждом экземпляре газеты, она неотвратимо шла навстречу катастрофе. Но, благодаря Ивенсу, за двадцать лет его работы в качестве главного редактора и коммерческого директора газеты, тираж ее возрос сначала вдвое, потом втрое и наконец вчетверо, и вот теперь «Диспетч» могла похвастаться самыми высокими тиражами по сравнению с любой ежедневной столичной газетой. Вся энергия и энтузиазм Дэвида были брошены на привлечение читателей и расширение рекламы. С раннего утра но всему городу расклеивались броские плакаты, обещавшие сенсационные сообщения в вечерних выпусках газеты. Специальные выпуски: городские, спортивные, местные, последних известий – были рассчитаны на то, чтобы удовлетворить самые разнообразные запросы и распространить «Диспетч» по всей стране.
«Мы печатаем всю информацию, заслуживающую опубликования». По настоянию Дэвида этот девиз стоял на первой полосе «Диспетч». Под таким же девизом выступали и другие газеты. Интересно, удается ли редакторам этих газет осуществлять свои принципы? Дэвид знал, что ему это не удается. Он располагал далеко не всей заслуживающей опубликования информацией, а только той, что допускалась правлением газеты. За этой информацией он гонялся и добросовестно ее обрабатывал, стремясь сделать свою газету не только «первой но выпуску последних известий», но еще и самой яркой, самой популярной и влиятельной газетой в городе.
Свою газету? Что за нелепость этот собственнический инстинкт, привязывающий его к «Диспетч»! Газета принадлежала ему не больше, чем огромное здание, вмещавшее в себя весь сложный издательский механизм, хотя в течение многих лет именно он отвечал за ее ежедневный выпуск. Словно какие-то невидимые нити протягивались от него к газете и поддерживали ее с той самой минуты, когда он утром входил в свой кабинет и вплоть до вечера, когда последний экземпляр ее выбрасывался машиной и поступал в газетный киоск.
Кто же теперь займет его кресло? Кто примет на себя обязанности главного редактора и коммерческого директора «Дейли диспетч» и «Уикли баджет»?
«А не все ли равно, меня это уже не касается», – утешал себя Дэвид. Впрочем, он отнюдь не хотел покинуть «Диспетч» на произвол судьбы, причинить ей ущерб. Ничто не должно помешать свершению ежедневного чуда – выходу газеты, которой он руководил в течение двадцати лет.
Впрочем, никакого чуда здесь не было, говорил себе Дэвид. Не было ничего, кроме тщательного планирования и четкой организации. Каждый шаг, каждое звено сложного производственного процесса надо было всесторонне продумать, чтобы весь механизм работал слаженно. Порою ворвавшиеся в последний момент новости порождали хаос и временное замешательство в делах. Приходилось срочно переверстывать целые полосы, менять заголовки, брать по телефону интервью и с молниеносной быстротой писать новые статьи. В спешке и возбуждении мысль и руки работали быстро и напряженно. Но что бы ни случалось, не было никакой поблажки: святая обязанность редактора выполнялась им с неукоснительной точностью – газета выходила в срок; выпуск за выпуском своевременно загружался в поезда и самолеты. Об усталости думать не приходилось, если удавалось «обскакать» утренние газеты, раньше всех опубликовав какое-нибудь сенсационное сообщение.
Мысли Дэвида вернулись к тому времени, когда он был принят в редакцию «Диспетч». Он не переставал благодарить судьбу за опыт, полученный им в маленькой провинциальной газетке. Поступив туда работать в дни своей журналистской юности, он вскоре выкупил ее у владельца, твердо решив превратить доживающий последние дни листок в солидную газету, приносящую доход. И это ему удалось; несмотря на трудности, он регулярно печатал «Молли таймс» на допотопном станке «варф-дейл», пешком обходил соседние городки в поисках рекламных объявлений, сам писал все статьи и нередко, когда типографские рабочие запивали или же неожиданно бросали работу, сам набирал текст, каким-то чудом ухитряясь приводить в действие пришедшее в негодность оборудование.
При первой же возможности перейти работать в городскую газету, он продал «Молли таймс» за бесценок, нимало не заботясь о выгоде, и с радостью сбросил с себя груз тяжелых и нудных обязанностей. Поработав недолгое время младшим редактором, Дэвид сел за стол главного редактора газеты. Увлеченный, охваченный рвением, он взял на себя еще и управление делами, не заботясь о дополнительной оплате. Это пришло позднее.
Когда тираж газеты возрос и рекламные объявления стали приносить большие доходы, правление предложило освободить Ивенса от обязанностей главного редактора. Но Ивенс и слышать об этом не хотел: он желал сохранить за собой всю полноту редакторской власти, нести ответственность за регулярный выпуск газеты и за рост ее престижа. Передовые статьи и колонка «Вопросы и комментарии» вознаграждали Дэвида за то, что ему вечно приходилось ломать голову, как повысить тираж и улучшить печатание, – словом, заниматься тысячью всевозможных дел – будь то реорганизация отделов и подбор специалистов или приобретение и установка новых машин и введение технических усовершенствований для «Уикли баджет» и десятка других дополнительных изданий, им же самим и созданных.
Управлять делами газеты может каждый, кто умеет руководить, говорил себе Дэвид, но своей ролью редактора он не поступится. По природе своей он журналист: ому нравится быть в водовороте событий, схватывая на лету то, что может заинтересовать читателя.
Как только кончалось очередное редакционное совещание, Дэвид писал короткую передовую, отличавшуюся легкостью и изяществом слога. Б этих статьях особенно ярко проявлялся, по общему мнению, его блестящий иронический стиль. Заметки для колонки «Вопросы и комментарии» легко соскальзывали с его пера. Их ждали, над его остротами смеялись. Дэвид писал их с веселым озорством, невзирая на то, что некоторым директорам они доставляли меньше удовольствия, чем их автору.
В прошлые годы никто не вмешивался в его редакторскую деятельность. Дэвид добросовестно проводил курс, предложенный правлением газеты, что само собой разумелось. Для Дэвида это была работа, за которую ему платили. Когда ценность его услуг как главного редактора и коммерческого директора стала очевидной, благодаря росту популярности «Диспетч» и «Уикли баджет» и повышению акций компании на фондовой бирже, он получил письмо с благодарностью и сообщением об увеличении оклада.
«Как верный слуга компании, мистер Ивенс полностью оправдал оказанное ему доверие», – говорилось в письме. «Только Спарк, председатель правления, и мог продиктовать подобное письмо», – думал Дэвид. «Верный слуга компании»! Эта унизительная формулировка уязвляла его гордость, приводила в бешенство. И все же, признавался себе Дэвид, она соответствовала действительности.
Он честно выполнял все условия договора, делал то, за что ему платили, и даже сверх того. Только гордиться своими достижениями не стоило: ведь он принес в жертву лучшее, что у него было, – талант журналиста. Сколько раз приходилось ему поступаться своими убеждениями, кривить душою, любой ценой добиваясь роста престижа обеих газет.
Да, он был «верным слугой компании». В этом-то и крылась причина его неудовлетворенности собой и своей работой. В этом и еще в том, что случилось с Робом.
Его руки нервно дрогнули. Сильные руки с четко обозначенной мускулатурой, блестящие черные волоски от кисти до локтя, длинные пальцы с изящным овалом ногтей. Дэвид втайне гордился своими руками и никогда не делал черной работы. Для него руки были инструментом, передающим бумаге мысли, которые диктовал ему мозг. Вместе с тем руки прекрасно выражали его настроение.
«Можно догадаться, о чем папа думает, если наблюдать за его руками», – говорила Мифф.
Все началось с увлечения высокими идеалами, связанными с призванием журналиста, вспоминал Дэвид свои молодые годы. В его жилах вместо крови, наверно, текли чернила. Отец Дэвида был редактором старой школы, человеком большой культуры и всесторонних знаний; в свое время он снискал себе уважение благодаря прекрасной осведомленности в международных вопросах и делах внутренней политики. И хотя в течение многих лет он занимал пост редактора одной из ежедневных утренних газет консервативного направления, это не мешало ему утверждать, что долг прессы – правдивая информация.
Следуя лучшим традициям британской журналистики, он считал себя хранителем идей и взглядов, которые могут так или иначе определить развитие общественной мысли и оказать влияние на события национального и международного значения. Он прибавил к имени Дэвида второе имя Дилейн, как дань уважения человеку, которым он восхищался и которого чтил за его приверженность этой теории; главный редактор газеты «Таймс», где Оуэн Ивенс в пору своей молодости начинал работать репортером, англичанин Дилейн отстоял свое право опубликовать важную информацию о государственном перевороте Луи-Наполеона, хотя тогдашний премьер-министр категорически настаивал на ее снятии.
Дэвид вспомнил слова, которые частенько повторял его отец: «Раз я являюсь редактором газеты, – редактирую ее я сам». И он не допускал никаких посягательств владельца газеты на его редакторскую власть. Дэвид улыбнулся, – на память пришло исполненное пафоса красноречие и энергичный слог старого джентльмена. Да, досталось бы ему сейчас от редакторского карандаша сына!
Он мысленно представил себе Оуэна Ивенса таким, как тот обычно отправлялся на работу около полудня, после первого завтрака, – в сюртуке, черных брюках и высоком шелковом цилиндре; у него изысканный, исполненный достоинства вид, именно такой, полагал оп, как подобает редактору крупной газеты. В кабинете шелковый цилиндр снимался, и поношенная куртка заменяла сюртук. В течение нескольких часов его перо летало по бумаге, и синий карандаш с ожесточением черкал рукопись. Его редакторская бдительность не ослабевала ни на минуту, пока не бывали просмотрены последние телеграммы и материал не уходил в набор – что случалось нередко в полночь, а то и в ранние утренние часы.
Но времена менялись, и вместе с ними изменился и сам Оуэн Ивенс. Он не мог угнаться за темпом роста газетной промышленности. Новые методы работы и новые идеи выбили его из привычной колеи. Раздраженный, сознающий свое крушение, он умер внезапно после тяжелого сердечного приступа. Но умер не от физического недуга, как подозревал Дэвид, а скорее от того, что, будучи выброшен из кипучего водоворота жизни, был не в состоянии это вынести.
Как ликовал отец, когда Дэвид начал работать в местной газете! Он был счастлив и горд тем, что сын пошел по его стопам.
Дэвид извлек из внутреннего кармана пиджака бумажник и вынул оттуда письмо. Бумага пожелтела от времени, но размашистый почерк отца был все еще ясно различим.
«Я не знаю лучшего руководства для молодого журналиста, сынок, – читал он, – чем эта выдержка из передовой статьи Роберта Лоу, напечатанной в «Таймсе», когда редактором был Дилейн. Для меня она явилась компасом, по которому я определял свой курс. Может быть, теперь эти взгляды устарели, и я просто неудачник в профессии, которую глубоко чту. Но я посылаю ее в надежде, что тебе будет интересно узнать, как относился к своей работе один из лучших журналистов нашего времени:
«Для нас, для кого гласность и истина составляют основу существования, нет большего бесчестья, чем отказ от правдивого и точного изложения фактов. Наш долг говорить правду, правду, как она есть, не страшась последствий, не прикрывать лживыми фразами акты несправедливости и насилия, а сразу же повергать их на всеобщий суд».
Руки Дэвида судорожно дернулись, пальцы переплелись, сжались до хруста и разжались. «Бог весть, как я дошел до того, что забыл об этом», – беззвучно простонал он.
Ему казалось, что он замурован в огромном здании. Оно было подобно гигантскому сфинксу – памятнику, воздвигнутому тяжелым трудом бесчисленных рабов и ставшему могилой людских надежд и иллюзий в пустыне времени.
Отныне жизнь его будет полна дерзаний, славных держаний мысли и дела. Он будет писать, разумеется, он будет продолжать писать; но писать только правду, как он видит ее. Будет собирать факты, ставить их в связь с людьми и событиями. Он не боится, что его острый ум изменит ему. Да, он найдет более достойное применение своему «блестящему ироническому стилю». Перестанет чувствовать себя ограниченным и скованным политическим направлением газеты. Он завоюет себе имя независимого мужественного писателя: напишет ряд статей, разоблачающих политический обман, религиозное фарисейство, экономические махинации.
Нет, он не станет ни пророком, ни фанатиком. Он самый обыкновенный человек, который понял, как подло обманут был народ; просто разумный человек, который испытал потребность честно взглянуть на прожитую им жизнь и на жизнь своих соотечественников. А их, сбившихся в покорное стадо, тесным кольцом окружили печать, церковь, большой бизнес, одурманивая и толкая в кровавую бойню.
И он тоже принимал участие в этой бесчестной кампании. Он не меньше других повинен в гибели тех, кто ушел на эту проклятую корейскую войну. Не говоря уже о горькой участи миллионов несчастных корейцев – мужчин, женщин и детей! Кто знает, скольких из них унесла смерть? А теперь, когда у него открылись глаза, что может он сделать во искупление своего слепого соучастия в этом подлом деле? В настоящий момент – ничего, кроме того, что решил; уйти, порвать навсегда с газетой.
Позже он постарается убедить этих людей, что они не должны слепо повиноваться тем, кто лишает их своего мнения, радостей жизни. Они живые, мыслящие существа, ум и силы которых призваны служить высоким жизненным целям. Народ – это тигель благородных и возвышенных стремлений, а не чан для отбросов, где бродят жадность, невежество и предрассудки, порождающие грязные, жестокие и подлые дела.
Когда лихорадочное возбуждение немного улеглось, Дэвид задумался над тем, как примет Клер его уход с работы. Надо было бы посоветоваться с нею. Но разве мог он сделать это, не решив окончательно этот вопрос для себя?
До нынешнего дня он и сам не отдавал себе ясного отчета в том, что разрыв с газетой – единственно возможный для него исход. Но теперь он не мог больше проводить в жизнь политику, намеченную правлением газеты. Тем более после того, как у него произошел крупный спор с директорами правления о необходимости изменить эту политику, сделать ее объективной; он требовал полнее освещать точку зрения противной стороны по различным политическим и экономическим вопросам и давать правдивую информацию о международных событиях, а не публиковать официальные сообщения, искажающие истинное положение вещей, как это было с войной в Корее.
«В стране с демократическим образом правления допустимо лишь правдивое и точное изложение действительных фактов», – сказал Дэвид. Его предложение отклонили, даже высмеяли. Директора правления с возмущением отвергли самую мысль о том, что политика, проводимая их газетой, может оказаться обманом, и тем более обманом в корыстных целях. Гораздо проще было представить дело так, что Ивенс, видимо, подпал под влияние социалистических идей, или что он просто нуждается в отдыхе: должно быть, смерть сына тяжко отразилась на нем.
Да, действительно отразилась, мрачно подумал Дэвид. Но теперь, по крайней мере, все стало ясно и определенно. Клер поймет, что он не в силах больше играть роль, которую ему навязывает правление. Образ их жизни, естественно, придется изменить: надо будет сократить домашние расходы, не так часто принимать гостей, как привыкла Клер. Теперь дети его самостоятельны. У Нийла прочное, обеспеченное положение: ое врач-патологоанатом самой крупной больницы Мельбурна. У Мифф ее любимая работа. Гвен тоже довольна занятиями в детском саду. Так что в этом отношении можно не беспокоиться. Безусловно, в семье будут поражены, начнутся разговоры о том, «разумен» ли его уход: стоит ли жертвовать положением, достигнутым годами нелегкого труда, лишиться постоянного дохода. Но тут уж ничего не поделаешь. Сколь ни обескуражены будут его близкие, это не должно повлиять на его решение.
Заденет ли глубоко его уход еще кого-нибудь? В редакции – никого, кроме, быть может, Элизабет Пиккет. Хороший журналист Элизабет, опытный и надежный. Досконально знает подноготную всех наиболее влиятельных лиц города. Вскоре после того, как Дэвид принял на себя руководство газетой, он взял на службу Элизабет и поручил ей раздел светской хроники и страницу «Для женщин». Она выполняла свою работу с похвальным рвением, проявляя при этом безупречное знание грамматики.
Ярая феминистка, Элизабет отнюдь не злоупотребляла в редакции своей принадлежностью к прекрасному полу, чего нельзя было сказать об одной из молодых особ, взятой недавно на работу в помощь мисс Пиккет. Дэвиду пришлось долго убеждать Элизабет, что он к этому никак не причастен, когда она явилась к нему с протестом, возмущенная и колючая как дикобраз. Ей не требуется никаких помощников, заявила она. Однако беда заключалась в том, что один из директоров, Клод Мойл, просил заведующего отделом найма и увольнения взять на испытание в раздел «Для женщин» свою приятельницу. Элизабет утверждала, что эта девица не знает основ английской грамматики и что ей нельзя доверить самую простую заметку. Она, Элизабет, и так уж достаточно возилась в этом году с двумя практикантками и сейчас слишком занята, чтобы тратить время еще на одну. И к тому же – хватит! – она не желает быть посмешищем и работать на директорскую потаскушку.
– Скажите ему об этом сами, – усмехнулся Дэвид, – ему или Тому Бейли.
– Что ж, и скажу! – Элизабет действительно была способна поговорить с директором начистоту, а уж Бейли наверняка изложила все, что думала по этому поводу.
Репортеры и вся редакторская братия называли ее «Наша Лиз» или «Мисс Колючка», потому что она была очень чувствительна ко всему, что касалось ее работы. Беспечно выброшенный абзац мог вызвать целую бурю в редакции. Она спорила до хрипоты с Джонни Лонгом, заметив в своих гранках замену двоеточия на точку с запятой. И настаивала, что точка с запятой в данном случае недопустима, что это «ублюдочный» знак и только безграмотному идиоту могла прийти в голову идея править ее пунктуацию.
Джонни и Том Бейли дружно нападали на Элизабет. На редакционных совещаниях они говорили, что Мисс Колючка чересчур старомодна: она лишена гибкости и неспособна вести женский раздел, так как не в состоянии понять, что интересует современную женщину. Бейли не раз упоминал, что жены двух директоров находят женскую страничку «пресной». Да и рекламодатели тоже выражали недовольство: от объявлений, помещенных там, им было мало проку. Бейли считал, что необходимо что-то предпринять. Мисс Колючка имела обыкновение осторожно, но весьма зло высмеивать пристрастие женщин к косметике и крайностям моды в одежде и прическах, а это, утверждал оп, не нравится элегантным женщинам. Вредит делу.
Дэвида забавляли язвительные насмешки Элизабет над женскими уловками, «разжигающими похоть», но он просил ее воздерживаться от неодобрительных замечаний там, где дело касалось современных тенденций моды. Защищая Мисс Колючку, он ссылался на то, что большинство читательниц газеты – домохозяйки и почтенные матери семейств среднего класса – разделяют ее образ мыслей. Вполне возможно, что для женщин высшего круга эта страничка неинтересна. По всей вероятности, Бейли тут прав. Этот раздел должен отвечать вкусам женщин всех слоев общества и удовлетворять рекламодателей – косметические и модные салоны. Дэвид опасался, что в будущем без его поддержки от Мисс Колючка быстро отделаются.
Когда он представлял себе ее некрасивое, увядшее лицо, седеющие волосы, стянутые тугим узлом на затылке, и худощавую фигуру в строгом сером костюме, у него не хватало духу сказать ей о своем уходе. С болью подумал он, как поразит ее это известие, как встревожится она за свою судьбу в газете. За многие годы работы они привыкли считать себя «столпами», на которых держится «Диспетч» и «Уикли баджет».
Их взаимное дружеское расположение никогда не выражалось в словах. В деловом общении многих лет дружеские чувства воспринимались обоими как нечто само собой разумеющееся. Вне стен редакции они виделись редко. Дэвид мало что знал о жизни мисс Пиккет: ему было известно только, что она живет с сестрой-калекой и мечтает когда-нибудь написать роман.
Элизабет никогда не пользовалась ничьим вниманием. И сама не давала к этому поводов, как эта новенькая девушка и некоторые машинистки. Естественно, что все девушки и репортеры при случае задевали и поддразнивали друг друга; но эта рыженькая, но мнению Джонни Лонга, перебудоражила всех – и женщин и мужчин. Джонни относился к ней так же неодобрительно, как и Элизабет. И то, что говорила о ней Элизабет, было истинной правдой. Девушка и впрямь не могла написать даже самой короткой заметки – обязательно что-нибудь да напутает! Когда приходили гранки, Дэвид безжалостно исчеркивал их вдоль и поперек своим синим карандашом. Гранки бывали буквально испещрены его поправками, и это приводило в ярость наборщиков.
Дэвид никогда не говорил с девушкой, хотя не раз встречался с ней в коридоре: опа неизменно болтала с ком-нибудь из репортеров – маленькая, задорная, с копной рыжих волос. Лиз не была злой, она дала бы девушке возможность проявить себя, если бы у той были хоть какие-то способности, – в этом Дэвид был уверен.
Резкие звонки трамваев, гудки и визг тормозящих машин, выкрики мальчишек-газетчиков доносились до него сквозь грохот и гул уличного движения. Позднее, когда этот гул немного утихнет, грузовики, груженные газетной бумагой, загромыхают по булыжникам мостовой в переулке, позади здания обеих редакций. Это здание никогда не пустело и не затихало совсем. Даже когда умолкал шум и спадало напряжение трудового дня, оно продолжало гудеть, как улей, в котором никогда не прекращается жизнь.
Дэвид нажал кнопку на своем столе, чтобы вызвать рассыльного, который обычно сразу же бросался на звонок. Но в коридоре не слышно было топота бегущих ног и развязный подросток не появился на пороге. С раздражением Дэвид снова надавил на кнопку звонка. Конечно, чертенок уже улизнул, хотя по правилам полагалось, чтобы рассыльный для особых поручений дежурил до ухода главного редактора. Правда, уже поздно: смешно думать, что мальчишка надолго задержится после окончания рабочего дня.
Дверь кабинета оставалась закрытой. Дэвид распахнул ее настежь. В коридоре – ни души. Он направился в комнату рассыльных. Старший рассыльный тоже исчез. Проходя по коридору, он заглянул в комнату репортеров, где еще два-три часа назад стучали пишущие машинки, раздавались звонки и велись несмолкаемые телефонные разговоры. Сейчас машинки и телефоны безмолвствовали. На полу валялись папиросные окурки и скомканные типографские оттиски. На него пахнуло знакомым запахом насквозь прокуренного помещения. Пусто было и в комнате, где за овальным столом обычно сидели помощники редактора, внимательно читающие гранки. Кое-где но стенам висели наколотые на гвоздях газетные полосы. Они были еще теплые на ощупь, и Дэвид догадался, что паровое отопление не выключалось здесь весь день. В его кабинете было на несколько градусов прохладнее. Он предпочитал работать, когда было свежо. В холодном воздухе голова яснее и лучше думается.
В кабинете редактора отдела светских новостей горел неяркий свет. Неужели Мисс Колючка до сих пор еще не ушла? Приглушенный стук машинки доносился из ео комнаты, как голос одинокой ночной птицы. Чуть поодаль слышался негромкий треск и щелканье телетайпов, несущих из-за океана нескончаемый поток новостей.
И все же какое-то необычное спокойствие, подобное затишью после ураганного шквала, царило в помещении редакции. Дэвидом овладело тоскливое чувство. Ему нравилось слышать в конце дня веселые крики и возню мальчишек из комнаты рассыльных, взрывы смеха из репортерской, когда спадает общее напряжение и люди начинают обмениваться шутками и замечаниями по поводу новостей, разбирая плащи и шляпы, или толпясь на площадке у лифта. Ему было неприятно молчание огромных ротационных машин, пусть даже временное. Их грохот ночью и днем как бы утверждал его организаторский талант. А их бесперебойная работа означала растущие прибыли компании. После того как неутомимые гиганты отпечатывали тираж «Диспетч» и «Баджет», они переключались на печатанье провинциальных газет и других изданий. Ночная смена еще не вышла на дежурство, подумал Дэвид.








