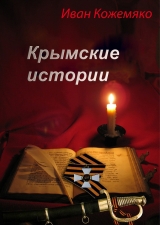
Текст книги "Крымские истории"
Автор книги: Иван Кожемяко
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
– Да, Лидия Георгиевна, я много об этом читал, – вставил я свою реплику.
– Деточка. Вы – читали, так как Вы – послевоенный, я так скажу, молодой человек и можете не знать, что на оккупированных фашистами территориях, а это ведь до Москвы включительно, была образована особая зона и шесть митрополитов русской православной церкви призывали паству служить верой и правдой фюреру великой Германии, который и есть «…суть меч божий для борьбы с большевиками».
– Я об этом знаю, милая Лидия Георгиевна, – ответил я.
– Тем лучше. И после этого – эти служки могут быть для меня авторитетом? Посредником между мной и Господом? Нет уж, увольте меня от этого, – и она, при этом, как-то решительно махнула рукой.
– Я не могу воздавать хвалу новому режиму, он у меня забрал всё, но – нельзя же не видеть и того, что только этот режим и спас Россию от закабаления силами зла и насилия, только он сохранил саму государственность Отечества.
– Согласен…
– Но запомните, деточка, и без веры человек – ничто, он ничтожен и слаб, он не может избежать искушений, ошибок и заблуждений.
На миг остановившись, и уже – как итог, произнесла запальчиво, с жаром:
– Поэтому – веруйте, веруйте истово и ищите у Господа совета в роковые минуты, но никогда, никогда не избирайте в посредники между собой и Господом лукавого попа, который сам погряз в грехах…
Этот разговор с Лидией Георгиевной я запомнил на всю жизнь, как, впрочем, и все иные. Но этот меня просто потряс. Я не ожидал такой осведомлённости в делах веры и церкви от этой дивной русской женщины, ровесницы далёких и отшумевших событий.
Я совершенно по-иному стал оценивать действительность и своё место в этом мире. Свои скромные человеческие возможности, которые умножались лишь тогда, когда человек отвергал без-ОБРАЗНОЕ, то есть, жизнь без образа, а ОБРАЗ – только Господь, только вечная и непорушная истина.
От неё свет и верная дорога в жизни, защита и охрана всем нам от дурных мыслей и поступков.
Сам, полагаю, имел какой-то опыт, что-то знал, всё же был академиком и профессором прославленной военной академии Генерального штаба, где уже несколько лет возглавлял факультет оперативного искусства, но её рассказы, ясный и светлый разум меня просто завораживали, а её милое бурчание, никогда не переходящее известных границ, словно вернули в раннее детство, где я, к несчастию, не видел такой материнской заботы и нежности, желания передать накопленные знания и жизненный опыт.
Я неплохо, к тому же, знал немецкий и французский языки и она, прознав об этом, теперь вечерами говорила со мной только на них, тут же подправляя моё произношение.
И мне кажется, что я за семь–восемь вечеров общения с нею, своеобразных и интересных уроков, достиг заметного продвижения вперёд в разговорной речи, так как она всё меньше и меньше делала мне своих милых замечаний.
Но здоровалась она со мной и благословляла вечером на дорогу, только на русском языке.
Видно, что и для неё моё внимание и неподдельный интерес значили многое.
И она, уже не стесняясь, принимала от меня в ресторане приглашение отужинать вместе.
Всегда, как правило, съедала две-три барабольки, другой рыбы не ела, с зеленью. И выпивала чашечку своего неизменного кофе.
Вчера же, неожиданно для меня, сама попросила – «на донышке», так она и сказала, коньяку.
– Сегодня у меня особый день. Сегодня Его день рождения. Жду, жду уже встречи с ним. Все свои дела на земле я уже завершила, да их-то и не было никогда много, только вот не знаю почему, за что вознаградил Господь – зажилась так долго.
И уже только для себя:
– Пора уже мне, пора давно, по иному пути идти. С ним рядом…
И она, выпив глоток коньяку, закурила. И вдруг, молодо засмеялась:
– Генерал, а я ведь пьяна. Уже лет сорок ничего не пила. Что же Вы делать будете со мной?
– Не волнуйтесь, Лидия Георгиевна, сейчас всё пройдёт, и мы – снова, с Вами, по нашему маршруту, тихонечко пойдём к Вам домой.
Она успокоилась и даже на несколько минут закрыла глаза.
Проводив её домой и договорившись о завтрашней встрече, я не торопясь пошёл в свою временную обитель.
Почему-то не спалось. Практически всю ночь я просидел на балконе, непрерывно курил, нарушив свой же запрет – не более шести сигарет в день, и даже выпил полбутылки коньяку.
Необъяснимая тревога давила на сердце. И я, не зная причины, как в минуты опасности, собрал всю свою волю в кулак и насторожился:
«Что мне здесь, в раю, может угрожать? Успокойся и угомонись».
Но как только рассвело, я побрился, надел куртку – было свежо, и быстро пошёл к дому Лидии Георгиевны.
О, этот запах смерти. Я его почувствовал задолго, ещё не дойдя до её дома. Часто, к несчастию, встречался он в моей жизни.
И я, зайдя к соседке, с которой уже были знакомы, попросил её пройти со мной на половину Лидии Георгиевны.
Соседка не удивилась, при этом спокойно, не волнуясь, сказала:
– Да, что-то я не слышала бабушку сегодня. У неё, правда, это бывает. Она – может и до полудня пролежать, всё что-то читает. Выпьет чашку чаю и читает свои книги.
Я заторопился к двери Лидии Георгиевны. Чутьё меня не подвело. На своём диванчике, в неведомом мне – красивом, но, видать, очень старинном платье, лежала, вытянувшись во весь свой маленький рост, Лидия Георгиевна.
Её маленькие и уже восковые руки, были сложены в смиренный замок на груди. Глаза закрыты. Лицо, обретшее привычную для покойника желтизну, было величественным и спокойным.
На столе, в целлофановом пакете, лежал истлевший букет роз или, вернее, то, что от него осталось и письмо, адресованное мне.
А ещё – та большая фотография Лидии Георгиевны, которая так мне нравилась.
В своём письме она писала:
«Генерал! У меня нет души, ближе Вашей в этом городе, где я прожила почти всю свою жизнь.
Мне некому и нечего завещать, кроме книг и этих нескольких дорогих для меня безделушек (и только после этих слов я увидел маленькую коробочку алого бархата, которая стояла у фотографии).
Я очень хочу, чтобы Вы, на добрую память обо мне, взяли себе книги и эти фамильные драгоценности. Пусть они доставят радость Вашей милой дочери, а она, затем, передаст их Вашей внучке. Так Вы и будете меня помнить, а я же и из той жизни, теперь уже вечной, буду всегда молиться за Вас и просить Господа о милости к Вам и любви.
Мою же комнату я завещаю моей милой соседке, которая всегда помогала мне и поддерживала меня во все трудные времена…».
Женщина ещё яркая и красивая, но уже отпылавшая зенитом женской красоты, при этом – заплакала навзрыд и стала что-то поправлять на усопшей.
Я продолжил чтение письма:
«Похороните меня, прошу Вас, я не хочу, чтобы это делали чужие люди.
Деньги у меня скоплены на этот случай и лежат в верхнем ящике письменного стола.
Положите со мной Его фотографию, мою же – возьмите себе на память, мне очень нравилось, как Вы всегда её разглядывали.
Храни Вас Господь.
Княжна Л. Невельская».
Я всё выполнил, конечно же, не взяв ни копейки денег со стола Лидии Георгиевны, лишь указав на них хозяйке.
К её чести, она сама потребила их только на похороны, да на скромные – присутствовало лишь несколько стареньких учителей, бывших коллег усопшей, поминки.
– Вы не волнуйтесь, я – на оставшиеся, – и она показала мне деньги, – на следующий год поставлю памятничек, чтоб всё по-людски было.
Больше оставаться в Феодосии после случившегося я не мог. И уехал в тот же вечер, отправив багажом, на свой адрес, её библиотеку.
Мой случайный попутчик, который оказался в купе вагона «СВ», какой-то научный работник академии наук, удивлённо, но с пониманием посмотрел на меня, когда я предложил почтить память светлого и уважаемого мною человека и помянуть его по русскому обычаю.
Он, молодец, не жеманясь, взял стакан в руки, который я на две трети наполнил коньяком, выпил залпом и только потом спросил:
– Родственник? Приезжали на похороны?
– Родная душа, так будет правильнее сказать. Святая и чистая. Сегодня – таких уже нет. В числе последних, из самых лучших, ушла…
И только при этих словах на моих глазах выступили слёзы облегчения и покаяния.
И я их не стыдился.
Нам всем есть в чём каяться и за что просить у Господа прощения.
Не всегда мы оглядываемся даже на ближних, а уж на далёких для нас людей – и вовсе внимания не обращаем. Не учитываем их мнения, их чувств и страданий, поисков и переживаний.
Отсюда – такой крутой и кровавый путь России, к несчастию.
Целые народы ломаем через колено, если только чувствуем свою силу и понимаем только свою правоту. Не всегда милосердную для других.
А что уж тут до слабого человека, одного, его, не имеющей ценности для других, судьбы?
Поэтому мы и рассеялись по миру, причём, самые лучшие и достойные изошли из русской земли во все лихолетья и наше время – тому не исключение, оставив её на произвол немилосердных сил.
А скольких со света этого извели, кто считал?
И всё лишь для того, чтобы свой верх сохранить, поставить себя над другими.
Научимся ли мы когда-нибудь быть терпимее, сердечнее, добрее и участливее?
А ещё, – подумал я, – научимся ли различать, как неоднократно говорила мне Лидия Георгиевна, – понятия Отечество и государство?
Отечество у нас одно, у людей разных убеждений, разных классов и разных сословий – Россия наша и понятие Отечества всегда выше государства.
Скольких бы бед избежали, если бы усвоили эту, такую простую, истину. Сможем ли, хотя бы сегодня, накупавшись в праведной крови, понять это?
Ибо если не поймём этого – крови не избежать вновь. Каким чудом, вразумлением каким прервать эту печальную традицию, когда у каждого поколения в России – свои усобицы, в ходе которых всегда льётся праведная кровь.
Недопустимо много источили её друг из друга. Больше нельзя. Иначе – остановим саму возможность к развитию, к продолжению жизни.
***
Изменяем мы, в первую очередь,
самим себе. А изменив себе -
не страшимся измены и тем,
кто нас любит.
И их боль и утраты
всегда нам кажутся не достойными
нашего сочувствия и сожаления.
И. Владиславлев
ИЗМЕНА
Эту историю мне рассказал мой дед, который прожил на этой земле 93 года, имел два Георгиевских креста, лычки старшего урядника, да ран, сабельных, на теле – немеряно.
И так случилось, что ко времени этой истории, он, первогодок, со своим отцом Фёдором Ефимовичем Шаповаловым, служил в полку, которым командовал молодой и известный всей Добровольческой армии полковник Лапшов.
Такой к нему, разумеется в пересказах, а где-то – и в домыслах, дошла эта история – высокой и трагичной любви.
***
Боже мой, как же ждал полковник Лапшов этой минуты.
Он, как проклятый, уже шестой месяц не выходил из боёв. Армия стягивалась в Крым и все, даже юные поручики, понимали, что конец, развязка всей их борьбы, близится.
Все понесённые жертвы были зряшными. Не принял Господь их молитвы, обращённые к нему из десятков тысяч неприкаянных сердец за защитой и поддержкой.
За грехи, видать большие, не смог простить Господь своим сыновьям, которых жалел и пёкся о каждом, принимая их страдания и боль в своё вселюбящее сердце.
Но и оно имеет свои пределы. И было переполнено до краёв жалостливое сердце Господа болью и страданиями, кровью праведной, а как же ещё – ведь её, по обе Его руки, лили люди русские без разбору, не щадя не только врагов своих, но и самих себя.
И милость Божия была сокрыта за реками крови и не могла она пробиться к людям, так как кровь – она прочнее всего. Она превращала человека в зверя лютого, а кто же такому на помощь придёт и спасёт.
И Лапшов, накупавшись в крови досыта, так прямо и сказал командующему:
– Ваше Превосходительство, три дня, только три дня прошу, Вы меня знаете с четырнадцатого года, ни разу никого не просил ни о чём личном, а сегодня – прошу. Не отпустите – застрелюсь, сейчас же застрелюсь, у Вас на глазах.
И Пётр Николаевич Врангель, зная одного из своих лучших командиров полков, понял его сразу – до края, значит, дошёл человек.
Закончился запас его сил – и физических и моральных и душа вся истлела настолько, что уже не страшится она любого греха.
И он разрешил полковнику Лапшову краткосрочный отпуск. Да не три дня, как тот просил, а целых пять.
– Поезжайте, Дмитрий Вячеславович, поезжайте, голубчик. Я думаю, что за пять дней никаких радикальных перемен не случится. А Вам надо отдохнуть. Я это знаю. И простите, Бога ради, своего Главнокомандующего, что сам не догадался и не предложил Вам, хотя бы несколько дней, заслуженной передышки.
И Лапшов, со своим верным ординарцем, ещё с той Великой войны, урядником Шаповаловым, батькой своим названным, старым уже казаком, с тремя Георгиями на вылинявшей гимнастёрке, тронулся в путь, в Севастополь.
Шаповалов предложил пролётку, но Лапшов отказался:
– Нет, отец, так будет нам тяжелее пробиться. Ты же знаешь, что сейчас на дорогах творится. Мы – верхи, – он так и сказал, по-казачьи привычно «верхи», – так оно вернее, да и быстрее будет.
И, как оказалось впоследствии, это решение Лапшова было мудрым. Дорога на Севастополь, вся, была забита беженцами, телегами, экипажами, а в Ласпи Шаповалову даже пришлось стрелять вверх, чтобы обеспечить проезд своего командира.
Казалось, вся Россия стронулась с места и спешила неведомо куда и за какой долей.
Какие пожитки у окопного офицера, даже столь высокого положения и чина? Один вещмешок и набрался. И среди личных вещей – свежей гимнастёрки, шаровар с алым лампасом, орденов, которые лежали в нарядной, алого бархата коробке, да несколько пачек патронов к офицерскому нагану-самовзводу, с которым не расставался с четырнадцатого года – лежал подарок для Неё.
Давно он купил его у татарина-менялы, все деньги, что у него были, отдал. Это был необычайной красоты старинный браслет червонного золота, с бриллиантами и такие же серьги.
Грел этот подарок душу Лапшову и берёг он его пуще зеницы ока.
Господи, как же он любил эту женщину. Как он боготворил её.
А встретилась она ему – на дорогах этой уже войны, несчастная, растерянная, сидевшая прямо в придорожной пыли, а на коленях держала уже безжизненную голову красавца-капитана, которому шалый снаряд оторвал обе ноги и он, промучавшись несколько часов, так и скончался.
Лапшов силой оторвал Её от остывшего тела капитана, велел подчинённым похоронить его, а сам, усадив потерянную и ушедшую в неутешное горе молодую женщину в пролётку, не утешал, не говорил ни слова, а просто укрыл шинелью, налил почти полкружки спирта и заставил выпить.
Она безропотно всё это выполнила, даже не задохнулась с непривычки и тут же уснула.
А он сидел, молча, в пролётке, всё смотрел на это удивительно красивое лицо и думал:
– Вот ведь как жизнь заворачивает. Хорошо мне, никто не заплачет, никто не поскорбит. Родителей давно утратил – отца, профессора Петербургской военно-медицинской академии, растерзали пьяные анархисты – ни за что, просто так, только потому, что старый генерал-хирург не снял погоны и не поклонился им, как они того требовали.
И не остановило их даже то, что он был врачом, прошёл японскую войну, а в последние годы возглавлял кафедру полевой хирургии.
Мать не вынесла утраты и стаяла за ним следом, через несколько дней.
А жениться Лапшов не успел. Юным поручиком, как ушёл на фронт в четырнадцатом году, так вот уже шесть лет и не выходит из боёв.
Сначала – за Веру, царя и Отечество, а сейчас?
«А сейчас за что? – спросил он сам у себя. И ответа не нашёл.
«За Отечество? Так его нет. Веры не стало. Как не стало и царя. Поэтому – за что же ты, Лапшов, воюешь с конца семнадцатого года?»
Он тяжело вздохнул, да так, что даже вскинулся в седле его батька, как старый ворон, едущий рядом, а Лапшов продолжил в мыслях:
«Не простой вопрос, коль вся Россия отвернулась от нас и пошла – супротив, как батька мой дорогой говорит».
Даже сердце зашлось при этих мыслях:
«Ведь у меня, кроме службы, ничего нет. Ну, стал я полковником в двадцать семь лет, полком уже второй год командую, а воюю-то с кем? И за что? За какие идеалы?»
Как-то счастливо улыбнувшись, что ещё в большей мере подчеркнуло его возраст, горестно сосредоточился на дальнейших размышлениях:
«Там был германец, там было всё понятно. А сейчас? Против таких, как Шаповалов?»
И он сбоку, с жалостью, посмотрел на дремавшего в седле своего ангела-хранителя.
«Сначала было объяснение. Узнав о трагической гибели отца – всю ненависть изливал в боях. Смерти не искал, нет, но и не страшился встретить её».
Эти мысли ни на миг не оставляли его, а он всё смотрел и смотрел на эту женщину, которую подобрал на дороге и думал:
«А зачем я это сделал? И куда я её привезу? Таких как она сегодня – пол-России. Разве всех обогреешь? Сердца ведь на всех не хватит».
Он даже покраснел в миг, когда вспомнил, что святошей не был. Случались у него краткосрочные романы на дорогах войны, но всей душой он так ни к кому и не прикипел, не успел, да и не смог.
А сейчас – всё его сердце, не знавшее настоящей любви, женской ласки, наполнила такая нежность к этой незнакомой женщине, что он, будь обстоятельства иными, поклялся бы ей в верности и тот же час просил бы её руки.
Он даже сам устрашился неожиданному обороту своих мыслей и тихо пробормотал:
– Нервы, нервы проклятые, расшалились. Успокойся. За тобой – полк, три тысячи живых душ. Их надо поить-кормить, учить воевать, хоронить… Надо исполнять свой долг. И помнить, что кроме тебя его не исполнит никто.
Так они доехали до Ялты, где и предстояло полку Лапшова пополниться людьми, боеприпасами и вновь выступить на передовую.
Его попутчица очнулась. Ошалелыми глазами смотрела на молодого красивого полковника, который берёг её покой и правой рукой обнимал за плечи, подложив ей под правую щеку свою папаху.
Сам же сидел с непокрытой головой, в одном мундире, несмотря на изрядный холод и пронизывающий ветер.
– Ну, что, голубушка, немножко отошли? Прошу Вас, успокойтесь только: былого не вернуть, война, будь она проклята, а Вам, молодой и такой… красивой, надо жить, – эту фразу он произнёс каким-то чужим голосом, которого даже сам устыдился.
Она, даже сквозь слёзы, прорывающиеся рыдания, не смогла не задать ему вопрос:
– А Вам-то, сколько лет, полковник?
– О, я уже старый. Двадцать девятый.
Она улыбнулась, сквозь слёзы и, как-то обречённо, сказала:
– Тогда я – древняя старуха, так как мне уже тридцать первый год. К слову, только вчера исполнился тридцатый.
Лапшов даже покраснел:
– Простите, я не это хотел сказать. Я… видел, что Вы – совсем юная девушка. Простите…
Она сердечно его поблагодарила, подала папаху, которую он тут же, по-казачьи лихо, привычно сбил на затылок, выпустив из-под неё иссиня-чёрный чуб справа и тепло ей сказал:
– Вы не тревожьтесь. Мой ординарец, – и он указал на Шаповалова, дремлющего, чутко и сторожко, в седле, – Вас устроит с жильём. А там – что-нибудь придумаем.
Шаповалов, словно и не спал, слышал весь их разговор и тут же ответил:
– Ваше Высокоблагородие, барышню в Севастополь надо. В Ялте пропадёт. А у меня там – и свояк есть. Всё же легче ей будет, по нонешним окаянным временам-то…
– Тогда, отец, без промедления, – велел Лапшов, – садись в пролётку, смени коней только, запасись харчами – и в Севастополь. Даю тебе – на всё-про всё, три дня. Выполняй.
И легко соскочив с пролётки, тут же – вскочил в седло своего красавца-коня, которого вёл в поводу, возле своего, бок – о бок, верный Шаповалов и погрузился, даже не оглянувшись более ни разу на неё, в неотложные и нескончаемые заботы командира такого огромного хозяйства, которым был его полк.
Шаповалов вернулся к исходу второго дня.
– Так что, всё исправил, Ваше Высокоблагородие.
И тут же, перейдя на более привычный для него тон, продолжил:
– Всё, сынок, разрешилось, слава Богу, без особых усилий. Устроил барышню, по нонешним временам – по-царски. Дай-то Бог уцелеть ей в этом аду. Светопредставление творится, сынок, в Севастополе. Словно всю Россию стронули с места…
Лапшов только через несколько дней спросил у Шаповалова, хотя ежедневно эта мысль крутилась у него в голове:
– Так, где устроил-то нашу попутчицу, отец?
– А я, сынок, не стал её у свояка определять. Опять же – неизвестность, что там и как впереди будет? А я набрался храбрости – да и пошёл к самому градоначальнику. Сердитый, кричит на всех. Я даже оробел, когда он ко мне подошёл. И как только он стал и на меня кричать, я ему, поперёк: значит – так и так, Ваше Высокоблагородие, полковник Лапшов, мой командир, велел Вам кланяться и просит устроить эту барышню – и на проживание, и на какую-никакую службу при Вас.
– И ты знаешь, сынок, он даже кричать перестал, посмотрел на нас обоих и к ней обратился: «А печатать на машинке можете?».
– Она, ему в ответ: «Могу. Я была учителем словесности. И печатать хорошо могу».
– Вот и славно, – ответил полковник, пожилой уже совсем старик, лет-то – поболе меня будет, – давай, урядник, определяй барышню на жительство вон, в том доме, – указал на нарядный, почти у моря, белый особняк.
– Скажи, что я велел. А завтра, милая барышня, на службу. Вот так.
– Ну, я всё обрешил, с комендантом встретился, одёжу ей всю добыл – пальто, шапку, юбчонки, платья какие-никакие, да и к тебе…
– Спасибо, отец. Сердечное спасибо, – порадовался Лапшов и более не спрашивал ни слова об этой женщине.
Через несколько дней, в Севастополе, Главнокомандующий проводил большое совещание. И Лапшов был его участником.
Он сразу увидел Её в зале заседаний. Строгий, полувоенный костюм, удивительно ей шёл.
Здороваясь со знакомыми офицерами, он всё пробирался к ней.
Оказавшись совсем рядом, тихо, в растерянности и в замешательстве, произнёс:
– Здравствуйте. Вы меня не забыли ещё?
Глаза её радостно заблестели:
– Я никогда Вас не забуду, Дмитрий Вячеславович. Каждый день молю Господа за Ваше здоровье и за то, что Вы встретились мне на пути. Погибла бы без Вас…
К ним подошёл пожилой полковник. Он тяжело дышал и его лицо было багрово-красным.
– Уважаемый Николай Константинович, – обратилась она к нему, – это и есть полковник Лапшов Дмитрий Вячеславович.
Лапшов понял, что это и есть градоначальник и прищёлкнув каблуками, вытянулся, как юнкер, перед старым служакой:
– Благодарю Вас, Николай Константинович, за помощь этой… милой барышне.
Старый полковник был польщён: «Молодец, малец, – подумал про себя, – в чине равном, а ведёт себя учтиво. И орденов-то – герой, истинный герой».
А вслух сказал:
– Это я Вас, Дмитрий Вячеславович, благодарить должен. Виктория Георгиевна – сущий клад для меня. Я без неё просто бы не справился. А она такой порядок в канцелярии навела, такую дисциплину установила в управлении градоначальника, что я просто не знаю, как Вас благодарить, голубчик.
И он, с чувством, потряс руку Лапшову. И тут же извинившись, ушёл.
– Простите, дела, сейчас Главнокомандующий прибудет…
Все совещание Лапшов с Викторией, обменивались взглядами. Она что-то быстро печатала на машинке, адъютант Главнокомандующего забирал у неё готовую работу, подносил на подпись Его Превосходительству и тихонько выскальзывал из зала, относя приказы и распоряжения на телеграф. А затем, снова возвращался к Виктории и она, вновь, стучала по клавишами блестящей, такой Лапшов и не видел, пишущей машинки.
И когда Главнокомандующий объявил перерыв и пригласил всех на обед, Лапшов снова оказался возле Виктории Георгиевны.
Слава Богу, он теперь хотя бы знал её имя-отчество. Так её назвал градоначальник.
– Виктория Георгиевна! Осмелюсь просить Вас – давайте пообедаем вместе. Я знаю тут рядышком одно очень приличное место, по крайней мере – таковым оно было в недавнее время, во время моих не частых наездов с фронта.
Она с радостью согласилась. И уже через несколько минут они были в небольшом и уютном ресторанчике, почти на самом берегу моря.
Людей было немного и им был предложен столик в стеклянной веранде, через окна которой был слышен рокот моря и редкие гудки кораблей.
Как же им легко было вместе. Они говорили, говорили и не могли наговориться, даже забыв об обеде.
Но, всё же, наскоро съев вкусную рыбу, какие-то салаты с морепродуктами, спешно вернулись в зал заседаний Военного Совета.
Там было, непонятно почему, безлюдно и очень тихо.
И тут, словно из-под земли, пред ними объявился градоначальник:
– Молите Бога, счастливцы, совещание продолжится завтра, в шестнадцать часов, а сейчас – Главнокомандующий убыл встречать союзников.
Хитро подмигнул им, как поверенный в их сердечных делах и заключил:
– Так что у Вас – масса времени. Идите, идите, – и он по отечески, тепло, даже подтолкнул Лапшова к выходу.
Молодость! Какая же это святая пора! Она быстро врачует раны, даже самые тяжкие, сглаживает утраты, а сердца, не знавшие настоящей любви, так её ищут и так её ждут.
Она просто и без обиняков, сказала:
– Дмитрий Вячеславович! Не хлопочите о… жилье. У меня – целых две комнаты, спасибо милейшему градоначальнику. Мы с Вами зайдём на рынок, купим чего-нибудь съестного и продолжим нашу беседу. У меня…
Он от неожиданности даже покраснел:
– А удобно ли это? Я не стесню Вас?
– Удобно. Теперь всё удобно, Дмитрий Вячеславович, – сказала она таким тоном, как говорят с маленьким мальчиком.
– Тем более, что нам действительно есть о чём поговорить. И у меня – лишь Вы, да Ваш урядник – единственные родные люди на всём белом свете. Нет у меня более никого, – и слёзы полились из её глаз, таких удивительных, карих, с едва заметной раскосинкой.
– Виктория Георгиевна, не надо, Прошу Вас, хорошая моя. Я Вам говорил тогда, ещё при первой встрече, что я тоже один на этом свете.
Она крепко взяла его под руку и они зашагали в сторону рынка. Купить здесь можно было всё. И скоро извозчик, погрузив их поклажу, вёз счастливого Лапшова с его спутницей, к месту обитания Виктории Георгиевны.
Какой это был упоительный вечер. Они, касаясь и умышленно переплетаясь руками, готовили ужин, затем – сливались в страстном поцелуе и замирали на несколько минут, не двигаясь и только глазами спрашивали друг у друга:
«А мы правильно поступаем? По чести? Мы не заблуждаемся?».
«Нет и нет», – говорили её глаза.
«Милая, светлая, родная моя!» – отвечал он ей своим пронзительным взглядом.
Конечно, он никуда не уехал в эту ночь.
Они открывали друг друга, срывая покров непознанного и неизведанного ими, словно переливались друг в друга своими сердцами и душами, так не любившими до этой поры, дополняя, обоюдно, силы и чувства другого…
***
И с той поры он искал любую возможность, чтобы встретиться с нею.
Но, будучи человеком долга и чести, заявил ей, уже во вторую встречу:
– Родная моя! Я всё решил, договорился с настоятелем Храма Святого Владимира, который в обиходе называется усыпальницей адмиралов, о… нашем венчании…
Как же лучились и сияли её глаза при этом. И она, без любых раздумий, ответила согласием.
***
День был ярким и праздничным. Полыхала листва на солнце. Совсем рядом – слышалось дыхание моря.
Лапшов и Виктория прошли мимо памятника Нахимову, поклонились великому флотоводцу. Ей очень понравилось, как Лапшов при этом, приложил руку к козырьку своей щегольской фуражки, а левой – подобрал шашку и застыл, на мгновение, торжественно и недвижимо.
***
Отец Владислав их уже ждал. Горели свечи. Певчие на хорах, высокими голосами, торжественно, пели венчальную. Всё было как в каком-то фантастическом сне.
Но самое главное, что навсегда осталось в памяти Лапшова, до самого смертного часа, были слова священнослужителя по завершению обряда венчания.
Он взял их обоих за руки и проникновенно сказал:
– Дети мои! Вы выстрадали своё счастье. Но оно приходит только к тем, кто умеет верить и ждать. Не верящие не могут быть верными, помните это всегда, дети мои. Поэтому – верьте в Господа нашего, просите у него защиты и приносите Ему свои покаяния. И он никогда Вас не оставит своими милостями.
И он осенил их, размашисто и красиво, крестным знаменем. А затем, поочерёдно, поцеловал троекратно Лапшова и Викторию по-отечески, в лоб, а затем – и в обе щеки.
– Храни Вас Господь, милые дети. И будьте счастливы. Достойно несите по жизни свою любовь, берегите друг друга.
***
С этого дня жизнь Лапшова и Виктории наполнилась новым высоким содержанием.
Он всегда, как только выпадала минутка, рвался домой. И знал, что он всегда любим и является высшим смыслом жизни для этой молодой и ослепительной женщины, красота которой с замужеством расцвела настолько ярко, что её, тайком, даже крестили в спину бывалые матросские вдовы, которые прибирались в Храме в воскресные дни:
«Господи, прости! Нельзя человеку быть в такой порочной красе. Не к добру она. Ох, не к добру. Большое горе за собой ведёт…».
Господи, какие же это были ночи, в дни его приезда домой. Они не могли насытиться друг другом, не могли наговориться друг с другом, не могли налюбоваться друг другом.
Пришедшая к ним любовь заполонила всё их естество, всю их суть. Они не могли быть друг без друга ни один миг.
Она ему так и сказала:
– Ты знаешь, родной мой, что только ты и пробудил во мне женщину. Я не знала, я не знала, что так можно любить. Так верить и ждать. Так желать тебя.
И они вновь и вновь переплетались своими сильными молодыми телами и отдавали друг другу всё тепло и всю силу любящих сердец.
***
И вот, уже более пяти месяцев, он ни разу не встретился с нею. Бои, страшные бои, не позволяли ему отлучиться ни на миг с передовой. Да и не возникало у него таких мыслей, так как кровь лилась рекой и его полк просто таял на глазах, выполняя задачу прикрытия отхода остатков армии в Крым.
А стало чуть потише, да и задача, за которую его похвалил генерал Врангель, была выполнена с честью – и что-то нашло, так скрутило сердце, сжало его тоской такой силы, что вынести больше разлуки не мог, поэтому и попросил у Главнокомандующего, столь категорично, об отпуске.
И когда копыта лошадей звонко зацокали по мостовой Севастополя – он оживился.
Господи! Ещё несколько минут – и он увидит ту, что стала смыслом и счастьем его жизни, ту, без которой он больше не мог и не мыслил остаться даже на единый миг.
Совершенно случайно им по дороге встретился градоначальник.
Он как-то засуетился, заторопился от Лапшова, чего с ним в жизни не было никогда. Он всегда был приветлив и любил этого молодого полковника, как сына.
Сегодня же он постучал ладонью по груди Лапшова и только сказал:
– Ладно, голубчик. Все в жизни под Богом ходим. Крепитесь и молите Его о защите.
– А… Виктория Георгиевна – э… жива-здорова. Не волнуйтесь за неё. Догляд за ней есть, и живёт она… благополучно, – и при этом он старался не смотреть в глаза молодому полковнику.
– Прощайте, голубчик, дела, – и он спешно ретировался.
Муторно стало на сердце Лапшова от этой встречи. Что-то заскребло по душе. Но он гнал прочь все дурные мысли, а только думал:








