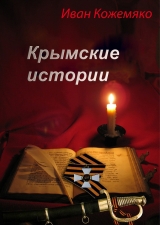
Текст книги "Крымские истории"
Автор книги: Иван Кожемяко
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
«Больна? Что же приключилось с ней? Скорее, Господи, скорее», – и он пришпорил уставшего коня.
Шаповалов с тревогой смотрел на своего любимца. В его бы власти – повернул бы коней, да и обратно – в полк. Так неспокойно и так тревожно стало у него на душе после слов градоначальника.
«Ишь, как вор бежал. С чего бы? Разве добром так встречают? Ты бы с него, – и он с тоской и сердечной болью посмотрел на Лапшова, – зашёлся так кровями, да столько людей в боях положил, а каждый у него – за сына ведь был родного, несмотря на его возраст, тогда не говорил бы так», – всё тянул и тянул старый солдат в своих мыслях.
Возле её дома стоял нарядный экипаж. На козлах дремал какой-то абрек в мохнатой папахе и накинутой на плечи бурке.
Лапшов передал повод Шаповалову и глухим голосом попросил:
– Отец, выводи коней, полчасика. А затем – и поднимайся в дом. Жду тебя, будем ужинать.
При этих словах абрек открыл глаза и гортанно проговорил:
– Эт, и куда ты идошь? Туда нэльзя. Там князь Туманишвили.
– Не пущу! Князь нэ вэлэл никаво пускать.
Лапшов – впервые в жизни, ударил солдата. Ударил сильно, так, что тот слетел с козел и распластался чёрной птицей на мостовой.
– Молчать, негодяй, – налился краской Лапшов, – пристрелю, если ещё слово скажешь.
Шаповалов с ужасом смотрел на своего любимца и не узнавал его, так исказила гримаса боли и отчаяния это родное красивое лицо, что оно стало в эти минуты просто страшным.
Лапшов открыл входную дверь своим ключом. Он его, как талисман, всегда носил с собой и говорил Шаповалову:
– Пока, отец, этот ключ со мной – ничего со мной не случится. Я бессмертный.
Уже в прихожей увидел чужую бурку, богатую шашку в серебряных ножнах, портупею на два плеча, с наганом.
И он, постарев на годы, стал тихо подниматься по ступеням лестницы на второй этаж.
Рука сама, непроизвольно, расстегнула кабуру и уже через секунду – привычно обхватила рукоять уже утратившего воронение нагана, прошедшего с ним все годы Великой и этой войны пальцами и он так сильно сжал оружие в руке, что та даже побелела…
Своих выстрелов он не слышал. Он только видел, как пули сбросили на пол мерзкое, как ему показалось, всё поросшее дикими волосами, тело Туманишвили, а – последнюю, после минутной задержки, успев посмотреть ей в омертвевшее лицо и в глаза, расширившиеся от ужаса, вогнал ей прямо в сердце.
Затем, разрывая карман, выхватил из него припасённые в подарок – браслет и серьги и швырнул их на её грудь, которая – ещё жила, трепетала в предсмертной агонии, красивая, розовая, налившаяся от чувственности и совсем недавних ласк.
И не помня себя, не утолив жажду мести, стал выбивать шомполом пустые гильзы из барабана нагана, чтобы снарядить его новым смертоносным свинцом. И, как знать, что бы случилось дальше – опоздай Шаповалов хотя бы на миг.
Опомнился он только тогда, когда Шаповалов стал силой его выволакивать из комнаты.
– Пошли, пошли, голубь ты мой, горе-то какое, что ты сам это сделал… Пусть бы… Господь её наказал… Покарал… за грех тяжкий…
Лапшов, неведомо куда, рвался из крепких рук своего батьки названного, а тот, как маленького, всё уговаривал и уговаривал его:
– Нельзя тебе тут находиться. Нельзя, сынок… Господом прошу, не смотри ты на неё!
И он, взяв Лапшова на руки, как не раз выносил его из боя после смертных ран – где и силы находил, и понёс на улицу. На лестнице, не выдержав душевной муки, закричал, от чего Лапшов и пришёл в себя:
– Нету тебя, Господи! Нету! Иначе – не попустил бы, не дозволил бы душу голубиную, сына моего, убить. За что ты так его, Господи! Не жил ведь ещё, только и думал, что жизнь сладится…
Лапшов застонал, вырвался из рук Шаповалова, сам обнял его за плечи и стал успокаивать:
– Не надо, отец. Всё, успокойся, я… уже пришёл в себя.
А Шаповалов, даже отступив от него, стал истово крестить его, приговаривая:
– Спаси, царице, небесная… Свят, свят…
Его командир, сын его и боль его, стоял пред ним совершенно седым…
***
Утром Лапшов был в полку. Все удивились этому и испугались, увидев своего любимого командира совершенно седым и… страшным. Словно две ледышки, незряче, смотрели на окружающий мир его глаза, да в нервном тике билась правая часть лица. Жизни же никакой на нём не было. Человек ещё существовал, но уже не жил…
***
А через два дня, сам, в первом ряду, повёл полк в конной лаве в атаку. С одной Георгиевской шашкой в руке, которую ещё в шестнадцатом вручил ему за доблесть великую Алексей Алексеевич Брусилов. Портупею с ножнами не стал даже брать. Бросил у коновязи.
– Ты, что же это, сынок… Что же ты так, – прохрипел Шаповалов и повис у него на плечах.
Его лицо при этом исказила такая гримаса боли, что на него было даже страшно смотреть.
– Не хороший это знак. Нельзя шашку без ножен. Это знак беды, безнадёги…
– Ладно, отец, будем живы – не помрём, – как-то нарочито-весело, – ответил Лапшов.
– Не отставай, за мной, братцы, – хриплым голосом прокричал он и впервые ударил между ушей своего коня шашкой, плашмя. Тот – от боли и обиды как-то неестественно взвизгнул, вздыбился, и уже не выбирая пути и не видя ничего вокруг от бешенства – понёсся, в намёте, вперёд.
***
А ещё через минуту Лапшов был убит. Пуля ударила ему прямо в переносицу.
И над полем боя раздался дикий, звериный крик Шаповалова:
– Сынок, сынок, родной ты мой, как же это так, Господи! Меня, мою жизнь забери, только его оставь… Пощади, Господи!
Но на это обращение к Богу сами люди никогда не ждут ответа, так как знают, что никто и никогда его не получил.
Видать, Господу не до людей в ту минуту, когда льётся праведная кровь. А может быть и не хочет он ответ давать людям за то, что он сам, по своей верховной воле, лучших к себе первыми призывает. Ему никак не обойтись без верных и самых искренних.
В этом же бою погиб и верный Шаповалов. Да он и искал смерти после того, как не стало сына его названного, его любимца, его судьбы…
Умирал очень тяжело и долго и всё силился что-то сказать своим боевым товарищам. Но кровь, стекая у него изо рта тугой струёй, мешала этому.
И он, затихнув на минуту, с натугой как-то проглотил очередной кровавый вал и еле произнёс только одно слово:
– Рядом…
И товарищи поняли, что просил у них он одного – быть похороненным рядом со своим любимцем и командиром.
На взморье, под могучим каштаном, невесть откуда взявшимся здесь, вырыли они одну широкую могилу и бережно опустили в неё Лапшова, с шашкой на руке, которая так и повисла на Георгиевском темляке, рядом со своим душеприказчиком и батькой названным, дороже кровного и родного.
– Теперь уже не расстанутся вовек, – неведомо для кого проговорил старый урядник, по щекам которого, градом, лились крупные слёзы.
Правда, зная о наступавших временах, не стали формировать даже могильный холм, а всё вокруг замели ветками, лишь отметив на карте место захоронения, хотя и знали, что вернуться сюда, скорее всего, никому не придётся.
А для верности – ещё и провели по самой могиле, в поводу, несколько раз коня Лапшова, который жалобно ржал, пританцовывая ногами, и не хотел уходить от того места, где он явственно ощущал родной запах своего хозяина.
Так и стаяли эти две достойнейшие судьбы. Может, зачтёт им Господь жизнь праведную и честную на этой земле и введёт под сень своих чертог?
Они, как и многие в то время, это заслужили. И ошибались, и заблуждались, но никогда не ожесточались сердцем – к живущим. А за прегрешения свои и платили дороже всех – своей жизнью, которую всегда ставили ниже чести.
Вот честь для них была превыше всего и они никогда не могли пойти на сделку с совестью.
Не смели унизить себя бесчестным поступком.
Таким всегда живётся тяжелее других, они ни на кого не перекладывают свою ношу и ни от кого не ждут милости. Они привыкли больше отдавать людям, нежели брать от них.
И неустанно думаю я – и о третьем герое этой истории, вернее – героине. Почему так случилось?
Ведь любила она Лапшова, любила, и в первую минуту своей неверности ему, когда грубая чувственность взяла верх и она, изнывая от тоски, уступила ухаживаниям князя, она глубоко ненавидела себя, замкнулась, отдалилась от людей.
Казалось, навсегда, потухла её улыбка, ушла из сердца её нежность и участие к людям. Она и в церковь сходила, но на исповедь, правда, так и не решилась. Не посмела.
И, когда льстивый и приторно-сладкий Туманишвили, осыпал её, в буквальном смысле, цветами, картинно вынул наган из кабуры и приставил его к виску, сказал, что если она не пощадит его, не откликнется на его чувство, он – тут же, у её ног, застрелится, она дрогнула и в смятении отступила.
Какой-то червь точил её душу и она, в какой-то миг, подумала: «Ладно, уступлю, лишь раз, а там – забудется. Да и живая я, сколько уже не вижу его? Полгода минуло…».
Проницательный Туманишвили понял её состояние и сделал всё, чтобы она, ни на один миг, не оставалась без его внимания.
И крепость пала. Но, ежели бы кто-нибудь сказал ей, что она предаёт память о Лапшове, отступается от своей любви, пятнает её изменой – она бы ни за что и никому не поверила. Она любила только его. И хотела знать только его.
Но дьявол-искуситель оказался сильнее и изворотливее её и в один миг погубил её душу и святую любовь того, кто и был для неё смыслом всей жизни.
А может быть – и немилосердное время наложило свою печать на эту любовь?
Когда рушились царства, закатывались раньше срока судьбы многих народов, до чистой ли души любимых и любящих…
***
Те, последние, которых мы
помним, были когда-то первыми.
И. Владиславлев
ПОСЛЕДНИЙ ЮНКЕР
Я часто, вечерами, прогуливался по набережной Ялты. Благо, времени было – девать некуда, младшая сестра, с мужем, подарила королевский отдых, которого я и в жизни не упомню.
Целых двадцать один день безмятежной жизни, в прекрасных условиях. Днём я, как правило, пропадал на море, уютно расположившись под тентом – годы, годы уже не те, чтобы, как молодые, жариться на солнце, и дописывал свою рукопись очередной книги, которую надо было сдавать в издательство. А вечером – шёл на набережную, там неспешно ужинал в приморском ресторанчике, с интересом разглядывая толпы и нарядных, и босяковатых отдыхающих.
Сам никогда бы не вышел в людное место в таких шортах, да в майке застиранной и обвисшей, да во вьетнамках – на босу ногу.
Но им было комфортно и глубоко безразлично к тому, что о них думает этот седой, в светлом костюме, мужчина.
Если что и привлекало во мне, да и то, только тех, кто постарше и только знающих, так это Золотая Звезда на левой стороне моего пиджака. Но она терялась в вечерних сумерках и, мне думается, ни одной живой душе я был не интересен на этом празднике жизни. И очень этому радовался, да и сам не стремился к какому-либо знакомству.
Мне не было скучно, напротив, я отдыхал от напряжения дня и запивая знаменитую крымскую барабольку рубиновым красным портвейном Ливадия (сказывают, сам государь, последний, полюблял это вино), и всё думал о финальных сценах своего очередного романа. Как я называл его условно – любовно-белогвардейского.
Но, в последнее время, невдалеке от этого ресторанчика, появился какой-то шумный раздражитель. Весь день – там что-то сверлили и пилили, и в один из вечеров – я подошёл к этому месту, досадуя на то, что моё спокойное времяпрепровождение в этом райском уголке чем-то порушилось.
На самом берегу возводилась часовня. Уже успели выгнать стены цыганковатые, как и у нас в России, молдаване, даже прикрепили чёрную, в золотых буквах плиту, на которой значилось, что сия часовня воздвигается в честь невинно убиенных – тысяч офицеров и юнкеров Добровольческой армии, а так же – священнослужителей, павших от рук красных.
Меня это заинтересовало, так как подлинную историю последних боёв в Крыму я знал хорошо и действительно, был такой печальный и трагический факт, когда тысячи мальчишек-юнкеров были пощажены новой властью и под честное слово командующего Югфронтом – Михаила Васильевича Фрунзе, отпущены по домам.
Да не все туда добрались, не все, далеко не все сумели оставить Крым и вернуться к родным местам.
Но не Фрунзе тому виной и не советская власть. Это, уж, если доподлинно честно.
Была сила, уже в ту пору, над которой не властен был и Фрунзе.
Ударные отряды Троцкого, бывшие дети закройщиков и цирюльников, закованные в кожу, с тяжёлыми маузерами на боку, словно в отместку России, мстя ей за свои былые унижения, вершили свой неправедный суд и расправу над боевыми офицерами, мальчишками-юнкерами, которые дали честное слово красной власти, что никогда не выступят против неё более.
Но венгерский еврей Бела Кун, не имевший даже русского гражданства, что в ту пору было не дивом: не имел его и Артузов, работающий в руководстве ВЧК; Радек – на самом верху новой власти, множество других, прибывших в Россию искать славы и богатств – поддержанный старой большевичкой, председателем Крымревкома Розой Моисеевной Землячкой, которую старые партийцы знали под её родной фамилией Залкинд, тысячами загоняли этих мальчишек в концентрационные лагеря, а затем – без суда и следствия – расстреливали во всех поросших акацией крымских балках.
Не справлялись расстрельные команды, тогда их, мальчишек этих, многих ещё с алыми погонами, обшитыми золотым галуном, ставили в строй и выкашивали из пулемётов.
Никто не может сказать достоверно, сколько их осталось, навечно, в крымской земле, а то и просто утопленных в море, с камнями на ногах или на шее, привязанными толстой веревкой. А если её не находилось, то и колючей проволокой, которой у них всех были скручены и руки за спиной.
Это правда, как правда и то, что во времена исхода белых войск из Крыма – тысячи и тысячи красноармейцев, да и мирных жителей, приняли такую же мученическую смерть за то, что они просто были русскими людьми и не разделяли правды Деникина, не хотели быть скотами, рабами, а стремились к жизни свободной, хотя бы для своих детей.
Беседовать со строителями было делом зряшным, но я приходил и приходил к этой строящейся часовне, словно исполнял какую-то повинность, духовную обязанность и стремился понять, что же двигало русскими людьми в ту пору, отчего такой жестокостью была наполнена каждая минута, прожитая в те лета.
Как бы то ни было, но прав всегда народ. И народ не пошёл за старой властью. Ему было невмочь вновь холопствовать перед деникиными в ту пору, когда новая власть заявляла о жизни неведомой и такой красивой.
Народ отшатнулся от белых вождей. И именно народ, а не новая власть, и даже не красная армия, предрешил конец того мира.
«Какая же это власть, коль выстояла, – думал я, – победила, повела за собой народ, если офицеров у Колчака, Деникина, Юденича, Покровского, Май-Маевского было во много раз больше, нежели тех самых большевиков, о которых в семнадцатом году, по сути, никто и не слышал и не знал – в чём же их сила и суть».
И в один из вечеров, когда я стоял у этой часовни и не мог справиться со своими мыслями, ко мне подошёл статный, опирающийся на изящную трость, но старый уже совершенно человек.
Это было видно по пергаменту кожи на его лице, да по рукам, состоящим из одних бугристых сухих морщин.
– Что, интересуетесь? – обратился он ко мне первым, лишь на мгновение, задержав взгляд на моей Золотой Звезде.
– И, конечно же, осуждаете – и власти, и этих, – он указал рукой на копошащихся на стройке молдаван, – за благое деяние…
– Ну, зачем же Вы так, не зная меня, а сразу – осуждаете…
И я – уже с сердцем, несдержанно:
– Разве может быть оправдано беспричинное зверство и уничтожение своего народа? Только вот не надо правды лишь одной стороны. Кровь, реками, лилась с обеих сторон, а здесь, в этой часовне, изначально заложено осуждение лишь красных. Это не так, это неправда.
Старец, с улыбкой, смотрел на меня и в его потухших уже глазах, загорелся даже какой-то огонёк интереса и жизни.
Я продолжил:
– А Вы – знаете, что Ваш душка-Деникин, творил на Дону, на Кубани?
– Не надо, молодой человек, я знаю… Я – участник тех событий и всё, к несчастью, знаю.
Тут уже пришла пора удивляться мне.
– Да, да, Вы не удивляйтесь. Правда, не знаю, как Вам и представиться?
– В ту пору – юнкер Турчинский, комбригом уже – меня знавал Александр Васильевич Горбатов и Константин Константинович Рокоссовский. В одной камере сидели. Да и освобождены были вместе, в сороковом году.
– А войну закончил командующим славной 28 армии, генерал-лейтенантом.
– А Вы, простите, – повернулся он ко мне, – в каком чине?
Моя настороженность прошла и я, уже открыто улыбаясь, тепло и сердечно ему ответил:
– Мы с Вами в равных чинах, и… командую я, как раз, 28 общевойсковой армией Белорусского военного округа, уважаемый Владислав Иванович.
Он, при этих моих словах, даже вздрогнул и спросил меня:
– А откуда, молодой человек, Вы меня знаете? Не имел чести…
– Плохим я был бы командующим, если бы не знал своих предшественников, тем более – дорогих моему сердцу фронтовиков…
– Благодарю Вас, – как-то красиво и чопорно ответил он в ответ и тут же обратился ко мне, указав рукой на Звезду Героя:
– А это – за что?
– Афганистан.
– Я так и понял, так как для фронтовика Вы слишком молоды.
– Да, – после некоторой паузы сказал он мне, – не беседовали бы мы с Вами, если бы – не Михаил Васильевич, лично.
Его лицо озарилось светлой улыбкой, и он продолжил:
– Фрунзе как раз проезжал куда-то со своим штабом, а нас, мальчишек, вели на расстрел.
Посмотрел мне пристально в глаза и чётко, как и подобает военному человеку, отчеканил:
– Скажу я Вам – прекраснейший человек. Правда, о том, что это Фрунзе, я узнал немного спустя. Он остановился у нашей колонны, вышел из машины, спросил у начальника караула – куда и зачем эту группу молодых офицеров и юнкеров ведут под конвоем?
– Тот беспечно, и как-то развязно, ответил: «Так известно куда, товарищ хороший. Бела Кун приказал, только что, всех отправить по одному адресу – «в штаб Духонина».
Воспоминания преобразили его лицо, оно стало одухотворённым, оживились его глаза, речь стала более быстрой и напористой:
– Фрунзе прямо пополотнел. Он подошёл к нашему строю, а вернее – толпе, какой там строй, и громко, чтобы слышали все, спросил:
– Оружие сложили добровольно? Слово не сражаться с советской властью – давали?
Мы – дружно, в ответ:
– Да! В соответствии с Вашим приказом.
Справляясь с волнением, словно эти события происходили сейчас, он на минуту замолчал, а затем тихо заговорил вновь:
– Кто-то даже листовку из кармана достал, их много раз из аэропланов сбрасывали красные над нашими войсками.
После этих слов он замолчал уже надолго, тяжело отдышался, видно, что ему непросто даются эти воспоминания, а затем – продолжил:
– Да и командиры наши – отцами были нам, мальчишкам. Это ведь они нам объявили своё решение – сложить оружие и под честное слово командующего фронтом красных, сдаться.
Как-то горько и обречённо дополнил:
– Жалели молодёжь. Самим уже терять было нечего. Знали, что не простят. Крови было много между ними и новой властью. А нас – как могли, спасали.
И уже, как единомышленнику, поведал то, чем гордился и что обогревало его сердце:
– Фрунзе высадил из машины всех чинов своего штаба и приставил к нашему отряду. Велел проводить на специальном поезде до Джанкоя и тут же, собственноручно, написал приказ, объявив его и нам, что почтёт за врага советской власти любого, кто, добровольно сдавшихся юнкеров и офицеров будет преследовать и подвергать каким-либо притеснениям и репрессиям.
Мой собеседник молодо улыбнулся и, молодым же голосом, продолжил:
– Вот такая, если кратко, история, молодой человек. Простите, коллега.
Он хорошо улыбнулся, для чего-то постучал тростью о камень, вздохнул:
– Так я и остался жив. И смог послужить России. Уже в январе двадцать первого года был зачислен в Красную Армию, где и прослужил всю жизнь, за исключением четырёх лет, до конца сорокового года.
Горькая улыбка сделала его лицо отчуждённым и далёким:
– А там – поверили. И так, с ромбами комбрига, принял дивизию и воевал до сорок второго года. После того, как погнали мы фашиста из под Москвы, генерал-майора был удостоен. Командиром корпуса стал.
Посмотрел на море и спокойно, как о неотвратимом, неизбежном для каждого, заметил:
– Знаете, мне жить – уже мало осталось, поэтому лукавить нет смысла, да и не приучен, вроде, был к лукавству и неискренности.
Пригласил меня пройтись по набережной и продолжил свои воззрения:
– Так вот я Вам и скажу, уважаемый коллега – на этой плите, что на чаше часовни, я думаю – одна лишняя строка, одна неправда – это о немыслимом числе жертв среди церковных служителей.
Мы медленно шли среди праздного люда и я, с упоением, слушал его рассказ:
– Во-первых, такого количества их, как здесь указано, не было, да и не могло быть с уходящими войсками, нет, не было, это точно. Но даже не это главное. Главное в том, что ни один из них, ни один – поверьте очевидцу, не призывал к замирению русских людей, оказавшихся на двух берегах реки жизни. Сколько и помню, всё призывали сокрушать безбожную власть, а наиболее циничные – даже сокрушались об убиении большевиками государя-императора.
Как-то сдержанно хмыкнув в свои белые аккуратные усы, дополнил:
– Но я-то помню, как уже в мартовские и, особенно апрельские дни семнадцатого года, она же, церковь, призывала нас всех «освободившись от оков тирании и сатрапии», служить верой и правдой Временному правительству.
– Да, Владислав Иванович, я это знаю, – вставил я свою реплику.
– А, затем – вместо того, чтобы встать посреди разделившегося русского люда и призвать его к миру, а не братоубийству, во всех храмах провозглашали «многая лета» Деникину, Май-Маевскому, за ними – Врангелю, которые должны сокрушать «красного дьявола».
И уже страстно, убеждённо, как давно выстраданную правду, подытожил:
– Только вражду и ненависть сеяли святые отцы. Ни один из них не взошёл на Голгофу за то, что призывал к миру народ русский и к взаимопониманию, взаимному прощению.
Я зачарованно слушал своего собеседника. Признаться, такую точку зрения на роль и практическую деятельность церкви я слышал впервые, хотя знал, полагаю, неплохо и сам историю церкви и её роль в жизни российского государства, особенно, в эти непростые годы.
Так, мало кому известно, а русской православной церкви и не хочется афишировать эту скорбную и очень постыдную страницу из своей истории, что на временно оккупированных территориях Советского Союза, немцы открыли православных храмов в три с половиной раза больше, нежели за всё предшествующее время.
Здесь действовало «митрополитбюро», как его называли обиходно, где шесть отступников-митрополитов, оказавшись на временно оккупированной территории, перешли на службу фашистам и открыто призывали народ бороться с советской властью.
А уж деяния митрополита русской православной церкви за рубежом Антония Храповицкого – вышли за все пределы понятий о вере и верности Отечеству.
Пастырь, высший иерарх церкви, называл Гитлера «карающим мечом в борьбе с богопротивной властью» и призывал его, как и папа Римский, к крестовому походу против большевиков…
Мы ещё несколько раз встречались с этим интересным человеком.
Переговорено было обо всём, не оставили мы в стороне и события сегодняшнего дня, раздирающие, по живому, единое государство и разобщающие единоверный народ на враждующие лагеря.
А затем – он перестал приходить на ставшие уже традиционными наши вечерние встречи.
Я обратился в военкомат, чтобы узнать, где он живёт и поведать старого солдата.
И дежурный майор, несмотря на то, что был в мундире украинской армии, вытянулся предо мною, отдал честь и ответил на мой вопрос:
– Товарищ генерал-лейтенант, не стало нашего старейшего ветерана. Вчера его хоронили на Аллее Героев.
Утром, купив букет багровых крымских роз, я был на этом священном месте.
Простой крест украшал могилу, было много цветов, много венков. Положил и я свой траурный букет на могильный холмик.
Больше всего меня поразила надпись на ленте одного из нарядных венков – «Верному солдату Отечества».
Какая правда и какая сила в этих, всего в трёх словах.
Он действительно истово и честно служил Великой, Единой и Неделимой России, Отечеству нашему, которое мы сегодня потеряли.
Понятие Отечества не всегда, а если уж прямо – никогда, ни при каких обстоятельствах, не совпадает с понятием государства.
Отечество всегда значительно выше, нежели государство. По смыслу выше, по содержанию. Отечеству могли служить все совестливые русские люди, если они были даже разобщены верой и знаменем, под которым им довелось жить и умирать за благословенную Отчизну.
Думаю, что Отечеству, именно нашему Великому Отечеству, Великой, Единой и Неделимой России, служил всегда и мой старший товарищ.
Земля Вам пухом, старый солдат, последний юнкер Великой России.
***
Правды и чести
приумножилось бы на Земле,
если бы мы знали,
какая участь нас ждёт
в жизни вечной.
И. Владиславлев
СТАРАЯ ПОДКОВА
Прогуливаясь вдоль моря, по любимой дорожке, в один из солнечных дней, я увидел что-то необычное в напластованиях минувших лет.
И, когда ножом поддел находку, выдрав, с силой, её из плена песка и травы, забвения прошедших лет, увидел старую, стёртую подкову.
Что же ты можешь мне рассказать, старинный кусок железа? Как ты здесь оказался и в какие минувшие лихие времена?
Как ни странно, но, неожиданно – очень многое.
Вот, правая сторона подковы стёрта больше, нежели левая, значит, была болезнь сустава у лошади, или от старых ран подволакивал ногу, на внешнюю сторону норовил наступать больше.
Подкова лёгкая, летняя. Такими – ковали лошадей лишь на задние ноги.
Нужды иной не было. Не Север ведь, а Крым. И, видать, было дело летом или ранней осенью. А извлечённый, следом за подковой, обломок солдатской шашки, подсказал, что здесь, в этом месте, разыгралась, одна из многих в то время, трагедий…
Но связать, воедино, все уголки этой старой истории, все нити, я так и не смог в тот день.
***
А поздно ночью, через несколько дней после этой находки, разыгралась страшная гроза. Диво для Крыма – в августе. Гром сотрясал всё окрест. Страшный ливень хлестал по окнам, а деревья в Александровском парке – стонали под напорами ветра. И я, выпив почти целый бокал коньяку, впал в какую-то прострацию, сидел в кресле недвижимо и не просто видел, грезил историей, томившей мне душу, а чувствовал себя участником тех давних событий, одним из главных действующих лиц, разворачивающейся трагедии в театре жизни тех грозовых лет…
Эту подкову я забрал с собой, принёс в гостиницу, отмыл и, положив на лист бумаги, так и оставил на столе. Шли дни и я уже почти перестал её замечать, эту старую, стёртую подкову…
И вот, в эту грозовую ночь, мне, которому никогда не снились сны, не приходили видения, грезилось отчётливо и ясно…
***
Начало ноября двадцатого года. Крым агонизировал. Его судьба была предрешена.
Красные обложили полуостров по суше надёжно, крепко и развязка неумолимо подступала, как неотвратное наваждение, к каждому.
И мы знаем, что 10–11 ноября были освобождены от белых Феодосия и Керчь.
Но ещё раньше – свершилось великое предательство белого движения – и Вождь, Верховный правитель Юга России, генерал-лейтенант русской службы Антон Иванович Деникин, за семь месяцев до окончания сопротивления в Крыму, тайком, воровски, оставил свои войска, без надежды на спасение и позорно бежал, на английском эсминце, в Константинополь.
Ситуация предательства, вернее – традиция предательства, была в крови у генерала Деникина.
Он предал Государя, а ведь присягал ему на верность, получал от него чины и иные отличия, а как только почувствовал, что новые, более могущественные хозяева, даруют ему то, о чём он и мечтать не мог всю свою службу – так сразу и отступился от Помазанника Божьего.
Разве ему, не блиставшему умом и даром военачальника, могло пригрезиться в старое время, что он станет Главнокомандующим войсками фронта, а предательство Государя – будет вознаграждено и новой, запредельной для любого, даже самого даровитого военачальника, должностью – начальника штаба Ставки Верховного Главнокомандующего.
Но нигде он так и не смог проявить своих дарований по той простой причине, что они у него отсутствовали напрочь. Он обладал крайне слабой волей, больше полагаясь на предприимчивую и очень уж практичную молодую жену. Ему уже было пятьдесят лет, когда он, впервые, вступил в брак и он души не чаял в двадцатишестилетней красавице-супруге.
Когда он стал командиром бригады, не зря офицеры, его подчинённые, мрачно шутили, что дела бригады сразу бы пошли вверх, ежели бы вместо Антона Ивановича – командование было вверено его жене.
И – слава Богу, что в это страшное время, когда Деникин был озабочен только собой и своей семьёй, а ещё тем, чтоб было на что жить, и хорошо жить – за рубежом, куда он уже принял твёрдое решение бежать, оставив войска и примкнувших к ним обывателей – нашёлся совестливый человек, генерал-лейтенант Врангель Пётр Николаевич, который изменить ситуацию на Юге страны уже был не властен, но спас людей, спас армию – и эвакуировал весь этот табор, плохо управляемый, подверженный панике и потерянный, из Крыма.
Поклон ему земной и сердечное спасибо за каждую спасённую русскую душу.
Но все эти ремарки, так скажем, пригрезились мне, прорываясь через главное, через историю со старинной подковой.
Самое главное, что в моих грёзах-снах в этот вечер, я сам и был главным действующим лицом этих видений. А, может быть, это взывала ко мне кровь моих дедов-прадедов, которые в это суровое и страшное время были, с шашкой в руке, на обеих сторонах среди тех, кто доискивался своей правды и воли…
***
– Хорунжий Тымченко! – раздался зычный голос полкового командира, молодого красавца полковника Суконцева.
– Слушаю, Ваше Высокоблагородие.
Суконцев поморщился. Не любил он этого обращения. И сам, всегда, обращался к подчинённым по имени-отчеству и любил, если так величали и его.
И даже рядовые казаки, прошедшие с ним все испытания Великой войны и этой, самой страшной и кровавой, обязательно, после привычного «Ваше Высокоблагородие», всегда добавляли, душевное – «Аркадий Степанович».
Но, Тымченко, кубанец, с Темрюка, выслужившийся в офицерский чин в шестнадцатом году, по-иному не мог величать своего полкового командира.
Полковник Суконцев был для него царь, бог и воинский начальник, хотя и был-то старше за Тымченко – всего на четыре года.
И Суконцев смирился. Любил он этого лихого казака, бесстрашного в бою и очень стеснительного, как большой ребёнок, в повседневной жизни, среди товарищей.
На его алой черкеске, знаком высшей доблести, благородно отсвечивали четыре Георгиевских креста, и четыре же – медали под ними, а рука – горделиво опиралась, при этом, на Георгиевскую шашку с муаровым темляком.








