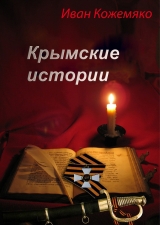
Текст книги "Крымские истории"
Автор книги: Иван Кожемяко
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
Старая служанка, прожившая с тётушкой всю жизнь, никого не спрашивая, сама, принесла из гостиной старинную икону, которой тётушка и благословила союз Владислава и Ксении:
– Этой иконой и меня мать благословляла, а её – моя бабушка. Она всегда приносила счастье и удачу роду Вяземских. Пусть она хранит и Ваш союз всю жизнь, милые дети.
И поутру она заспешила к священнику, чтобы договориться об обряде обручения, а там – и о венчании, так как Владислав скоро должен убывать в полк. На Западную границу, куда-то под Вильно.
Старинный знакомый и давний приятель тётушки – отец Евгений обрадовался за неё, как за родную, и заявил, что в Великдень, то есть через три дня, и обручит молодых.
Тётушка отведала домашней наливки с матушкой, пообедала, да и тронулась в обратный путь с радостной вестью.
Но как-то заболело её сердце, когда её неспешный тарантас, на полном скаку, обошёл казак с пикой у стремени, на которой трепыхался красный флажок.
Его конь, от ушей до репицы хвоста, был в мыле, хлопья которого сползали волнами даже по сапогам казака и падали на землю быстро тающими снежными холмами.
Конь тяжело дышал и с последних сил выстилался над запёкшейся от жары улицей.
«Спалặх!», «Спалặх!» – непрестанно кричал казак, завидев любого встречного.
И уже через минуту его измученный конь скрылся за перелеском, откуда ещё долго доносился перестук копыт и надрывный крик казака.
– Барыня, барыня, – обратился к тётушке старый возница, с которым она не разлучалась всю жизнь, – (когда и успел, всегда думала она, с молодого красавца-парня состариться и согнуться – она так и не заметила), – война, голубушка.
– Как война? Как можно – война, скажешь тоже. Какая война?
И, когда сознание её провернуло эту мысль, она сразу, постарев на целую жизнь, сгорбилась, подбородок её затрясся и из глаз потекли обильные слёзы:
– Господи, – запричитала тётушка, – а как же они? Господи, сохрани моих детей.
Но кому нужны были в эту пору страшной сумятицы эти две, пусть даже самые чистые и искренние, святые души?
***
С дальних сёл на станцию стали прибывать толпы молодых мужиков, призванных защищать «Веру, царя и Отечество», на рысях подходили казачьи сотни, которые похвалялись перед мужиками своей удалью и уменьем.
– Да мы, – скалился усатый, с богатым чубом из-под фуражки молодой урядник, – пока этих лопатников довезут до фронта – уже с германцем разделаемся.
– Шутишь, – подпевал ему зелёный совсем, видно, что в строю ещё не был, первогодок, – весь Дон поднялся. Не дадим ворогу на поругание родную землю.
И тут же – лихо свесился с седла на левую сторону и чуть не обняв молодую девицу за плечи, прокричал ей прямо в ухо:
– Не печалуйся, красавица, вот разобьём германца и я к тебе свататься приеду. Будешь ждать?
Девушка зарделась румянцем и не по годам серьёзно и строго сказала:
– Храни вас Господь, солдатики. Возвертайтесь живыми, а мы вас будем ждать, – и перекрестила балагуров, троекратно, крестным знаменем.
Молчал только старый и опытный вахмистр, на груди гимнастёрки которого отблёскивал потемневший Георгиевский крест и две медали – этот знал цену войне и крови и с жалостью смотрел на молодых и беззаботных, ещё не накупавшихся в крови, казаков и думал про себя:
«Эх ты, куга зелёная, вот как вывернет тебя наизнанку от пролитой крови и первой загубленной жизни, когда не можешь ни есть, ни спать, да и сам белый свет не мил станет в эти минуты – тогда поймёшь всю цену жизни. И эти минуточки вспомнишь, и к мамке запросишься, да кто ж тебя к ней-то отпустит? Когда сам кровавыми слезами изойдёшь, да спать не сможешь – вот тогда поймёшь, что война – глубоко противна человечьей природе. А то, вишь, землю ещё не пахали, с девками не нацеловались – а уже кровь лить собираются. Да, вражья она, но тоже ведь люди и матери, как и наши, изойдутся слезами, ежели полягут костьми на земле нашей».
Так он и ехал, один, сам по себе в толпе молодых и говорливых казаков, многим из которых, это он знал точно, не вернуться домой и не увидеть пенных волн Тихого Дона.
То тут, то там – лихо наяривала гармошка и ноги, в лаптях, тяжёлых сыромятных опорках и щегольских казачьих хромовых сапогах, выбивали на станционной площади «Барыню».
Владислав Измайлов сразу же заявил тётушке и Ксении, что убывает в полк.
– Прошу тебя, родная, прими это, как знак нашей любви и нашей верности, – и он протянул Ксении бархатную коробочку с кольцом необычайной красоты, покрытом россыпью бриллиантов в виде ветви лавра.
Ксения протянула правую руку и кольцо, словно оно всегда было там, украсило её безымянный палец.
***
А в ночь, никого не таясь, она по своей воле пришла к нему.
Оставим их наедине в эту единственную их ночь, которую им подарила жизнь. Словно сам Господь хранил их союз и тайну и поручался за их любовь – великую и светлую.
***
Утром Владислав уезжал на фронт.
И юная женщина провожала своего мужа пред Господом, со спокойной душой. Она верила и знала, что Господь защитит его и сбережёт его жизнь.
О себе она не беспокоилась. У тётушки ей было уютно и спокойно, а о надвигающихся грозах на Россию ей было неведомо и о них – не только она, но и все живущие в России, даже не догадывались.
***
И Господь услышал её молитвы. Измайлов воевал успешно, был отмечен множеством наград и милостей, а к пятнадцатому году принял батальон, который, затем, прославился в знаменитом Брусиловском прорыве и молодому командиру сам Государь вручил Георгиевское оружие – самую желанную, особо чтимую и почётную награду.
В майские дни пятнадцатого года пришла к нему долгожданная весть – у него родилась дочь. И в письмах, а они приходили почти ежедневно, Ксения описывала ему каждый день дочери, обводила её ножки и ручки, которые он целовал десятки раз.
И пожившие уже офицеры, с завистью смотрели на молодого капитана, а вскоре – поспел за его геройство и очередной чин – подполковника и молились за его счастье.
Но фронт к марту семнадцатого года, стал неумолимо рушиться.
Измена и предательство везде взяли верх, «… и я помню, – говорила бабушка, – хотя и была девчушкой, как нас всех оглушило известие об отречении Государя от престола и установление в стране хаоса и полного безвластия».
– Все, все предали Государя, сыночек. И генералы отреклись, и церковь, я помню, грамотная была, с манифестом обратилась, ко всем православным о службе Временному правительству.
И даже родство и то оттолкнуло его от себя, красные банты на мундиры нацепило.
Бабушка горестно вздохнула, словно вновь переживая те далёкие события и продолжила:
– В ту пору тётушка Ксении и предприняла попытку найти более тихий, по её представлению, уголок. Собрали свои пожитки и тронулись в путь, к Ростову, там проживала дальняя родня княгини Вяземской – тётушка её матери, древняя уже, совсем старушка, с двумя дочерьми.
Было видно, как тяжело ей даются эти воспоминания, даже губы побелели:
– Не знаю доподлинно, что случилось в этой дороге. Но сказывали, налетела на их колонну какая-то банда дезертиров.
Тётушку убили сразу за то, что не отдавала шкатулку с семейными ценностями, тяжело ранили Ксению.
А девочка, второгодок, сгинула. Словно сквозь землю провалилась.
Бабушка вытерла морщинистые щёки, все в слезах, своим фартуком и повела свой рассказ дальше:
– Ксению подобрали добрые люди. Выходили. Почти полгода она была в забытьи. А как только пришла в себя – сразу же стала искать дочь. Обошла все сёла, все станции, но никто ничего утешительного ей не сообщил.
– Не знаю уже, – сокрушённо, со слезами сказала бабушка, – каким путём она известила Измайлова о своём горе, о пропаже девочки, но вскоре получила от него ответ – очень страшный и неправедный.
Бабушка стала перебирать руками свой полушалок и печально повела своё повествование дальше:
– Он во всём произошедшем, обвинил Ксению и заявил, что более не желает знать её и полностью освобождает от данных ему обязательств.
Горе молодой женщины можно понять. И она, только чуть собравшись с силами, ушла в монастырь. Вот с той поры, я её, голубку и знаю уже хорошо.
Измайлов шёл на поправку. И всё чаще заводил речь с Ксенией о восстановлении их отношений. Просил, искренне умолял, чтобы она простила его за те поспешные и неправедные слова обвинений.
Да, видать, душа её окаменела, выжгло всё в ней его неправедное осуждение и она не могла ему простить той страшной обиды.
Так и заявила, что отныне она – не его, а Божья служка, на всю свою жизнь.
– Вас же, князь, считаю во всех своих заявлениях и… обязательствах предо мной – свободным, – и вернула ему то памятное кольцо, которое он вручил ей накануне войны.
– Не знаю, что потом с ним сталось. Говорят, всё смерти искал, да она его миловала и всю гражданскую войну он провоевал у Деникина. Вышел в большие чины. Но никогда на его лице никто не видел более улыбки, а в сердце – жалости. Стал весь седой, много греха и крови было на нём. И он не искал у Господа прощения, а всё более ожесточался.
– И когда белое движение изошло из Крыма – его следы потерялись. Никто больше, никогда, о нём не слышал ни слова.
И бабушка при этом истово перекрестилась:
– Храни, Господи, душу его, освободи от прегрешений вольных и невольных.
Тяжело задумалась, что-то про себя долго шептала и осеняла, ежесекундно, лоб свой крестным знаменем. А затем договорила:
– Видишь, внучек, как она жизнь-то поворачивает, что с людьми делает. Им бы жить в любви и согласии, а вместо этого – такая страшная беда. Неизлечимая рана.
Ксения же – умница. Как умерла матушка-настоятельница монастыря, сам архиепископ рукоположил её в сан, да и назначил вести монастырь дальше, по дороге угодной Господу.
Как-то обошлось, не знаю даже почему, но монастырь не тронули ни советы, ни даже фашисты в годы оккупации, хотя матушка Ксения не одну православную, а в особенности – иудейскую душу спасла.
Видать, не завелось у нас иуды и мы так и жили своей дружной семьей. Трудно, нищенствовали, но никто обители не бросил.
И в этом был духовный подвиг Ксении. Умела она добрым словом вселить в души монахинь и послушниц такую веру, что всех испытаний была твёрже и помогала их перенести.
А уж красоты, скажу тебе, была – небесной. Мне кажется, что и монастырь уцелел потому, что при взгляде на неё – немел любой, кто хоть раз встретился с её глазами.
Так мы и дожили до освобождения в сорок четвёртом году. Бои за Севастополь были страшными, а Ялта-то – на подступах. Поэтому насмотрелись мы всего.
Во время бомбёжки был разрушен Храм в обители, потом долго мы его восстанавливали, много при этом люду побило, а Ксения – там ведь была и с проповедью к людям обращалась как раз, а на ней – ни единой царапины.
Знать, хранил её Господь для своей службы и отводил от неё всю беду.
Бабушка замолчала.
По привычке отёрла чистым передничком рот и радостно блеснув глазами, продолжила:
– Но дожила, голубка наша и до своего светлого праздника.
В чести и великом признании людей, дожила. В их любви к ней высокой.
И она истово перекрестилась.
– Не помню, в какой день, старая уже стала, забываю многое, но как-то сразу после освобождения Крыма от фашистов, в Храм зашли двое военных – красавец-танкист, на гимнастёрке его Золотая Звезда сияла и множество иных наград, а с ним – молодая, лет двадцати девяти – женщина.
Тоже офицер. Врач, значит, так как я помню, что погоны её были в зелёном канте, а на них – четыре звёздочки, не знаю я, что за чин.
Учтивые. Он, танкист, снял свой шлём, не таясь – перекрестился в Храме, а она так и осталась в зелёном беретике.
Купили свечи и стали ставить их, сначала – за упокой, я думаю, товарищев своих поминали, а потом – у иконы Божией матери. Много что-то их поставили. И молча застыли пред иконами.
Бабушка глубоко вздохнула и надолго замолчала, а затем, справившись с собой, повела рассказ, который захватил и меня дальше:
– И в это время из притвора вышла настоятельница монастыря, наша матушка Ксения.
Вышла и обмерла, голубка. Смотрит на молодую женщину-врача, а из глаз, градом, катятся слёзы и никак она не может их унять.
Даже танкист от изумления опешил. Перед ним стояли, совершенно похожие друг на друга две женщины необычайной природной красоты, только одна из них была постарше, вот и всё различие.
– Доченька, кровиночка моя, – простонала наконец Ксения и чуть не лишилась чувств, не подхвати её герой-танкист вовремя.
И, едва чуть оклемалась, проговорила тихим голосом:
– Я же всю жизнь, ежедневно, молила Господа за твоё спасение. Видать, услышал он мои молитвы.
И она горячо прижала к своему сердцу родную дочь, неведомо по каким законам наречённую чужими людьми, что подобрали её тогда, в семнадцатом году, в лесу, замерзающую и голодную, раненую в правую ручку – тоже Ксенией.
А дочь почувствовала в настоятельнице монастыря свою мать сразу. Прикипела к ней, не оторвать.
И так они долго стояли посреди Храма, осыпая друг друга поцелуями.
А потом, за скромной трапезой, мать рассказала дочери и её суженому всю их общую историю.
И вдруг вскинулась:
– Ксения, доченька, мало надежды, но я сама тебе надела крестик на шею. Особый, на нём образ Божией матери запечатлён. Не помнишь?
– Мамочка, мамочка моя, – запричитала дочь, – а он и сейчас со мной, – и она расстегнула пуговки гимнастёрки и извлекла золотой крестик, о котором только что говорила её мать.
Счастливые, обнявшись, они втроём не скрывали своих слёз великого изумления, радости и восторга.
– А вскоре, – доносился до меня голос бабушки, – и война закончилась. Её молитва, Настоятельницы нашей и воля Господа сберегли жизнь и танкисту-Герою, и Ксении. Он стал командиром какой-то бригады, говорила матушка-игуменья, танковой.
И после войны они, с Ксенией-младшей и доченькой, была уже к этому времени, поселились в Ялте, где живут и до сей поры.
А она, голубка наша, уже восемь лет, как предстала пред Господом. Счастливой уходила, ибо её руки покоились в руках любимой дочери и зятя, а рядом были и её любимые внучка и внук.
– Завтра, как пойдёшь на кладбище, знаю, всегда там бываешь, своих товарищев не забываешь по Афганистану, молодец, так вот – у главных ворот – сверни направо и пройди метров семьдесят.
Ты её могилку сразу увидишь. Всем миром ставили памятник. И обсуждали всем миром. Положи и за меня цветочки. Я уже не дойду. Старой стала.
***
Утром я был на кладбище. Не доходя до могилы Ксении, я увидел – лебедь из белого мрамора взлетал в небеса, к Господу. Так стремилась к нему и душа Ксении.
И когда я возложил цветы за себя и за бабушку, почувствовал, как волны тепла и нежности проникли в самое моё сердце.
И мир вокруг стал радостнее и роднее. И хотелось жить праведно, нести людям только добро и свет.
Настоятель Храма, с которым я потом беседовал, нисколько не удивлялся моему чувству.
С уважением посматривая на мою Золотую Звезду, тихо произнёс:
– Не ты, сын мой, первым говоришь об этом. Многим помогает наша Ксения. Исцеляет многих. Души людей врачует. Примиряет непримиримых.
А ночью, в день её именин, над её могилой золотой свет исходит. И тот, кто его видит, не страшится потом никаких испытаний. Всё превозможет и всё перенесёт. И в сердце своё не впустит жестокости, пустого и зряшного слова.
А молодые, кто придёт к ней поклониться – живут счастливо и в полном ладу.
Перебирая чётки в своих руках, посмотрел мне прямо в глаза и продолжил:
– Светлая была душа. Божья. И я счастлив, что в моей обители, за которую ответствую пред Господом, она похоронена. Каждый день к ней наведываюсь.
И он размашисто, искренне и с большим чувством, осенил меня троекратным крестным знаменем:
– Царство ей небесное, а тебя же, сын мой – храни Господь во всех испытаниях.
***
Не тревожьте своё прошлое
и не перекладывайте груз
своих прежних ошибок на плечи тех,
кто не виновен в их происхождении.
Не для всех этот груз посилен.
Как правило, он ломает тех,
на кого обрушивается эта ноша.
И. Владиславлев
ПОД СЕНЬЮ СОБОРА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Здравствуйте, величественные стены!
Сколько же лет минуло с той поры, когда я под Вашими сводами был последний раз? И что это были за годы?
Мне кажется, что высшего чувства, которое Господь послал мне испытать, не пережил никто в мире живущий.
Это было наваждением, маревом, это было страшным грехом, так как не отболели ещё рубцы от страшных утрат, но оно так увлекло меня в свой круговорот, что я забыл даже о том, а живу ли я на этом свете или мне это грезится в той далёкой и вечной жизни…
***
Я внимательно изучал это, поразившее меня сразу, лицо. Сказать, что она была красавицей неотразимой – нельзя. Вроде, ничего такого особенного, из ряда вон выходящего.
Собранные в высокий хвост белые волосы (но белые – это я говорю по инерции, так говорят все. Они не были белыми, а чуть-чуть золотистыми, ясными, светящимися насквозь).
Нос с горбинкой.
Но больше всего кинулись в сознание три детали: выражение её глаз – в них стояла какая-то нечеловеческая грусть и усталость. Усталость страшная. Она говорила со мной, а глаза, существуя отдельно от её лица, отдыхали; во-вторых – кисти её рук. Необыкновенные, с длинными сухими пальцами, украшенные лишь одним-двумя, не помню уже, колечками; и совершеннейшая открытость. Настороженности не было и в помине. Она сама напросилась на разговор и пригласила меня к обеду.
Не отказалась от глотка коньяку, который я предложил, но никакого жеманства, чопорности, сигнала о том, что я не прочь к дорожному роману, ухаживай – она не подала.
Ехали и откровенничали люди, которые твёрдо знали, что они больше никогда не встретятся. И какое им, обоим, дело до того, что о них подумает противная сторона?
Поэтому не молчал и я. Коротко поведал о своей беде, допил, уже с желанием, весь коньяк и вышел в тамбур покурить.
Когда вернулся в вагон – она спала. Было видно, что ей холодно, так как её красивые и стройные ноги, были поджаты почти к подбородку, рук тоже не было видно. Они грелись между коленками, которые так соблазнительно были обтянуты брюками. Это я заметил сразу и неведомое мне ранее чувство тепла и восторга разлилось по сердцу.
Тихонько, чтобы не потревожить её, я достал с верхней полки одеяло и укрыл это прекрасное, сжавшееся в комок, тело.
Заметил при этом, что волосы на ночь она распустила и ей так шло это, всё лицо словно утонуло в золотом облаке.
Всю ночь я не спал. Счастье, что к нам никого больше не подсадили за весь путь и от самого Симферополя до Москвы – мы ехали только вдвоём.
Тихонько, стараясь не потревожить её сон, поднимался и несколько раз за ночь выходил курить в холодный тамбур.
Возвращаясь, видел, что она не просто отдыхает, а глубоко спит и только неясная полуулыбка мило шевелила уголки её губ. Красивых и сочных. Ещё не отцветших…
***
Вот и Москва. Неловко попрощавшись – зачем излишняя суета, я поцеловал ей руку и зашагал в метро. Говорить было просто не о чем, тем более, что её встречали сын и дочь…
***
Да, есть судьба. И в это я поверил в тот миг, когда через двадцать дней, терзаемый страшной болью и будучи неспособным с ней справиться, я снова ехал к сёстрам, в Симферополь, на недельку, как мне при этом думалось.
Зайдя в купе – я обомлел. На сиденье сидела та моя попутчица и лукаво улыбалась:
– А я давно Вас заметила. Когда Вы закурили, у входа в вагон. Сидела и думала – вот, если судьба, то он непременно сядет в это купе, в котором еду и я.
Видите, так и вышло.
И уже без всякого перехода, торопясь, нисколько не стесняясь:
– А я всё время думала о Вас. И просила даже Бога, чтобы он явил чудо и мы встретились с Вами в Москве.
– Признаться честно, и я Вас вспоминал. Даже чаще, чем того хотелось бы.
Она, при этих словах, даже заалела. А я, грешен, остановил свой взгляд на её красивом, упругом животе, который выглядывал из-под белоснежной блузки-разлетайки.
Она видела мой взгляд, но не сделала даже единого движения, чтобы его прикрыть…
Всю дорогу мы проговорили. В этот раз я был откровенным, рассказал всё о своей беде, о невосполнимой утрате и мне стало даже как-то легче.
Поведала и она мне свою историю: растит двух детей – сына и дочь, уже взрослых, сумела определить их в Москве, даже жильё купила.
Сама же живёт в Ялте, работает на трёх работах, только бы обеспечить учёбу детей.
Призналась даже, что в последнее время, когда выросли дети и стали как-то определяться в жизни, у неё появился мужчина, зовёт замуж, но она так и не может решиться на этот шаг, так как у него двое детей, маленьких, и жена-дура, именно так она и сказала, хотя та и числит именно её в самых близких подругах.
При этих словах всё рухнуло в моей душе и я, уже почти до Симферополя, молчал, лишь чаще стал выходить в тамбур перекурить, читал газеты и лишь изредка поглядывал на её задумчивое и потерянное лицо. Видел, что внутри у неё, в самом сердце, шла напряжённая работа и она внимательно прислушивалась к себе.
Наконец, решившись, резко подняла голову, требовательно отвела в сторону газету, которую я читал, и с каким-то внутренним напряжением в голосе произнесла:
– Не нравлюсь?
– Нет, не нравитесь. Вот этого Вы говорить мне не должны были, никогда и ни при каких обстоятельствах. Я не могу относиться с уважением к человеку, который выстраивает свою судьбу на обломках чужого счастья, на горе других.
В Симферополе меня встретили сёстры и я, наспех попрощавшись со своей попутчицей, уехал с ними, даже не обернувшись назад, хотя её взгляд чувствовал своим затылком.
Но на душе моей покоя так и не наступило.
И отмаявшись два дня, я собрался и, не говоря ни слова сёстрам, уехал в Ялту.
Скорее, это был ритуал. Я всегда, приезжая в Крым, ехал хоть на денёк в Ялту, бродил, до смертельной усталости по нарядной и красивой в ту пору набережной, обедал в приморском ресторанчике и возвращался, к вечеру, в Симферополь.
Так было и в этот раз. Но меня почему-то необъяснимо тянуло не на набережную, а в Храм Александра Невского.
В дорожном разговоре она сказала, что это её самый любимый Храм и она часто там бывает.
Ни у кого не спрашивая дороги, я неспешно побрёл к Храму. Она так красочно мне описала путь к нему, что я нашёл его сразу, хотя ни разу прежде в тех местах не бывал.
Вручив мелочь побирушкам, я вошёл в Храм по крутым ступеням и, от неожиданности, ударившей прямо в сердце, даже задохнулся.
Людей в Храме было мало и я сразу увидел, что возле иконы Божией матери – большой, красивой, спиной ко мне, в повязанной на голове дымчатой шали, стояла она.
В эту минуту она была так далека от этого суетного мира и так прекрасна, что я, в предельном волнении, застыл и зачарованно наблюдал за каждым её движением.
Не выдержав, подошёл ближе и молча встал за её спиной.
Она, не поворачивая головы, еле слышно произнесла:
– Я знала, я знала, что Вы приедете, что мы встретимся. И… договорим. Мне непременно нужно с Вами договорить, так как я была… превратно понята Вами. А мне этого… крайне не хочется.
От этих слов я чуть не потерял сознание – как, откуда, ведь она меня не видела. И она, отвечая на мой молчаливый вопрос, ответила:
– А я чувствовала, нет, я просто знала, что сегодня Вы будете именно здесь…
***
Это были три самых дивных дня в моей жизни. Как само собой разумеющееся, она взяла меня под руку и мы пошли к ней домой.
Шли долго. Вдоль русла некогда существовавшей речки, всё время в гору. Она неотрывно смотрела на меня и за всю дорогу произнесла только несколько слов, но каких:
– Это была бы страшная несправедливость жизни, если бы мы не встретились.
Никогда, ни к кому я не испытывала такого чувства. Мне не совестно об этом говорить, как Вы стали мне дороги, как я шла к Вам, как я хочу видеть Вас, как я… люблю Вас.
Мы пили коньяк, поздний сентябрь, буремный, рвал окна, а на душе был настоящий праздник. Я чувствовал, что эта роковая встреча изменит всё в моей жизни. И очень хотел этого сам.
Вечером она исповедовалась мне. Я просил не делать этого, не надо, пусть всё судьба исчисляет с минуты нашей встречи.
Но ей что-то мешало и она, словно освобождаясь от налёта прошлого, сказала мне, что вернувшись из Москвы, рассказала о встрече со мной в поезде своему любовнику. И попросила больше её не тревожить, независимо от того, буду ли я в её жизни или нет и встречусь ли я вообще с ней ещё хотя бы раз в жизни.
Но тот её не оставлял. И всё говорил ей, что он никогда не оставит её добровольно, как самую умную и самую красивую женщину Ялты. И что он, наконец, готов оставить свою семью. Хоть сегодня.
На что она ему ответила:
– Нет, мне более такой жертвы не надо. Я целых одиннадцать лет ждала этого признания. А сегодня – оно мне уже не нужно.
Повернувшись ко мне, с жаром, стала говорить:
– Я поняла, что я жива, что я живу, я хочу любить и быть любимой. Не воровать любовь, а любить в полную силу, всем сердцем.
Затем она, в деталях, стала рассказывать мне об этой связи.
Я просил остановиться и не делать этого, но она была неукротимой:
– Нет, ты должен знать всё. И тогда ты решишь, достойна ли я твоей любви. А жить так, не очистившись, я не смогу…
***
Страшная это была ночь. Мы не прилегли ни на минуту и на мою голову обрушивались всё новые и новые детали её отношений с неведомым мне человеком, которого я уже ненавидел лишь за то, что он причинил такую боль этой женщине. Признаться, я даже подумал о каком-то психопатическом помрачении, если не сказать больше.
И моё сердце не выдержало. Утром она ушла на работу. Уже собравшись, встала на колени возле дивана, где я, измаявшись за ночь, лежал с закрытыми глазами и сказала:
– Ты только не решай сам ничего. Прошу тебя. Мы вместе примем решение. Дождись меня.
И после этих слов, она ушла оставив мне ключи от своей квартиры, не переодевшись в юбку, как мне обещала. Я помню даже это.
Я написал ей длинное письмо, поверх него, не знаю почему, положил две розы (из букета, который она приняла почему-то без радости вечером в ресторане, словно чувствовала, каким символом они станут), у которых сломал, у самого цветка, стебель, закрыл квартиру, опустил ключи в её почтовый ящик и уехал в Симферополь…
Больше я её не видел. Долго болело сердце, не давала покоя мысль, что я утратил что-то самое дорогое и светлое, весь смысл оставшегося короткого земного счастья.
Вопрос, а правильно ли я поступил – я пред собою не ставил. По-иному просто не мог. Не смирялось моё сердце с тем, что по пути ко мне, у неё, как говорил поэт – «много всяких и не всяких было».
***
… Минули годы.
И мы с женой Галиной Ивановной, свой незабываемый отпуск провели в Ялте. Это было удивительное и счастливое время и я благодарен судьбе и сёстрам, что они нас вознаградили такими царскими условиями, и мы двадцать один день впитывали, вбирали в свои сердца красоту Крыма, который я так люблю и который всегда так волнует меня.
И я бы не вспомнил об этой истории, если бы не два обстоятельства.
Первое – я почему-то так и не смог зайти в Храм Александра Невского в сей раз. Мы с женой постояли у его врат и пошли обратно, к набережной.
Мне не хотелось, с этим светлым и милым человеком, которого мне послала во спасение сама судьба, проходить по той дороге памяти, где на всём пути были совсем иные действующие лица, иные страсти, да и иное чувство.
Моя искренность была раздавлена тягостными воспоминаниями о том уничижении, которое я пережил в те далёкие уже дни.
Зачем она так сделала – осталось загадкой для меня навсегда. Да я и не ищу разгадки этой истории сегодня, когда со мной рядом столь светлый и дивный человек, который, в уже разгоревшуюся позднюю осень в жизни, составил моё счастье и стал судьбой на всю оставшуюся жизнь. Единственной и незабвенной.
И – второе, о чём я не сказал Галине Ивановне, – в один из дней она покупала в каком-то магазине еду, я, в это время, в соседнем отделе выбирал вино.
Продавщица – яркая, ослепительно-красивая белокурая женщина, привычно равнодушно, без всякого интереса, что-то взвешивала Галине Ивановне.
И когда моя жена открыла кошелёк, чтобы расплатиться за товар, продавщица, я это хорошо видел, неожиданно схватилась за сердце, да так и застыла на месте.
В кошельке, в специальном окошечке, за кусочком пластика жена всегда носит мою фотографию.
И продавщица увидев её, на мгновение лишилась чувств.
Супруга же, протянув деньги и держа непроизвольно кошелёк открытым так, что фотография была обращена в сторону продавщицы и была той хорошо видна, заметив её необычное состояние, спросила:
– Вам плохо? Чем я могу помочь?
– Нет, нет, – после секундного замешательства ответила продавщица, – мне уже не поможет никто. Опоздала, я вижу, помощь для меня…
И уже окончательно придя в себя ответила, с едва заметной улыбкой, внимательно и оценивающе оглядывая Галину Ивановну:
– Что-то устала я очень сегодня.
Не поднимая глаз, с пунцовыми щеками, тихо спросила, указывая взглядом на фотографию, на которой я был в генеральской форме:
– Муж?
– Да, судьба моя, моё счастье, – ответила Галина Ивановна и взяв сдачу вышла из магазина, так ничего и не поняв.
Я же, слышавший всё и, конечно же, сразу узнавший в продавщице ту женщину, с которой свела судьба в поезде, ничего не стал добавлять к рассказу жены о странном поведении продавщицы магазина. Зачем ей та давняя история, у которой не было продолжения, не было будущего.
И я счастлив, что Господь оградил меня от тяжких испытаний.
Ибо я никогда не смог бы делить свою избранницу, свою судьбу – с прошлым, к которому она принадлежала долгие годы и которое не сбросить, как кожу, как чешую.
Нет, оно навсегда останется с нами и способно отравить всю жизнь, если в нём были постыдные и унизительные страницы, картины, эпизоды даже.
Прошлое никогда не оставляет нас. И если хотите выстроить достойное будущее, никогда не забывайте об ошибках прошлого. И не повторяйте их, не перекладывайте их груз на других.
***
Когда мы обедали в приморском ресторане, я увидел на берегу знакомую яркую женщину. Стройная, в джинсовом костюме, с распущенными выбеленными волосами, она стояла у самого края набережной, на том месте, где в далёкие уже годы мы кормили чаек и крупные слёзы стекали у неё по щекам.
Прохожие обтекали её, но никто не остановился и не предложил ей помощи, своего участия.
Она же, тяжело вздохнув и как-то опустив плечи, от чего стали заметными прожитые годы, тяжёлой походкой пошла в направлении бульвара Рузвельта и скрылась, вскоре, за кронами могучих каштанов.
***
Алыми маками зацветает
степь там, где пролилась кровь
людская в те стародавние времена.
Да разве только в стародавние?
Сколько её пролилось уже в наши…
Это буйство красок всегда
волнует меня и не даёт
уняться сердцу, которое вновь
переживает чью-то жизнь.








