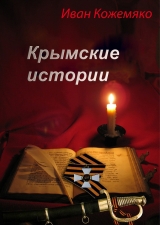
Текст книги "Крымские истории"
Автор книги: Иван Кожемяко
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
Несколько портил мой облик – ещё багровый, свежий шрам, который пересекал правый висок и щеку, но хирург столь профессионально сделал свою работу, что он не менял выражения лица, а только делал меня чуть старше и суровей.
Сегодня, за долгие годы, я был в мундире. Что уж греха таить – впервые облачился, не без удовольствия, в генеральский мундир и непривычно останавливал свой взор на широких алых лампасах, которые всегда были заветной мечтой любого военного человека.
Почему-то именно они казались мне более непривычными, нежели Золотая Звезда Героя, которая у встречавших меня однокашников вызвала чувство высокой гордости за своего товарища, и они, не скрывая своей радости, без команды, но дружно закричали:
– Ура! Ура, Герою! – как только я показался из вагона поезда.
Очаровательные девушки поднесли мне хлеб-соль, другие – массу цветов, которые я тут же передарил – каждой из вручавших ему нарядные букеты.
Они смущались, но с радостью приняли эти цветы и как-то дружно вздохнули, проникновенно глядя на понравившегося им молодого генерала одинаковыми глазами незамужних женщин.
И я, принимая все эти почести и считая их не вполне мною заслуженными, всё показывал руками на своих товарищей, на яркую ещё, но уже отцветающую броской женской красотой свою любимую классную руководительницу – Тамару Кузьминичну Кольцову, которая в школьные годы относилась ко мне даже более, нежели дружески.
И я это чувствовал. Это было не материнское чувство, нет. И она знала это сама и всегда злилась на себя, если задерживала свой взгляд на одухотворённом лице талантливого, необычного юноши.
Единственный раз, когда я приехал в отпуск на встречу выпускников, она меня обняла и, не таясь никого, в первый и последний раз в жизни, поцеловала нежно и страстно.
И я это почувствовал. Вздрогнул. Покраснел. И потянулся, ответно, за её такими красивыми и свежими губами.
Но она положила свою ароматную ладонь на мои губы и только прошептала:
– Не надо, родной мой. Не надо. Прошла моя весна. Старая я уже для тебя…
Так и осталась между нами эта тайна. Но мы её не стыдились и бережно несли по жизни и всегда помнили. Оба.
Мне даже казалось, что это чувство помогало в жизни, полной опасностей, хранило в непростых испытаниях судьбы.
И сегодня, когда прильнул к руке любимой учительницы, она погладила мои густые волосы другой рукой и просто сказала:
– Ванечка! Как же ты возмужал. Ты уже не тот мальчик, которого я помню и люблю – до сей поры люблю…
И она бережно дотронулась до моих погон на мундире, на минуту – до Золотой Звезды и сказала:
– А теперь – иди, а то на меня твои ребята будут обижаться. Иди, иди, мой родной, тебя ждут…
Был долгий и добрый вечер. Много говорилось речей, каждый вспомнил – самое яркое и запомнившееся за долгие годы детдомовского братства.
Почти под утро все разошлись. Военком предлагал остановиться у него:
– Жена будет рада. И ребятишки. Да и места хватит.
Но я предложения не принял, отказался от машины и пошёл в гостиницу.
И выпроводив, наконец, друга-военкома, дав тому слово, что завтра непременно приду в гости, остался в номере один.
Через открытое окно и балконные двери слышна была ночная жизнь моря, морского порта.
Как-то настырно, но приглушенно, словно учитывая близость жилых домов и утреннюю пору, покрикивали корабли.
Я вышел на балкон, выкурил сигарету и, уже не раздумывая, решительно направился из гостиницы.
Ноги сами шли привычным маршрутом, сознание даже и не включалось.
И уже через несколько минут – я был на знакомой улочке.
Мало что переменилось здесь за долгие двадцать лет. Да, двадцать лет минуло с той поры, как я был здесь в последний раз, сразу по завершению училища.
Только напротив дорогого и памятного для меня дома появилась детская площадка, под пластиковым навесом.
Я туда и направился. Сел на скамейку и, учитывая раннее утро и отсутствие детишек на площадке, закурил.
Пожилой уже дворник, с недоумением поглядывал на генерала, который недвижимо сидел на скамейке, фуражка лежала подле него, а густые, но совершенно седые волосы его – растрепал утренний ветер и тихонько играл ими.
И, вдруг, на втором этаже дома, который дворник знал, как свои пять пальцев, открылось окно.
Он знал, что там живёт учительница музыки, маленькая приветливая женщина, с гордо посаженной головкой, волосы на которой уже щедро выбелила седина.
На глазах дворника она превратилась из жизнерадостной, искромётной девушки, которая с утра до ночи играла на пианино, и дом к этому привык, никто не протестовал, в молчаливую, но неизменно вежливую даму.
Если случались дни, когда музыка не звучала, все жители дома начинали волноваться и переживать за неё – все знали, как несладко живётся этой милой женщине.
Муж постоянно пьянствовал, устраивал какие-то сцены, даже говорили, что был скор и на руку, так как она нередко искала защиты и пристанища у знакомых с маленьким сыном.
А несколько лет назад её муж, будучи пьяным, сел за руль автомобиля и разбился насмерть.
С той поры рояль в этом доме почти не звучал. Только какие-то скучные и обязательные музыкальные пьесы детей нарушали тишину, так как все знали, что иного источника существования у этой женщины нет и она подрабатывает, обучая школьников на дому игре на рояле.
А вот сегодня – дворник даже неслыханно удивился: в ранний утренний час из окон полились звуки любимой и им мелодии.
Он даже не знал, как называется эта музыка, но так её любил, его старое и невзыскательное сердце волновали эти светлые и торжественные звуки.
Он даже перестал мести тротуар и, опёршись на метлу, застыл на месте.
Поднялся при звуках рояля и генерал.
Дворник видел, как тот побледнел и как-то нервно, торопливо застегнул мундир на все пуговицы и, сделав несколько шагов к дому, застыл недвижимо.
Музыка лилась едва слышно, её исполнительница учитывала утренний час и только в конце, не сдержавшись, исполнила заключительный проигрыш почти в полную силу, так, как играла в прежние времена.
И тут же наступила такая звенящая тишина, что стало слышно даже щебетание птиц в густых каштанах, которые подступали к самому дому.
Генерал, постояв ещё мгновение недвижимо, вернулся к скамейке на детской площадке, где лежала его фуражка, взял её левой рукой и медленно, не оборачиваясь назад, пошёл по аллее к морю.
И только старый дворник видел, как к распахнутому окну подошла маленькая, милая женщина, с гордой головкой и посмотрев на аллею, по которой удалялся медленным шагом от её дома генерал, схватилась руками за область сердца и прижалась спиной, чтобы не упасть, к створке распахнутого окна.
Дворник, который стоял почти под окном квартиры этой женщины, услышал, как она, сквозь стон и слёзы, говорила себе самой:
– Ванечка, Ванечка Владиславлев… Это – он. И как жаль, что жизнь не переиначишь. Ошиблась я, родной мой, роковую ошибку совершила…
Жалобно всхлипнула:
– И тебя обидела. Но я за всё заплатила… сполна. Всё Господь вычел из жизни.
И через рыдания почти прокричала:
– Будь счастлив, мой хороший.
Справившись со своим волнением, она отошла вглубь комнаты и оттуда, во всю силу, полились аккорды полонеза Огинского.
Генерал замедлил свои шаги. Остановился посреди аллеи. Постоял в раздумьях, но лишь миг, и резко повернувшись, твёрдым и уверенным шагом пошёл к дому, из окон которого лились такие торжественные и печальные звуки полонеза.
Дворник с изумлением наблюдал, как генерал решительно рванул на себя входную дверь в подъезд и бегом, это было слышно, поднялся на второй этаж.
В квартире, где звучала музыка, раздался звонок.
Женщина перестала играть и заспешила к двери, каблучки её туфель звонко простучали по паркету.
Последнее, что услышал дворник после того, как щёлкнул замок на входной двери, был её вскрик:
– Господи, как же я ждала тебя! Родной мой, какое счастье, что я вижу тебя, Ванечка…
И дворник, устыдившись того, что стал невольным свидетелем этой сцены, стал быстро мести тротуар, хотя на нём и так не было ни одной соринки. При этом неведомая даже ему самому, светлая улыбка так осветила его лицо, что шедшая на рынок его пожилая знакомая даже истово перекрестилась:
– Свят, свят, никогда не видела Карпыча таким. Даже – пьяненьким он никогда не улыбается. А тут – неведомо, что и приключилось.
Но она не стала мешать его радости и тихонько поплелась по улице, всё норовя разгадать в своём уме такую необычную для себя задачу – отчего так хорошо и так чисто улыбался дворник в это раннее утро.
***
Будь благословенно прошлое,
в котором осталось наше
сердце, и в котором мы
были молодыми и счастливыми,
влюблёнными и нравственно чистыми,
безгрешными.
И. Владиславлев
КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ
Перебирая свою обширную библиотеку – готовил её к передаче внуку Владиславу, я наткнулся на давно забытый, совершенно обесцвеченный от времени кленовый лист в старинной книге стихов С. Есенина, которую мне – давным-давно, я ещё был курсантом военного училища, подарил водитель, подвозивший меня.
Я даже помню, как он, увидев мой неподдельный интерес к книге, уж больно роскошным было издание – миниатюра, толстенная, на мелованной бумаге, с прекрасными иллюстрациями, с доброй улыбкой, без жалости, подарил мне эту книгу.
– Бери, курсант, я её уже прочитал…
И когда я открыл эту книгу – как же сжалось при этом моё сердце от давних воспоминаний, связанных с давно отгоревшей юностью.
Почти половина столетия, а если уж точно – сорок пять лет минуло с тех пор, а я помню те дни, словно они коснулись моего сердца и моей памяти лишь вчера.
***
Ах, как же щедро замешала природа и красоты, и разума, и учтивости, и надменности, и воспитанности, и дерзости, и душевной щедрости, и непреклонности, и милого вероломства, и хитрости в этой девушке.
Мы, ещё пацаны, хотя по возрасту – её ровесники, с завистью и уже с первой ожесточённой влюблённостью, смотрели на неё, когда она проходила мимо.
Всё в ней было совершенным – точёные ножки, поступь – так не ходил никто. Помню, как я, немея от восторга, вглядывался в её удаляющуюся фигурку на тополиной аллее, в санатории для больных лёгочными болезнями под Киевом.
Уходило детство. И в ранней юности, которая так быстро наступила, благодаря именно ей, Людмиле Бабич, я исписывал целые тетради несовершенных стихов, разумеется, посвящённых ей, моему божеству, владычице моих мыслей и светлых грёз.
Помню, как я боялся вручить ей эти стихи, постоянно носил их с собой и всё ждал, когда наступит благоприятный момент к этому.
Увы, увы! Я ведь был не единственным и отчётливо видел, что влюблены в неё многие, если – не все мои ровесники и товарищи по несчастью.
В её облике что-то было и от армянки, и от грузинки, наверное, там текла и еврейская кровь (это я понимаю теперь), и от степняков что-то осталось, но более красивой девушки я не видел – ни в ту пору, ни, вот уже и жизнь повернула давно на закат – сейчас.
Я, простой казачонок, любовался ею всегда: как она сидит, как ест в столовой, как красиво и правильно говорит, с каким достоинством держится с подругами и товарищами.
Друзей, мне казалось, у неё не было. Она была выше и величественнее всех и дружить с ней, я полагаю, никто не смел, не по силам это было натурам более слабым и не таким утончённым, без такого богатого внутреннего мира.
Она много читала, много знала, очень неплохо, это открылось мне совсем неожиданно, играла на пианино.
И, чего греха таить, эта юная девушка, даже не думая об этом, столько сделала для того, чтобы и я стал лучше, лучше во всём – учёбе, участии в общественной жизни, творчестве.
Я тянулся за нею и всё ждал, когда наступит миг, чтобы и она, моё божество, взлелеянное в моей душе, обратило на меня внимание.
Я стал тщательно следить за своей одеждой. Мои брюки всегда были наглажены, рубашки – а их-то и было две-три всего, свежими, а туфли – ослепительно сияли.
И, помню это отчётливо, дождался – мой день настал.
В кино, а нам его в клубе показывали три раза на неделе, совершенно случайно, не думал даже о таком счастье, я оказался возле неё рядом.
Господи, как же мне не сиделось на месте.
Я не знал, что ей сказать, о чём говорить вообще и от этого мучительно краснел, мне мешали мои руки и я не находил им места.
И совершенно неожиданно услышал, обращённое ко мне:
– У тебя очень красивые руки. Такие длинные пальцы. И ресницы – девушки позавидуют…
Вначале я даже не понял, что это она говорит мне.
А когда до меня дошёл смысл сказанного, я покраснел и что-то бессвязно проговорил в ответ.
Помню лишь отчётливо одно – я читал в ту пору стихи какого-то украинского поэта и там были строчки, поразившие меня:
«О, мила бонна,
невiдома,
Як би – не ця
Вечiрня втома –
Я вiдповiв би Вам
Не так…»
И именно эти строчки я и прочитал ей в ответ на тёплые слова о неких моих достоинствах, которые она отметила и в чём моей заслуги, это уж точно, никакой не было – от родителей мне достались и мои руки, и мои ресницы.
Она красиво улыбнулась мне в ответ и положила свою совершенную руку, на один только миг, поверх моей.
Боже мой! Как же ликовало моё сердце! Оно выпрыгивало из моей груди, мне не хватало воздуха и я, словно во сне, вновь и вновь вызывал в своём сознании всё, что она сказала, а моя рука, казалось, горела от её невинного прикосновения.
Этот фильм разрушил ту преграду, которая стояла между нами, а вернее – между мной и этим непостижимым дивом.
Я, отныне, стремился постоянно быть подле неё, видеть её, слышать её и говорить с нею.
Наконец, я дерзнул и, аккуратно переписав на отдельных листах несколько своих стихотворений, посвящённых ей, вручил их на её суд.
Помню, тут же быстро повернулся и ушёл от неё, не оглядываясь.
Она нашла меня сама у стен старинного замка, поросшего лианами хмеля и ещё каких-то вьющихся растений.
Её тёмно-карие, почти чёрные глаза, светились неведомым мне досель светом.
В них было столько огня, столько чувства, что я даже испугался.
Так на меня ещё никто не смотрел в жизни.
– Спасибо! Мне очень понравились твои стихи. Их искренность.
У меня стали пунцовыми уши. От волнения я не знал, что сказать и, только и смог, в ответ на её слова, прочесть стихотворение, я не знал в ту пору его автора, но оно мне очень нравилось. И я его запомнил с первого прочтения.
Помню его и до сих пор:
«Всё, что было –
до малости,
Отдаю я любя –
ни печали,
ни жалости,
Я не жду от тебя.
Лес стоит,
как обугленный,
За последней межой.
Я не просто
разлюбленный,
Я – навеки чужой».
– Ну, зачем же так трагично? И ты мне – не чужой, – донеслось до меня.
– А чьё это стихотворение? Твоё?
И у меня не хватило сил признаться, что это не моё стихотворение, пусть меня простит его автор, благословенная Вероника Тушнова.
Но не мог я и солгать ей, поэтому и сказал:
– Я его очень люблю.
И с этого дня я понял, что я всерьёз, навсегда, а в юности, при первом святом и искреннем чувстве, нам всегда кажется, что это – действительно навсегда, – без памяти влюблён в эту красивейшую и умную девушку.
Помню даже, как меня волновала её красивая девичья грудь. И скользнув, нечаянно, по ней взглядом, я краснел и спешил отвести глаза в сторону.
И она это видела и тепло улыбалась, как старшая и мудрая женщина глядела на меня, несмышлёныша, такого наивного и такого чистого и светлого, своими дивными бездонными глазами.
И словно испытывая меня, подходила ко мне так близко, что ещё миг – и красивые холмики, обтянутые кофточкой, коснулись бы меня.
Когда она волновалась, читая мои новые стихи с признаниями в любви, её грудь высоко вздымалась, в такт её дыханию и я замирал от счастья и восторга, самого видения такой совершенной красоты.
И как же горько, что и расстроилась эта моя светлая юношеская любовь так же внезапно, как и пришла ко мне…
***
Жестокосердная и завистливая юность моих коллег по несчастью не простила ей, моей первой любви, гордости и надменности, возвышенности чувств и независимости.
Не знаю уже, кто был инициатором, но ей был объявлен бойкот и все были предупреждены, что если этот бой кот будет порушен кем-либо, то весь гнев коллектива обрушится на виновника.
Она гордо несла эту изоляцию, эту свою непростую ношу. Только ещё прямее стали её плечи, да в гордой посадке головка, нарочно, не опускалась долу, а в глазах застыло, вместе с болью, презрение и надменность к тем, кто так неправедно её осудил.
Но весь страх был в том, что не подошёл к ней и я. И не от страха каких-то ответных мер со стороны коллектива, а от того, что она и меня опалила таким взглядом, что я испугался.
Он словно говорил: «И ты с ними, и ты поспешил от меня отмежеваться», – и при этом неприязненно и надменно кривила в горькой ухмылке-улыбке свои красивые, необыкновенно, губы.
Вскоре она уехала из санатория. Её забрали родители. Слава Богу, не потому, что она не могла выдержать такого отношения к себе, а потому, что она выздоровела и возвращалась к нормальной жизни.
Помню, до сей поры, как я, спрятавшись от посторонних глаз в развалинах того старинного замка, где и состоялось моё первое признание в любви, обращённое к ней, я плакал, не стыдясь пред собою, этих очищающих душу слёз.
И когда я вернулся в свою комнату, на тумбочке у моей кровати лежал большой букет багряных осенних листьев.
Я знал, что они – от неё. И долго, затем – годы и годы, хранил в книге один листок из того букета, который так сладко и так больно напоминал мне о первой любви и о моём предательстве той, которая и была смыслом моей юной, начинающейся жизни.
***
Я больше так ничего и не слышал об этой девушке, Людмиле Бабич. Я даже не знал, откуда она и где её можно разыскать.
Но судьбе было угодно ещё дважды напомнить мне о ней – при весьма интересных и совсем уж неожиданных обстоятельствах.
Я, завершив военное училище, служил в Белоруссии. Помню, как молодым майором приехал в отпуск, к родителям, которые проживали в Крыму, на самом берегу Азовского моря.
И в первый же вечер, в Доме культуры, я встретил своего одноклассника Алёшу Сивоконя. Мы были очень дружны с ним в юные лета.
И он, в разговоре, рассказал мне, что несколько месяцев назад был приглашён в гости, к знакомым, в Керчи. И там увидел необычайной красоты женщину, молодую, лет двадцати пяти, южного типа.
Она выделялась среди всех гостей молчаливым, высоким достоинством.
Говорила очень мало, всё больше слушала, но каждое сказанное ею слово было наполнено высоким смыслом
И так случилось, что женщины, выпив домашнего вина и несколько раскрепостившись, завели разговор о своей первой любви.
Нотки грусти и несбывшихся надежд объединяли их и истории, которые они представляли на суд своих подруг, были разительно похожи – как правило, у всех, первая любовь явилась в школьные годы, но сберегли её не многие. Как-то она беспричинно стаяла и ушла, и вспоминающие об этом женщины говорили без горечи и сожаления, как о доброй, но такой далёкой от жизни сказке-мечте.
И завершив, каждая, свою исповедь, эти милые, немножко опьяневшие от вина и нахлынувших на них воспоминаний женщины, поглядывали на свою молчаливую и ослепительно красивую приятельницу, которая мечтательно улыбалась чему-то своему при их наивных рассказах.
Они просто вынудили и её принять участие в такой наивной и искренней исповеди.
И она, выпив глоток вина и не отрывая своего взгляда от рубинового напитка, с каким-то надрывом сказала:
– А я и до сих пор люблю того, кто был моей первой любовью. Давно это было. А кажется, что только вчера. И я всё помню, каждый, миг, связанный с ним…
И она, по словам моего друга, поведала историю, которую я и изложил впереди. К слову, никакого отличия, никаких иных ударений и акцентов в ней не было. Такое впечатление, что эту историю я рассказывал моему другу лично. Совпадало всё, все оттенки и даже переживания.
Алексей заинтересованно слушал исповедь этой красавицы. А в конце её повествования не выдержал и спросил:
– А кто он? Как его звали? Где он сейчас, знает ли она что-либо о его дальнейшей жизни?
И Людмила, а это была именно она, ответила, повернувшись к Алексею и опалив его взглядом своих бездонных очей:
– Где он – не знаю. А зовут его Иваном, Иваном Владиславлевым.
Алексея, как он сказал, словно током пронзило, но он ничего не сказал этой юной даме.
И я думаю, правильно сделал. Что ворошить старое кострище? Разве возможно его разжечь вновь? Редко кому это удаётся.
Мне же он в деталях поведал эту историю и при этом сказал:
– Завидую я тебе, Иван. А мне вот не пришлось пережить подобного.
И, немного помедлив, сказал:
– Она в Керчи живёт. Я даже знаю – где. Не хочешь увидеть?
Гулко забилось моё сердце. А затем, опомнившись, сказал ему:
– Нет, Лёша. Не буду ворошить пережитое. Пусть оно останется в душе таким чистым и светлым. А мы ведь сегодня – уже совсем иные. И несём – на себе и в себе, отпечаток всего пережитого. И не всегда – самого лучшего.
– Скажу лишь одно, милый друг – если есть Господь, пусть ниспошлёт ей счастье и благополучие. И – пусть она меня простит, если может, за то юношеское предательство, которого я так и не забыл до сей поры.
Я горько усмехнулся:
– Слава Богу, что оно было единственным в жизни и научило меня больше принципами не поступаться, никогда, ни при каких обстоятельствах, даже если твоей жизни угрожает опасность.
– Знаешь, – повернулся я к нему с братской чаркой в руке, – как в старину говорили: «Жизнь – государю, сердце – Богу, а честь – никому».
– Так я и старался идти по жизни, дорогой друг. Не ловчить. Не скулить. На солдатских кровях – судьбы не строить.
И мой друг юности при этих словах, с особым уважением посмотрел на мою звезду Героя, которая скромно отсвечивала на моём пиджаке.
Её историю он знал и всё мне завидовал, что ему не выпал в жизни Афганистан.
– Глупый ты, – отвечал я ему, – и – слава Богу. У каждого свой крест и своя судьба. И мы их должны нести, каждый по своим силам, честно и достойно…
А кленовый листок, по приезду домой, я переложил в свою книгу, которую забирал с собой. Внуку он зачем? Будет у него своя первая любовь, и свои воспоминания, и грёзы, и разочарования, и муки, и слёзы. Свой путь у каждого.
А чужой судьбы мы не понимаем, и памяти о ней не храним. Она мало что значит для тех, кто приходит после нас.
И когда мне бывает трудно и груз лет и бед начинает нестерпимо давить на уже уставшее сердце, я открываю эту книгу и смотрю на этот, почти истлевший листок.
И становится легче. А губы, непроизвольно, шепчут:
– Будь благословенна, моя первая любовь. Будь благословенна. И я благодарю судьбу и Господа за то, что ты у меня была…
***
Не думал никогда, что эта история будет иметь продолжение, которое – нет, не убило душу, не изменило ход жизни, когда уже норовишь приступить к итогам пережитого и пройденного, а тихой грустью накатило на сердце, да и заставило его сжаться от воспоминаний о былом счастье. О возможном, но не случившемся…
***
Прошлым летом, осенью, выпало нам счастье, с женой, по приглашению моей младшей сестры гостить в Крыму.
Это был, пожалуй, самый прекрасный отпуск в моей жизни.
И в один из дней мы решили поехать в Керчь, посмотреть Митридат, побывать в Аджимушкайских каменоломнях – особом для меня месте мужества и скорби.
Здесь, без всякой надежды на помощь и спасение, сражались и гибли за наше Отечество герои Великой Отечественной войны, чей подвиг сегодня, в силу известных обстоятельств, забыт и унижен.
Целый день мы бродили по памятным для меня местам и провели его на ногах. В Керчи я не был с курсантской юности и всё увиденное воспринималось, как первооткрытие.
Не знаю почему, но ноги сами привели меня в старый город, где всё было узнаваемо и близко.
И, уже совсем выбившись из сил, мы, на набережной, зашли в уютный ресторанчик, под лёгким шатром, которых здесь появилось – в огромном числе, на каждом шагу.
Наслаждаясь глотком Ливадийского рубинового портвейна, который нам с женой очень нравился, я увидел необычайно красивую женщину, моих лет, которая с внучкой, это было видно сразу – такой же яркой, необычайно красивой, как и бабушка, тоже зашли в ресторанчик.
Перемену во мне заметила жена:
– Что случилось? Тебе плохо?
– Нет, нет, родная моя, мне очень хорошо. Не тревожься и отдыхай. Всё хорошо, – и я тихонько дотронулся губами до её руки.
Сам же неотрывно смотрел на зашедшую в ресторан женщину.
Казалось, время было не властно над ней. Тот же гордый профиль, богатые, красивые волосы. Только вот – изморозь седины выбелила их почти полностью, но они ей очень шли и она их не красила.
На её лице блуждала улыбка счастья, когда она смотрела на внучку и о чём-то с ней говорила.
Она выпила чашечку кофе, дождалась, пока внучка съест какое-то пирожное и выпьет чай и неторопливо поднялась из-за стола.
И я только в этот миг увидел у неё в руках букет из ярких осенних каштановых и кленовых листьев.
Она постояла секунду в раздумьях и положила эти листья на край пустовавшего стола.
Внучка, при этом, что-то ей сказала, указывая на листья.
Но она, взяв её за руку, повернулась и пошла к выходу.
Я заметил, что от лёгкости её походки не осталось и следа. Шла она очень медленно и тяжело, а голова её, словно существуя независимо от неё, всё норовила повернуться к тому столику, за которым сидел я с женой.
Молнией, на один миг, ожёг меня её взгляд и она тут же вышла из ресторана, уже торопя внучку.
Груз лет придавил мои плечи. Я сидел поникший и усталый.
Нехотя допил вино, положил на стол деньги и поддерживая жену под локоть, пошёл к выходу.
Проходя мимо стола, за которым сидела та яркая женщина с внучкой, я остановился и умышленно не встречаясь с изумлённым взглядом жены, взял один кленовый лист, самый яркий, и положил его в газету, которую купил на набережной.
А приехав домой – переложил его в ту же книгу – С. Есенина, где лежал тот первый и такой памятный для меня, связующий с далёкой и чистой юностью, совсем уже выцветший лист клёна.
И я всё думаю – увидела ли она меня, бывшая юная девушка, явившая ту невинную и светлую любовь в те далёкие и невозвратные годы, в городе и пошла следом за нами, или зашла в ресторанчик случайно – не знаю.
Но то, что она узнала меня, это я почувствовал определённо.
И букет кленовых и каштановых листьев не случайно был оставлен на столе.
А встреча – нет, она была не нужна. Встретиться, чтобы проститься, уже навсегда? К чему? И зачем?
Каждый прошёл свой путь, проторил в жизни свою дорогу, прожил свою жизнь.
Но она у меня и состоялась потому, что в моей душе, всегда, горела негасимая свеча той первой любви, которая и позволила сохранить в душе человеческое даже в тех испытаниях, которые выпадают не многим.
Нет, я не жалею ни о чём. Выросли дети, рядом – та, которая стала судьбой и наградой за пережитое и пройденное.
Но твёрдо знаю и то, что я никогда бы не состоялся, как личность, как гражданин, как солдат Отечества, если бы мою жизнь не освещал дивный свет первой любви.
Быть может, сохранись она, многое было бы утрачено, поблекло и померкло. И не вспоминал бы я о ней с таким обожествлением и таким светлым чувством.
А может – расцвет её и украсил бы две жизни, две судьбы, не знаю.
Но то, что она была, всегда жила в моём сердце – помогло мне в жизни выстоять, укрепиться, не свернуть с дороги совести и чести – это точно.
Во всех испытаниях её негасимый свет помогал мне выстоять, преодолеть все преграды, просто выжить там, где выжить было невозможно.
Будь благословенна, вовек, подарившая мне это святое и чистое чувство.
Застываю пред тобой в земном поклоне.
Храни тебя Господь!
***
Разве можно нагадать жизнь
тому, кто и сам может
предсказать судьбу?
Более того, вершил людские судьбы.
И. Владиславлев
ГАДАЛКА
Я никогда не любил гадалок. И на это были основания, так как был дважды облапошен ими в лейтенантской юности – в Джанкое и в Вильнюсе.
А тут – не знаю, что со мной произошло…
Ужин на набережной Ялты был уже почти традиционным. Я и есть-то не хотел, но – надо же что-то вечером было делать и как-то убить эти три-четыре часа, самые длинные и бессмысленные.
А ещё – пронзительно грустные и тоскливые, пустые, иссушающие душу звенящим одиночеством.
А здесь – хотя бы среди людей. Не в одиноком и пустынном номере.
Да и чего греха таить – коньяк живительно вливался в жилы, немножко туманил голову и приглушал ту привычную боль и тоску, которые стали уже обязательной ношей и неотрывными спутниками моей сути.
И когда девочка-официантка принесла кофе – знатный, его здесь варили на песке, ароматный и жгучий, неведомо откуда ко мне подошла цыганка.
Породистая, красивая. Уже пожившая. Время уже стало властвовать над ней – её губы покрывались поперечными морщинками, да глаза – подвыцвели.
Но самое прекрасное, что у неё было – волосы, не дикие, как у многих цыганок, а красивые, блестящие, они были собраны в высокую причёску, которая так ей шла.
Опять же – очень красивые и ухоженные руки, с длинными и тонкими пальцами, ярко накрашенными ногтями, да выражение чёрных, огромных глаз…
Ох, уж эти глаза! Я – не слабый человек, выдерживаю любой взгляд, не отвернулся и от её пылающих и страстных глаз, но не соревнуясь, а любуясь ими, всей её грациозной фигурой в пору высшего расцвета женской зрелости и красоты.
И она это поняла, красиво улыбнулась, и тихо и просто сказала:
– Нравлюсь?
– Да, нравишься. Очень красивая.
И тут же – просительно, к ней:
– Посиди со мною!
– Если хочешь что – скажи или закажи сама. Не смущайся, я всё оплачу.
– Спасибо, – тихо сказала она, – я бы немножко съела чего-нибудь.
– А выпьешь?
– Да, глоток вина. Мне много нельзя. Голова сильно потом кружится.
Всё это она говорила так просто и так естественно, что я даже забыл, что говорю с цыганкой.
Это была приятная собеседница, красивая и яркая, хотя уже и отцветающая женщина.
Но так, как и сам был уже не юношей пылким, то любовался ею откровенно, как представителем таинственного и неведомого мне народа.
Нет, это не было чувством мужчины к желанной, хоть на миг, женщине, а это действительно был интерес к неведомому, иному человеку, представителю иной цивилизации, иного мировоззрения и, быть может, даже иной культуры и морали.
И она это поняла:
– Не смотри на меня, как на диковинную вещь, не надо. Я точно такая, как и ты.
Грустно усмехнувшись, продолжила:
– Так же чувствую, страдаю… Может быть, способна больше, нежели ты, понять другую душу.
Официантка приняла дополнительный заказ, с видимым сожалением посмотрела на меня, но другую половину стола, за которым сидела цыганка, накрыла споро и красиво.
Цыганка ела удивительно красиво, никуда не торопясь.
Взяла бокал, посмотрела мне внимательно в глаза и сказала – так просто, как говорит старшая сестра младшему брату:








