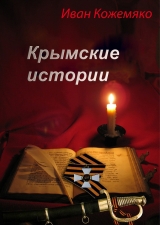
Текст книги "Крымские истории"
Автор книги: Иван Кожемяко
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
Сегодня, обращаясь к этим светлым дням юности, я в глубоком поклоне склоняюсь пред этим дивным и святым человеком и молю Господа о Его расположении и милости к ней.
За великую щедрость сердца и чистую душу свою – она заслуживает наибольшего благоприятствования от Господа по дороге жизни.
Маловероятно, что суждено нам увидеться ещё раз, поэтому я и обращаюсь к Творцу – пусть Он её хранит и семью её.
Когда-то ты написала мне, милая Лариса:
Ну, прощай, дай на счастье руку,
Уходи, растворись во мгле.
Уходи и не трожь мою муку –
Пусть она останется мне.
Ну, прощай, далека дорога,
И у каждого – только своя.
Мы пройдём через всё понемногу,
Не завидуя, не таясь.
Ну, прощай, дай на счастье руку,
Всё дороже улыбка твоя.
Уходи и не трожь мою муку –
Пусть она будет только моя.
Я помню эти строчки, милая Лариса. И уже никогда не забуду их.
Жизнь, действительно, у каждого только своя. И необходимо и в ней начинать подводить итоги – ради чего жил; что и кого любил; что сделал достойного внимания и признания людей?
Сколько выстрадано, вымучено, сколько утрат и невосполнимых потерь осталось – так, что душа порой обугливалась.
Но, если я это вынес, превозмог, преодолел, выжил, то во многом – благодаря и тебе, милый друг, в том числе и тому, что храню в душе память о том мгновении, которое было прекрасным.
Невозвратном и святом.
***
Само святое в жизни
– принять на свои руки
новую жизнь.
И. Владиславлев
РОДЫ В АЛУШТЕ
Единственный раз, по молодости, мне неслыханно повезло.
Начмед армии ПВО, что была в Минске, где я был комсомольским работником, до сей поры помню даже, что его звали Валерием Николаевичем Кабановым, встретив меня утром неожиданно предложил:
– Комсомолец, если договоришься с отпуском, у меня есть горящая путёвка в Алушту.
Дело было где-то в мае–июне и я тут же направился к необычайно интересному человеку – Николаю Антоновичу Стрелецкому, заместителю начальника политотдела армии. И он, что было совсем уж против правил, с лёгкостью меня отпустил в отпуск.
На второй день я вылетел в Симферополь.
Не стал даже заезжать к сёстрам, проведать их решил на обратном пути и уехал из аэропорта, троллейбусом, в Алушту.
И здесь меня ждали два необычайные события, которые я не могу забыть и до сей поры.
Первую половину отпуска я провёл с командиром полка, помню, что его звали Володей.
Мы жили в двухкомнатном номере, где все удобства – посредине, общие, а комнатки, маленькие, но аккуратные и чистые, были на каждого.
В первый же день, после знакомства, мой насельник пригласил меня прогуляться по набережной.
Набережная в Алуште – удивительная, на мой взгляд – самая красивая и удобная изо всех крымских курортов. Тянется она километров на семь–восемь, по моему представлению.
И пока мы дошли до набережной, мой визави – предложил мне отведать крымского портвейна, который продавался на каждом углу.
Отведав стаканчика три–четыре, больше я не мог, так как в ту пору я вообще не пил, а Владимир, помнится, и гораздо больше – мы стали пребывать в столь благостном настроении, что мир вокруг нас стал окрашиваться только в светлые, жизнеутверждающие и радостные тона.
Погуляв по набережной, мы пошли в обратный путь. Дело шло к обеду.
И на обратном пути мой старший товарищ настоял, чтобы мы ещё, в меру сил, обратились к Бахусу.
Я осилил ещё стаканчика два, не больше, и в добром и светлом настроении мы пошли на обед.
К слову, кормили в ту пору очень хорошо, система питания в санатории была заказной и я, как впервые попавший в эту благость, находился на вершине блаженства.
Но, к несчастию, мой сосед по номеру превратил моё пребывание в санатории в пытку.
Каждое утро, лишь всходило солнце, он тащил меня на набережную, по-моему, мы даже не купались, но зато все подвальчики и даже бочки на всех углах, где торговали портвейном в разлив, и стоил он что-то копеек двенадцать за стакан, мы обошли за эти дни.
Крымский портвейн – это особая история. Это не та «бормотуха», которую пили опустившиеся мужики в центральной России.
А крымский портвейн – это было чудо виноделия, вкусный, густой, ароматный, он даже не так бил в голову, как сковывал движения, ноги становились словно ватными, но рассудок при этом был ясным и светлым.
И радость сердечная, да, да, именно – сердечная, призывала к добру и союзу со светлыми людьми. Вот такой он был, в ту пору, крымский портвейн.
Но, тем не менее, я с великим облегчением встретил весть о том, что Владимир уезжает, его отпуск подходил к концу.
И я проводив его, по-братски обнявшись и выпив на дорожку того же портвейна, залёг спать и проспал почти сутки.
Весь следующий день я не выходил из воды и радовался жизни.
«Слава Богу, – думал я, – наконец-то – отдохну».
Помню, что мне даже какие-то грязи назначили и я, с радостию, стал принимать эти моционы.
Через день-два, придя с пляжа, увидел, что в номере я не один.
Майор, врач-хирург Александр, составил мне компанию по дальнейшему пребыванию в санатории.
Мы очень подружились, он был старше меня на четыре-пять лет и всё время проводили вместе.
Портвейн мы тоже пили, но в значительно меньших объёмах.
И я, поправив пошатнувшееся здоровье, даже стал бегать по утрам по набережной, пробегал до семи-восьми километров утром.
Однажды вечером, прогуливаясь по набережной, иных увеселений мы не искали и счастливо избегали откровенных ухаживаний опытных дам, которые были столь вероломно настойчивы, что во мне это вызывало только брезгливость и возмущение, услышали душераздирающие крики женщины.
Будучи людьми пристойными, мы тут же ринулись на крики.
Я недоумённо остановился – на скамейке каталась женщина, с огромным животом и что-то кричала, как потом выяснилось, на армянском языке.
Александр, доктор, видать, был очень опытный, сразу же определил:
– Роды! Давай, беги к телефону, звони, вызывай «Скорую», а я – здесь…
И я унёсся. Не помню уже, по-моему в каком-то магазине мне дали телефон и я, как мог, с помощью продавщиц, которые уже поняли суть проблемы, объяснил «Скорой» куда надо ехать.
И тут же, бегом, устремился к месту происшествия. Только добежал туда – увидел, что уже зеваки окружили всю скамейку и давали Александру советы, что и как делать.
Он долго терпел, а потом всех шуганул таким матом, что народ, минуту приходя в изумление, затем разразился таким хохотом, что и влюблённые пары повыскакивали из кустов, где разрешали, кто как мог, свои извечные проблемы.
В наступившей тишине Александр добавил:
– Теперь я знаю, почему нельзя полюбить женщину на Красной Площади – много советчиков будет.
Народ, по новой, зашёлся от хохота, у многих из глаз даже полились слёзы.
Зевакам очень понравился этот деловой врач, который со знанием дела принимал роды. Но после его «любезностей» уже никто не давал ему советов и отойдя в сторону – не спешили уходить, а всё ожидали, чем завершится эта история.
Через несколько минут родилась девочка. Мне даже кажется, что сама атмосфера добра и участия облегчили страдания матери и она легко и быстро явила новую жизнь.
У меня младенец на руках Александра вызвал страх и какую-то оторопь
Завидев меня он повелительно крикнул:
– Майку и рубашку – снимай!
Я без раздумий снял майку и хотя она была влажной, я же бежал, и не очень подходила для малышки, но другого у нас ничего не было.
Он завернул девочку в мою майку, а затем – и в рубашку, сел возле измученной, но счастливой матери и что-то стал ей говорить.
Добрая улыбка украсила её лицо и мне показалось оно необыкновенно красивым, этакая мадонна, уже худенькая и молодая, лежала на скамейке и всё норовила как-то прихорошиться и поправить своё мокрое и помятое платье.
А тут и «Скорая « подоспела.
Мой товарищ профессионально объяснился с подъехавшим врачом или фельдшером, не помню, выдал им советы и мы пошли к морю мыть руки.
Но он-то был в какой-то тенниске, я же – шёл голым по пояс, в одних джинсах и чувствовал себя не очень уютно, хотя на Юге никого и ничем, мне думается, уже не удивишь.
Мы дошли до санатория, в номере – был повод, распили бутылку коньяку и проговорив до полуночи – уснули сном праведников.
Правда, говорил в основном я и всё восторгался своим приятелем.
Утром мы проснулись от страшного топота в коридоре. И такого гомона, что даже подумали о каком-то стихийном бедствии, а поэтому, едва натянув джинсы, выскочили за дверь.
И тут же попали в крепкие объятия множества армян, их было человек шестьдесят, не меньше.
И все они несли в руках какие-то корзины, коробки, свёртки, ящики.
Тут же, даже не спрашивая нас, в моей комнате они соорудили стол, а вернее – нечто экзотическое и такое невообразимо красивое, что мы с приятелем занемели – там стояло, по меньшей мере, двенадцать-пятнадцать бутылок коньяку, фрукты, какое-то мясо, я и не знал ещё тогда, что это – бастурма, коробки конфет, их множество.
Остальные коробки и сумки, пакеты и ящики, стояли на полу, на моей кровати, на подоконниках.
С этого дня наш отпуск и отдых закончился окончательно.
Мы каждый день приглашались в гости, нас везде принимали, как национальных героев.
К слову – и мать, и девочка чувствовали себя превосходно, никаких осложнений не возникло и через несколько дней мы имели счастье и честь держать этого маленького человечка на руках, к появлению на свет которого имели некоторое отношение.
И мне казалось, что он осмысленно смотрел мне в глаза и что-то, самое главное, понимал из происходящего вокруг.
После этого события, хорошо помню одно, что я впервые, в двадцать шесть лет, почувствовал, что у меня болит сердце, а от одного вида коньяку мне становится дурно.
И долго мне пришлось убеждать молодую и любимую жену, что никаких иных курортных грехов за мной не числилось. Да и не падок я на них.
Знать бы судьбу той девочки сегодня. Что она и как? В какой стране?
Убеждён твёрдо в одном, что даже только наша искренность в тот день не должна позволить ей стать дурным человеком.
Счастья Вам всем, милые люди, кто эту историю помнит.
Мы тогда, в ту пору юности, были единым народом и не делили наше Великое Отечество на национальные анклавы, а где-то – и на националистические, и даже – людоедские.
Что же ты учинил, Господь, с детьми своими? Зачем позволил им с пути братства и добрососедства свернуть – на заросшую тропу эгоизма и кичливости, национальной ограниченности?
И уже ведь – не первая даже кровь пролилась, но она ничему не научила двуличных, корыстных и подлых политиканов.
Отпылал Карабах, Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия, кровью изошла Чечня, никакого просвета не видно в Ингушетии и Дагестане, настоящая война испепелила Ош, Фергану, дружелюбный Узбекистан, трудолюбивый Таджикистан…
Начали воевать с памятниками освободителям и победителям, а Вию Артмане – выбросили умирать на улицу в Риге.
И наш минкульт, у которого один Пиотровский разворовал Эрмитаж на миллионы, так и не смог ей, Народной артистке СССР, купить в Риге квартиру, чтобы она в ней закончила свои последние дни.
Зато – Собчаку, уничтожив захоронения Святых, в Русской Земле воссиявших, воздвигли целый, в Ленинграде, целый пантеон.
Даже на поминки Мирей Матье выписали, из Франции.
И Солженицына, лютого врага России, вдохновлявшего уже в наше время поход всех зарубежных сил против неё, упокоили рядом с гением Земли Русской Василием Ключевским, который никогда, ни при каких обстоятельствах, не стал бы и стоять рядом с «ВЖК», «вечно живым классиком», по меткому определению фронтовика Владимира Бушина.
Был бы оскорблён запахом серы, как от дьявола, который исходит от этого предателя и труса, навуходоносора и клеветника.
А его нам, в оправдание происходящего в России, вменяют к обязательному изучению в школах и вузах… Даже премии его имени учредили.
А атомные лодки тонут, а людей, как на войне, убивают в усобицах, захватах, на рынках, а старики сгорают, десятками, на пожарищах…
Каждый день горит и взрывается Москва, в которой уютно только двоим – мэру всех времён и народов и его супружнице-миллиардерше…
Разве такое было возможным в ту светлую пору, когда мы сами были почти святыми?
***
Первое чувство, первая любовь
всегда остаётся в нашей памяти.
И мы, благодаря этой памяти,
делаемся лучше на всю
оставшуюся жизнь.
И. Владиславлев
ЕРЕНА
Эту молодую женщину со столь странным старинным польским именем он заметил сразу.
Она нисколько не старалась ему понравиться. Она просто знала, что она ослепительна и умна, и среди окружающих его людей остаться незамеченной не могла, если бы этого и очень хотела.
И вела себя в соответствии с этой данностью – была приветлива и ровна со всеми, и с ним тоже.
И только много позже он заметил, что дивным светом её тёмно-карие глаза зажигались только тогда, когда Она встречалась с ним.
Приятели привычно называли Её Ириной, а ему так нравилось её первозданное имя и он его, как молитву, шептал, оставаясь с собой наедине: «Ерена, Ерена, Ерена…».
Откуда залетела эта веточка, этот листок неведомой ему жизни и истории – он долго не знал.
Но сдержанное благородство в повседневной жизни, высокий такт и умение себя держать в любой обстановке и легко нести своё естество среди множества людей, были у неё природными, воспитанными во многих поколениях и переданными ей от предков.
Это уже потом он узнал, что род Её происходит от древней польской знати, которая, века назад, осела на Брестской земле.
А в пору первых дней, месяцев его знакомства с Нею, он всегда поражался – откуда она впитала в себя эти манеры; эту речь; эту искрящуюся улыбку. К слову, она никогда не смеялась в полный голос, как это делали другие, а лишь мило и тихо улыбалась.
И ничто не могло её заставить вести себя по иному.
Он запомнил миг знакомства с нею на всю жизнь – не он, а она, первой, подошла к нему и представилась:
– Ерена, Ерена Каленикова. Почему Вы сторонитесь всех? Давайте к нам. Мы же все должны быть вместе, как товарищи, как единомышленники.
И если к этому добавить, что этот разговор состоялся на бюро горкома комсомола, куда он был избран, как комсомольский работник корпуса – представление будет наиболее полным.
Он сразу обратил внимание – на её правой руке было обручальное кольцо.
У неё изломались густые чёрные брови при этом. Почему-то её встревожил этот его откровенный взгляд, и она даже руку убрала. Непроизвольно, за спину.
И с этой минуты с ним стали происходить странные вещи: он всё время искал встречи с Нею, а встретившись же с ней, даже случайно – сторонился её, мучительно краснел и отвечал только односложно на все её вопросы, хотя по природе был коллективистом, начитанным и весьма воспитанным молодым офицером.
И уж сущей мукой и пыткой для него стала встреча с её семьей на дне города.
Она не видела его. И он получил довольно продолжительное время, чтобы рассмотреть её со стороны – нарядную, яркую, очень модно и со вкусом одетую – так в ту пору одевалось очень мало людей.
Красивое, узкое платье выгодно подчёркивало всё совершенство её безупречной фигуры. Сильной, женственной, с развитой грудью женщины, которая уже выносила и выкормила ребёнка.
Точёные ноги в лакированных туфельках на среднем каблучке, делали Её ещё стройнее и выше.
Рядом с ней был молодой мужчина, с богатой шевелюрой, которого портило единственное – какие-то беспокойные руки, которые всё время перебегали с пуговиц костюма – на галстук, с галстука – что-то искали в карманах и вновь расстёгивали-застёгивали пуговицы пиджака.
Один раз капитан даже встретился с ним взглядом, и тот, совершенно не зная его, почему-то недружелюбно и даже зло, выдерживая характер, смотрел в глаза молодому военному, долго не отводя свой взгляд от его лица.
Наконец, не выдержал, как-то часто заморгал и тут же отвёл свои глаза в сторону и даже на пол-оборота отвернулся от незнакомого военного.
И Она это почувствовала. Как-то инстинктивно прижала к себе голову мальчика, лет шести–семи от роду, и стала скользить взглядом по праздничной и шумной толпе.
И когда её взгляд встретился с его глазами, Она вздрогнула и стала густо алеть всем лицом.
Её муж заметил эту неведомую для него раньше перемену в своей жене. Лицо его стало каменным. Даже пот выступил на лбу, который он отёр просто ладонью левой руки.
Было видно по артикуляции его губ, как он спросил: «Ты – чего? Что случилось?»
Её губы донесли до военного – безмолвное, на расстоянии: «Что-то очень устала. Жарко. Пойдём отсюда…».
И уходя – ещё раз опалила светловолосого капитана своим глубоким, словно заглядывала в душу, взглядом.
Так и тлели эти неопределённые отношения весьма длительный период.
Он мучительно осознавал, что встреча с этой роковой женщиной поломала все его планы, круто изменила всю жизнь.
Он расстался с милой и тихой девушкой, без объяснения причин, которую ему прочили в жёны, и сам напросился в Афганистан.
Правда, не удержался, и через знакомого офицера, попросил его об этом, передал ей огромный пакет. В нём было множество стихов, которые он написал ей. И после этого запретил себе даже думать о Ней.
Когда один современный дуболом по фамилии Аксёнов, в своих злобных измышлениях о войне заставил своего героя сказать, что война – это лучшие годы его жизни, он, услышав эти слова, холодел от ярости и бессильной ненависти.
Любая война – это кровь, это жертвы, это потери близких людей. И каким же надо быть негодяем, чтобы сказать, что среди смерти и утрат проходят лучшие годы жизни.
Он был твёрдо убеждён, что так не может думать даже откровенный негодяй.
Поэтому он страшно не любил вспоминать эти годы своей жизни, которые у него забрал Афганистан.
И отмечен был высоко и достойно, полковничьи погоны были уже на плечах, и звезда Героя Советского Союза на мундире свидетельствовала о достойном пути его обладателя, а он не мог – годы и годы – спокойно жить, забыться, создать семью.
И неотрывно думал о Ней, своей несбывшейся мечте, своей Ерене.
Хотя и была с Ней единственная встреча, которой он так высоко дорожил, и которая освещала ему весь жизненный путь. Яркая, красивая и совершенно случайная.
Он уже не помнил, куда ехал на служебном УАЗике, по краю огромного поля ржи.
И по самой его кромке сиял в солнечных блёстках небесно-синий ковёр васильков.
Неведомо какое чувство вело его, но он попросил водителя остановиться на краю этого поля и стал собирать букет васильков.
Увлечённый этим занятием, он не слышал, как возле его УАЗика остановился жигулёнок и из него вышли две женщины.
Одна – чуть постарше, а вторая – молодая, яркая, со жгуче-чёрными волосами, собранными сзади в простой «хвост».
И очнулся он только тогда, когда за спиной услышал Её голос:
– Как жаль, что не мне предназначается этот дивный букет.
Он даже вздрогнул от неожиданности, резко повернулся к ней, да так, что рассыпал цветы, и они синей волной упали возле её ног.
Она смутилась:
– Ну, вот, помешала я Вам… Я так долго смотрела за Вами. Такое хорошее лицо было у Вас при этом.
И совсем уж неожиданно вырвалось у Неё, против воли:
– Вы очень красивы…
И Она своей дивной рукой дотронулась до его богатых волос и отвела рассыпавшуюся прядь набок, открывая его высокий и чистый лоб.
При этом рукав её лёгкого платья, так ей идущего, опустился мягкой складкой на плечо, обнажив руку – женственную, столь совершенную, что он даже не к месту подумал: «Жаль, что я не художник. Нарисовать бы эту красоту…».
Глубокий вырез платья открывал верх её груди, которая была столь красивой, налитой и загоревшей, что у него даже закружилась голова от переживаемого волнения.
Она видела его состояние. Сама в чрезвычайном напряжении даже закусила свои дивные губы, которые просто манили к себе – чувственные, чуть открытые, в правом уголку которых образовалась при этом трогательная ямочка.
И тут же, решившись, со стоном и болью, тихо сказала:
– Господи! И где ты взялся на мою голову? Я так спокойно жила. Всё было определённым и понятным. Никаких метаний, никаких шараханий.
Знала, что муж – меня любит, я относилась к нему с уважением, хотя и не любила. Нет, не любила и не люблю. Но многие ли любят взаимно?
А тут – ты… Зачем? Я мерзкая, я гадкая, но я не могу и минуты прожить, чтобы не думать о тебе, не вспоминать эти глаза…
Она даже застонала:
– И если бы не сын, – и при этих словах слёзы полились из её глаз.
Он стоял оглушенный её признанием, в котором она, неведомо для чего, пошла даже дальше:
– Я даже спать стала в комнате с сыном. Нахожу любой предлог, любой повод после встречи с тобой, чтобы не быть… не быть с мужем.
Он меня не понимает. Работаем ведь вместе, и если бы у меня был какой-то роман – он бы всё видел. И, наверное, ему было бы легче.
– А так – непонятно, отчего я так переменилась. Он этого понять не может и от этого страдает.
– Вы зачем мне всё это говорите? – он сказал это тихо. Но ярость сквозила в каждом его слове.
– Вы живёте в нормальной семье и Вам только хочется оставить непорушным свой покой и все свои устои. Вы не знаете совсем, как живу я. Да и живу ли вообще?
Повернулся к ней – глаза его горели. А душевная мука так исказила его лицо, что оно стало бледным, как полотно.
– Я ведь только и живу тем, что предо мной, везде, Ваши глаза. Сейчас, сию же минуту, если я Вам дорог, Вы должны быть со мной. На интрижку, на тайные и ворованные встречи – я никогда не пойду.
Думайте и решайтесь.
Она вся обмякла и слёзы, ручьём, полились у неё из глаз.
– Господи, родной мой, хороший, а я-то думала, что совершенно тебе безразлична, что не нужна тебе. Теперь мне так светло на душе…
И уже не спрашивая его ни о чём и не говоря ему больше ничего – стала иступлённо целовать его в губы, в лоб, в щёки.
Обняла, со стоном оторвалась от него – гибкая, прекрасная и твёрдо сказала:
– Я всё сегодня скажу мужу. Я тоже не хочу ворованного счастья и жизни, прежней, не хочу.
И уехала с подругой, которая всю сцену наблюдала с нескрываемым ужасом на лице, изумлением и какой-то невысказанной болью.
А вечером, в гостиницу, где он проживал, пришла она, её подруга, и принесла ему письмо.
Говорить ничего не стала, а только попросила прочесть письмо в маленьком красивом конверте, от которого явно был слышен запах дорогих духов, только лишь по её уходу.
Он тупо уставился куда-то в окно и ждал, пока эта женщина уйдёт. Оставит его наедине со своими ставшими в миг горькими мыслями.
Письмо он не прочёл. Он и так знал, что пишут в подобном случае, когда страшатся сами сказать пусть горькую, но честную правду.
Он его сжёг над пепельницей и завтра же, благо, в дивизию пришла разнарядка, напросился в Афганистан.
И вот, после более чем девяти лет, а он упросил руководство армии, и его оставляли в Афганистане, к чьей-то вящей радости, трижды подряд, до самого вывода войск, он возвращался в город, где стояла его дивизия, и куда он был назначен начальником политического отдела.
Но это был и Её город. В нём жила Она, та, которую он не забыл, и которая так и осталась в его сердце. И он знал, что это уже навсегда. Как знал и то, что никогда не простит ей того визита подруги. И того письма, которого он так и не прочитал.
Приняв дела и вступив в должность, через несколько дней он поехал представиться городским и партийным властям.
Секретарь горкома партии, молодая и энергичная, обаятельная Лилия Николаевна Якимчик, приняла его тепло и сердечно.
Тут же заявила, что на партийной конференции будет рекомендовать его в состав бюро горкома.
К слову, они были очень дружны весь последующий период совместной работы. И он всегда восхищался этой умной, яркой и даровитой женщиной, которая так органично и умело совмещала в себе и талантливого партийного работника, и мать троих детей, и тонкого, просвещённого человека.
В один из дней, когда он прибыл по её приглашению в горком партии, она предложила:
– Я сейчас познакомлю Вас с членами бюро горкома. С этим составом, за исключение двух-трёх человек, мы их всех предлагаем на выдвижение, мы намерены выходить и на партконференцию, и на будущие выборы.
И не была бы она женщиной – красиво улыбнувшись и даже заалев, слегка, лицом, заявила:
– Край наш – текстильный. В составе бюро – три четверти – женщины. Вот они мне уже все уши прожужжали: «Лилия Николаевна! Вы бы хоть познакомили нас с Героем. А то мы только слышим, что новым начальником политотдела дивизии назначен Герой, молодой полковник. Да ещё говорят, что он и не женатый».
Всё это она ему выпалила за минуту и тут же кому-то позвонила:
– Нина Григорьевна, приглашайте членов бюро горкома, пусть заходят…
Он считал себя сильным человеком. Но когда дверь в кабинет секретаря горкома открылась и на пороге появилась женщина необычайной красоты – у него закружилась голова и пол качнулся под ногами.
До него донёсся голос Лилии Якимчик:
– Знакомьтесь, Владислав Святославович, это наш секретарь горкома партии по идеологии, Ирина Николаевна Каленикова. К слову, как и Вы – кандидат философских наук…
Больше он ничего не слышал.
Пламя полыхнуло в его голове, сразу стало нестерпимо жарко и он, не объясняя никому и ничего, поспешно вышел из кабинета первого секретаря горкома партии.
***
Утром следующего дня, ещё только чуть рассвело, к нему в дивизию приехала первый секретарь горкома партии Лилия Якимчик.
Мило побеседовала, несколько минут, с комдивом, прославленным и любимым всеми генералом Лобановым, который куда-то спешил, и осталась с ним, начальником политотдела, наедине.
– Владислав Святославович, Вы простите меня, что я встреваю, наверное, не в свои дела, но Ирина – не только секретарь горкома, она – самая близкая моя подруга. Поэтому быть в стороне от разыгравшейся драмы – я не могу. Хочется, хотя бы немножко, и себя уважать за имя и звание человека.
Остановилась, справилась со своим волнением и продолжила:
– Господи, как же я не догадалась сразу, что это – Вы. Она же мне всё рассказывала о Вас, о вашей встрече с нею в молодости.
Тяжело вздохнула, присела на край стула, как-то виновато попросила у него сигарету, умело затянулась душистым дымом и повела речь дальше:
– И о том поступке подруги, на который она её не уполномочивала.
Посмотрела ему в глаза. Словно решаясь на какое-то важное сообщение, и громче, чем надо было, сказала:
– Она, Владислав Святославович, уже девять лет одна – после Вашей встречи у ржаного поля, с васильками. Она всё честно рассказала мужу и тут же ушла, с сыном, к своей матери.
Необходимо было несколько дней, чтобы придти в себя. Просто собраться с мыслями. Не много я знаю женщин, способных на такой поступок.
На второй же день она собиралась встретиться с Вами. Уже… на всю жизнь и всё Вам объяснить. Представьте, то время и те условия, для комсомольского работника города – шаг более, нежели смелый.
Да, видать, не рассчитала своих сил и слегла в горячке от пережитого. Болела долго и тяжело. А когда встала на ноги – узнала от руководства части, мне при этом не говорила ни слова, что Вы уже убыли в Афганистан.
– Господи, что с ней происходило несколько месяцев. Она мне даже сказала на второй день:
«Лиля, если он погибнет – в этом будет моя прямая вина. И я не буду жить ни мгновения, ты это знай. Только сына… тогда досмотри, не отдавай его никому, он ведь вырос с твоими ребятами».
– Владислав Святославович, идите к ней. Она ждёт Вас. Идите! Я знаю, как Вы – оба, выстрадали своё счастье. Идите, сейчас же.
И только он хотел что-то ей сказать, она закрыла его губы своей нежной и вместе с тем – твёрдой рукой, и сказала, глядя ему прямо в глаза:
– Господи! Я-то думала, что так любят только в книгах, да в кино. Как я ей завидую, что ей такая любовь встретилась.
Идите к ней. Иначе – Вы мне больше не друг.
Он, даже не попрощавшись с Лилией Николаевной, быстро вышел из кабинета, почти бегом устремился по ступенькам вниз, без фуражки, сел в свой служебный УАЗик и велел водителю ехать к горкому партии.
Возле рынка увидел девочку, в корзинке которой были туго связанные букетики васильков. Великое множество их. Он не любил таких букетов. Они были фальшивыми и совершенно не похожими на природное буйство этого цветка.
Поэтому, отдав деньги юной продавщице, взял из корзины несколько букетиков, попросил их развязать, и объединив их в синее море, поехал дальше, прижимая к лицу терпко пахнущие васильки.
На ступеньках здания стояло множество людей, видно, в горкоме проходило какое-то совещание.
Он ответил на приветствия, с которыми эти люди, не зная, кто он такой, его встретили, и вошёл в здание горкома партии.
Сообразил, что коль Она, его Ерена, секретарь по идеологии, значит, и Её кабинет где-то рядом с кабинетом первого секретаря горкома.
Не спрашивая разрешения у растерянной секретарши, прошёл через приёмную и открыл дверь, на которой на аккуратной табличке, красного цвета, бронзовой краской было написано: «Секретарь горкома партии товарищ Каленикова И. Н.».
Прямо у двери, словно зная, что он появится именно сейчас, стояла Она.
Лицо было измученным, чёрные круги под глазами говорили о бессонной ночи, но глаза, Её глаза, сразу же загорелись дивным светом, и Она вся устремилась навстречу ему.
Он, от неожиданности, рассыпал букет васильков у её ног и, слава Богу, что успел подхватить её в свои крепкие объятия, так как она потеряла сознание и упала бы в обмороке.
Через несколько мгновений она пришла в себя, всем телом прижалась к нему и еле слышно сказала:
– Господи, как же я тебя ждала. Всю жизнь ждала и знала, я знала, что мы непременно встретимся. Иначе было бы страшно несправедливо.
И только в это мгновение он увидел у неё на столе, в строгой маленькой вазе, букет васильков.
Она перехватила его взгляд, уткнулась ему в грудь лицом и прошептала:
– С той далёкой встречи – я только васильки и ставлю на стол. И здесь, и дома.
И они, оба, не размыкая объятий, удивлённо смотрели на многих людей, которые встали из-за стола в её кабинете, где она проводила совещание.
Опомнившись, но не отпуская его от себя, она сказала:
– Товарищи! Это – он! Моё счастье и моя судьба. Мы так долго, целую вечность, шли навстречу друг другу. И целую вечность не виделись.
И люди, ничего не говоря им в ответ, со светлыми улыбками, тихонько стали выходить из её служебного кабинета.
А они так и стояли недвижимо, боясь пошевелиться и потревожить своё запоздалое счастье.
Единственное, что Она сделала, освободив из его объятий одну лишь руку, дотянулась и взяла со своего стола красиво переплетённую книгу и протянула ему.
Открыв, так же одной рукой, не выпуская из другой её дивное тело, которое доверчиво на неё опиралось, первую же страницу этой книги, он задохнулся от волнения и счастья – это были его стихи, которые в далёкие годы он написал и посвятил ей и передал через своего сослуживца, отправляясь в далёкий Афганистан.








