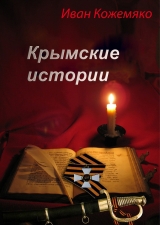
Текст книги "Крымские истории"
Автор книги: Иван Кожемяко
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
– Хорошо, предприму все возможные меры.
И завтра же – доставлю детей к тебе. Думаю, и они своё слово скажут.
***
Господи, как же он ждал этого дня. И когда заслышал шаги по коридору: чёткие и звонкие – сына; уверенные и тяжёлые – Юрия Алексеевича; и среди них – лёгкие, с детским шарканьем – дочери, он поднялся на руках, сел в кровати – попросил, его с утра побрили, одели в форменную рубашку, с новыми генерал-лейтенантскими погонами – и весь устремился навстречу детям.
– Папа, родной, – прямо с порога прокричал сын и тут же метнулся к нему, заключил в свои объятья и затих на груди.
– Папочка, папочка, – залепетала дочь, уже выросшая, красивая, с белыми бантами в роскошных, – «Её», – подумал он, – волосах.
– Ты меня, с Вячеславчиком, заберёшь к себе? Я не хочу жить с этим противным дядькой, которого мама заставляет папой называть.
И требовательно, не выпуская его из своих объятий:
– Заберёшь?
– Да, моя хорошая. Заберу, непременно заберу. Вот я только немножко подлечусь и сразу же заберу. И мы будем втроём жить, вместе.
– А мама? – наивное дитя, но оно спросило и об этом.
– Мама – нет, солнышко моё, я её обидел и она мне этого простить не может.
– Папа, – я уже взрослая, не говори глупостей. Ты не можешь никого обидеть. Ты – самый лучший. Это она, этого Григория Ильича привела.
Состроив уморительную рожицу, как заговорщица, прошептала ему на ухо:
– Ругаются каждый день. Я не хочу там больше жить. Ты заберёшь меня к себе?
– Заберу, мой ангел. А туда ты больше не вернёшься.
– Пока я в госпитале – поживёшь у дяди Юры. Они тебя, с Адель Сергеевной, помнишь, мы были у них несколько раз – хорошо знают. А я скоро выйду из госпиталя и мы будем вместе.
Юрий Алексеевич, при этих словах, обнял малышку за плечи и она доверчиво, как к родному, к нему прильнула.
***
Так бы эта история и закончилась.
Врачи действительно совершили чудо и месяцев через пять он впервые, опираясь на один костыль и трость, вышел на воздух.
Было неловко, больно, но он, попроси, никому его не сопровождать, шёл по госпитальной аллее и радовался солнцу, свету, пению птиц, а самое главное тому, что он может передвигаться самостоятельно, а значит – жить, быть полезным делу, которое было для него в жизни главным.
Растить детей, которые так прикипели к нему, что бывали у него почти ежедневно.
Минул ещё месяц. Он привык к протезам и стал ходить уже более уверенно и мало кто догадывался, что у него нет своих ног.
Всем казалось, что этот молодой генерал был просто ранен и теперь, идя на поправку, ещё прихрамывает.
В один из дней в его палату не вошла, а ворвалась она.
И прямо с порога стала кричать, что она всю жизнь его не любила, всю жизнь была с ним лишь ради того, чтобы жить широко, с размахом, в столице и только в столице.
А он – и здесь ей во всём мешал. Она встретила человека, который мог бы дать ей всё, но его, «по твоей милости», – перешла она на визг, – «вышвырнули со службы, лишили всего».
«А тут ещё, – она уже билась в истерике, яростной и страшной, – этот, твой Кошелев, меня даже на порог дома не пустил. И дочь – не вышла даже ко мне. Она заявила, что я более ей не мать. Это же – твои наущрения.
А сын, сын – такой же фанатик, как и ты.
О, как же я тебя ненавижу! Ненавижу!»
Он вытерпел и это, глядя ей неотрывно в глаза. Спокойно лежал на кровати, только кровь отлила у него от лица, да стала подёргиваться, как это бывало у него в минуты наивысшего волнения, верхняя губа, с правой стороны.
Но когда она увидела возле его кровати протезы – стала просто бесноватой.
«И ты, обрубок, хочешь, чтобы я – посмотри на меня – осталась с тобой? Это же – всё равно, что жить с юродивым.
Мне тебя даже видеть противно, противно и гадко».
Он, при этом, с ухмылкой ярости вглядывался в это лицо, бывшее некогда родным. И видел, что в данное время она явно завышает собственные самооценки.
Прежнего лоска на ней не было видно. Лицо обрюзгло, она сильно располнела, двойной, тяжёлый подбородок, так не шёл ей и сильно портил лицо, делая его отталкивающим и неприятным.
Да и костюм прежних лет – ей был сильно маловат и облегал все её округлости, словно выставляя их напоказ.
На её крик сбежались многие врачи, а молоденькая сестричка, которая раньше дежурила у него, храбро схватила её за рукав и пыталась выдворить из палаты. Но она – оттолкнула это девочку и вновь устремилась к нему.
– Уйди, – почти спокойно сказал он, глядя на искажённое яростью её лицо.
– Мне неприятно тебя видеть. А детей же – забудь, я тебе их, ни при каких обстоятельствах, не отдам. Я найду, что сказать на суде.
С брезгливой миной, внятно произнёс:
– Пребывание рядом с тобой грозит их нравственности.
И, словно освободившись от чего-то, что мешало ему, спокойно и твёрдо заключил:
– Заявление о расторжении брака уже в суде. Вот моё последнее слово.
И он даже отвернулся к стене, чтобы не видеть её, Лечащий врач – стал решительно оттеснять её к выходу.
Она же, в помутнении рассудка от ярости и бессилия, схватила его протезы и бросила в него. Один попал ему по голове, а второй – настолько больно ударил по ампутированным ногам, что он, на мгновение, потерял сознание.
Кровь ударила ему в голову…
И очнулся он лишь тогда, когда в его пистолете не осталось ни одного патрона.
Она, отброшенная выстрелами к стене, стала сползать по ней спиной, оставляя на панели кровавые следы.
Врачи и сёстры, от страшной неожиданности вжавшиеся в стены, кинулись к нему, с ужасом глядя на ещё дымящийся в его руке тяжёлый «Стечкин».
– Заберите… это, – и он протянул, держа за ствол, свой наградной, от Министра обороны «Стечкин», с которым он прошёл весь Афганистан, начальнику отделения.
Уже через час он выписался из госпиталя, оставив свои телефоны и уехал к Кошелеву.
***
Дело было громким и долгим.
На суд – он так и ходил со своим старшим другом и наставником Юрием Алексеевичем Кошелевым.
На последнем заседании – председатель военного трибунала встал и зачитал два письма: одно – от Министра обороны, а второе – от генерала армии Третьяка, который уже был в возрасте, но деятельно работал над своими воспоминаниями в группе Генеральных инспекторов, «райской», как называли её в войсках.
Оба военачальника-фронтовика, поручались за своего воспитанника и просили военный трибунал учесть при вынесении приговора все обстоятельства, в которых оказался генерал-лейтенант Владиславлев, Герой Советского Союза, имеющий особые заслуги перед Отечеством.
Суд полностью освободил его от ответственности. Именно так и было записано в приговоре – не признать невиновным, а освободить от ответственности.
Министр обороны, назначив ему встречу, сам, не вступая в долгие разговоры, сказал, как о деле давно решённом:
– Знаю, генерал, все слова здесь будут лишними. Как судишь себя сам – знаю и вижу, – и он внимательно стал вглядываться в лицо Владиславлева, сильно похудевшее и на буйную седину, которая почти полностью высеребрила его богатые густые волосы.
– Другого суда, более страшного и тяжкого, нежели суд твоей совести, для тебя не придумали.
Но, надо жить, Владислав, – он впервые назвал его по имени.
– Растить детей. Служить Отечеству. А ты ему ещё должен послужить, генерал.
– Вот, – и Министр протянул Владиславлеву лист бумаги, с его подписью и печатью, – мой приказ. Ты назначен начальником кафедры в академию Генерального штаба.
Закурил, что он делал в последнее время крайне редко, подошёл к Владиславлеву и сказал:
– Формально – не имею права. У тебя же нет учёного звания. Но я знаю, что это – вторичное. Напишешь ты свои диссертации. Что же меня касается, то я уверен, что и докторской тебе мало будет, чтобы обобщить то, что ты прошёл. Что пережил и что выстрадал.
И уже решительно, не для обсуждений:
– Так что – принимай, генерал, кафедру. И будь здоров.
– Благодарю Вас, товарищ Министр. Я этого никогда не забуду.
И, только повернулся к двери, чтобы выйти из кабинета, Министр его остановил:
– Постой. Забери это, – и он протянул ему, за ствол, тот наградной «Стечкин». Сам дарил тебе. Только ты его уж больше… так не потребляй.
– Спасибо, товарищ Министр. Спасибо, товарищ Маршал Советского Союза. Благодарю Вас, Дмитрий Тимофеевич. Разрешите идти?
– Иди, солдат. Иди и не оглядывайся. У тебя ещё долгим должен быть путь. Учи людей. Это самое главное занятие, а мы всё воюем
Хорошо бы – только с врагами. А то всё больше – с собой, а чаще всего – друг с другом. Хватит тебе уже воевать, навоевался. А вот учить людей – дело святое.
Устало заключил:
– Прощай, генерал. И если что – не поминай лихом. Ты – мужик с головой, а самое главное – с совестью, разберёшься во всём, я думаю.
Эти слова Владиславлев будет вспоминать часто, после событий августа 1990 года. И только тогда поймёт он их подлинную суть.
Министр подошёл к нему, обнял его и легонько подтолкнул к выходу из своего кабинета.
Ожидавшие аудиенции у Министра обороны военачальники, дружно, с его появлением, шумно встали с кресел и заулыбались.
Историю Владиславлева знали все и как люди опытные и много пережившие, увидев «Стечкин» в руке Владиславлева, который он прижимал к груди, поняли, что страшная гроза над его головой пронеслась, миновала.
«И – слава Богу», – думал каждый из них.
«Жалко бы было потерять такого даровитого человека. А в жизни … быть может всё. Трудно заглянуть в чужую душу».
И как-то не сговариваясь, дружно, в один голос выдохнули:
– Удачи, генерал.
А те, кто знали его ближе:
– Владислав, будь счастлив. Добра и счастья тебе. Успехов во всём.
Он так и вышел из приёмной Министра, приложив левую руку, в которой держал «Стечкина» к сердцу, а правой – опираясь на трость.
И впервые, за всё время страшного испытания, вздохнул свободно и глубоко.
В машине его ожидал, в форме курсанта Московского общевойскового училища, сын, и красавица-дочь, которая так была похожа на мать, в юные годы той, только характером – в него, с сердцем светлым и чистым.
И он, обняв их за плечи, улыбнулся открыто и счастливо:
– Мы всё переживём, родные мои. Мы же вместе… Поэтому нам ничего не страшно.
И дети, не сговариваясь, прижались к его груди.
***
Только утратив, безвозвратно, то,
что и было смыслом жизни,
мы понимаем, как обделила нас cудьба.
А, вернее, мы сами прошли мимо того,
что только и можно назвать
Богом дарованным счастьем.
Но исправить ничего уже нельзя.
Особенно, на закатном участке жизни.
И. Владиславлев
ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО
Он тихо и как-то светло, со щемящей грустью в сердце, улыбался в свои совсем седые аккуратные усы:
«Господи, какая же страшная штука – годы. Я же по этим ступенькам, тогда, сорок два года назад, за миг взбегал доверху».
Он стоял, одолев где-то треть из почти четырёх сотен ступенек, ведущих от Ласточкина гнезда – к этой горной веранде, где, всегда, приезжая в Крым, непременно обедал.
Он отдыхал здесь душой, вглядываясь в безбрежность моря, любуясь – всегда прекрасным, в любую пору года и при любой погоде, незабвенным крымским пейзажем.
А ещё – вспоминая невозвратную юность, которая задела его крылом счастья и подарила ту давнюю, единственную встречу с Той, о которой он грезил, затем, всю жизнь…
И сегодня он был счастлив вдвойне – судьбе было угодно послать ему в награду, за всё пережитое и пройденное, именно этот день, день его встречи с Нею, правда, через сорок два года.
Но только жалел, что отпустил машину, решив подняться пешком по этой знаменитой лестнице, которую к нему приставил муж младшей сестры – давали знать о себе не только лета, но и старые раны, которых получил он за жизнь что-то уж очень щедро.
От воспоминаний о прошлом его отвлёк дивный женский голос:
– Простите, Вы не могли бы мне помочь…
И после этих слов, неведомая и ещё не видимая им женщина, замолчала.
Но когда он повернулся к ней, то у него в груди, у самого сердца, началось страшное жжение, которое возникало у него в последнее время всегда, в минуты наивысшего волнения.
Сердце при этом зачастило, да так, что едва не выскочило из груди:
– Господи, это… Ты?
– Да, мой хороший, это я. Это – я.
Торжествующая радость вырывалась у неё из груди, когда Она продолжила:
– И знаешь, я знала, я чувствовала, что встречу тебя здесь сегодня. Поэтому – и попросила дочь привезти меня сегодня, в наш… день, – твёрдо, после минутного замешательства, выговорила она, – сюда…
Горько и жалко улыбнувшись своими, уже увядающими, но всё ещё красивыми и сочными губами, она довершила:
… проститься. Проститься с юностью, с тобой, да уже, наверное, и с жизнью.
И как-то торопливо, заглядывая ему в глаза, продолжила ещё:
– А знаешь, я ни разу здесь с той поры, с той нашей встречи, так и не была.
Но помню всё. И ни о чём не жалею.
Он, в удивлении сломав брови, с каким-то душевным надрывом спросил:
– А о чём жалеть-то, ангел мой светлый? У нас ведь и была лишь та давняя, длиною в жизнь, единственная встреча.
И как-то обречённо, жадно вглядываясь в её одухотворённое лицо, заключил:
– Если и жалеть о чём-то – то лишь об ушедшей молодости…
– Думаю, что ты не прав, – мягко сказала она, откидывая своей красивой рукой упавшие на лоб густые, но уже совсем седые, волосы.
– Нам всегда есть о чём пожалеть, особенно, в прошлом – о минувшей жизни, о несбывшемся счастье, да мало ли ещё о чём…
– Так о какой помощи ты хотела попросить меня, – вспомнил он, заполняя какую-то гнетущую наступившую паузу.
– Руку мне дай, а то не поднимусь. Переоценила свои силы и решила по нашей лестнице, да, по нашей лестнице, – с каким-то вызовом произнесла она, – подняться пешком.
– Больше не придётся, видно, – горько усмехнулась она.
Он заторопился и как в давней молодости, не локоть подставил ей для опоры, а протянул свою сухую и ещё такую красивую руку, которую Она помнила и так любила с той давней встречи – не часто видела она у своих сверстников такие ухоженные ногти – на длинных, безукоризненных пальцах. Они её поразили в тот далёкий и такой памятный день.
Его сильные и такие нежные руки, не выходили из её памяти все прошедшие, а вернее – промелькнувшие годы.
Она дотронулась до его пальцев, нежно их погладила и просто сказала:
– Нет, мой хороший, не так. Уже не так. Мне действительно надо опереться на твою руку, иначе не дойду.
И Она, не жеманясь, почти повисла на его руке, согнутой в локте.
– Да, так мне будет легче. Так мне… хорошо. Пошли потихоньку…
Когда они одолели несколько ступенек, Она резко повернулась к нему и с тревогой в голосе, почти с отчаянием, сказала:
– Господи, видишь, я о себе только хлопочу. А ты как? Не тяжело тебе?
– Нет, нет, не волнуйся, всё хорошо. Ты забыла, что я всё же военный…
К веранде-ресторанчику они поднимались долго, часто останавливались, и он, со щемящей грустью, смотрел на это знакомое и такое неведомое для него лицо.
Годы Её сделали ещё красивее. Ушла та юношеская резкость черт на лице, оно стало мягче, светлее, солнечнее.
Да, да, именно солнечнее, так как излучало столько добра и света, что люди, стоящие на ступеньках, долго провожали взглядами эту необычную пару и откровенно любовались их, уже проходящей природной красотой.
Во время остановки, переводя дыхание, Она каждый раз обращалась к нему с одним и тем же милым и наивным вопросом:
– А помнишь?
И не дожидаясь ответа, неотрывно глядя ему в глаза, сама же и рассказывала, а что он должен был вспомнить в каждом случае.
При этих воспоминаниях Она преображалась. Годы и возраст уходили куда-то за горизонт, далеко за море, за ту видимую, в солнечном мареве, линию, на которой всегда останавливался взгляд человека.
Маленькая ростом, ладная, со стройными ногами, высокой грудью, она словно вытягивалась, становилась ярче, моложе и даже голос её звенел по-особенному – в нём слышалось то, забытое им давно, девичье, наивное и возвышенное.
И когда в последнюю их остановку на лестнице, она обратилась к нему:
– А помнишь… нашу единственную ночь? Господи, как же я любила тебя. Как я хотела, чтобы и ты заболел мной, как неизлечимой болезнью. Навек, навсегда, на всю жизнь.
Без всякого стеснения, так говорят только единственный раз в жизни, прощаясь навек, продолжила страстно:
– Как мы нежно и трогательно целовались. И… как же я… любила тебя, как я любила тебя, мой милый. Ты меня так не мог любить.
Даже задохнулась, но мысль закончила:
– И я сама, я… сама хотела того, чтобы ты был моим… совсем… Так что ни в чём ты предо мной не виноват, не терзайся и не вини себя ни в чём. Я, я так хотела сама.
Он даже покраснел:
«Господи, как тот юнкер, что это я? Ведь жизнь уже прошла.
И всё в этой жизни было. И утраты невосполнимые, и кровь, и смерть – насмотрелся всего вдоволь: и в Афганистане, да и на своей земле не минула ни одна война.
Но так не волновался, как от тех далёких и давних воспоминаний…».
И даже синяя жилка на его виске, при этих мыслях, забилась часто и тяжело.
Он только и смог – что молча сжал её руки – в своих красивых пальцах и жестом указал на цель их трудного восхождения – красивую, утопающую в зелени веранду, где летом всегда работал ресторан с таким тёплым названием «Лазурный».
Галантно усадив её за столик на двоих, он жестом, на голос не хватало сил, подозвал официантку:
– Милое дитя, пожалуйста, нам – воды, а всё остальное – потом.
Красивая белоголовая девушка, не торопясь, но споро, принесла им бутылку запотевшего «Боржоми», два бокала и тут же удалилась от столика, предоставив им возможность отдохнуть и утолить жажду, просто придти в себя.
– Ты позволишь, – обратился он к ней, – я закурю? Я теперь мало курю, но сейчас – так хочется выкурить сигарету.
– Тебе нельзя уже курить. Но сегодня… нам всё можно.
И Она неотрывно стала смотреть на него, как он своими тонкими пальцами вынул сигарету из пачки, чёрной с позолотой, прикурил от дорогой серебряной зажигалки и вкусно затянулся пахучим дымом.
– Как красиво ты куришь, – обратилась Она, с нежностью в голосе, к нему.
– Впрочем, ты всё делаешь очень красиво.
Мечтательно улыбнулась:
– Господи, как же я мечтала об этой встрече. Мне бы только посмотреть на тебя и знать, что ты есть, что ты – живой, что ты, я это чувствую, не изменился, душой своей не изменился. Она у тебя так и осталась светлой, я это чувствую.
– А это что? – вдруг перешла она на другую тему и своими красивыми пальцами дотронулась до белого шрама, пересекавшего его лицо – от подбородка до правого виска.
И не дожидаясь его ответа, сама торопливо заговорила:
– А я знаю даже день и час, когда ты был ранен. В Афганистане?
– Да, в Афганистане.
– Так вот, это произошло с тобой… девятого мая, тысячу девятьсот восемьдесят восьмого года. Около полудня.
Он даже вздрогнул – всё было именно так, в одиннадцать сорок пять начался тот заполошный бой, которые чаще всего и возникали при передвижении колонн по горным серпантинам Афганистана.
И он, представитель Главного штаба Сухопутных войск, как рядовой боец, лежал с мальчишками-солдатами за камнями и вёл бой с бандой Ахмад-шаха Масуда.
Он не почувствовал ни боли, ни страха, только почему-то на глаза, вдруг, наползла кровавая пелена и он потерял сознание.
Очнулся тогда, когда девочка-фельдшер батальона кричала кому-то, над его ухом:
– Он же погибнет. Посмотрите, сколько крови потерял. А у меня первая группа, его же. Надо срочно сделать прямое переливание.
И она, тут же – легла возле него, прямо на землю, а пожилой капитан-медик начал колдовать над её и его рукой.
Он ещё подумал:
«У неё с правой руки забирают кровь, а мне вводят – в левую.
Красивая девушка. Зачем ей это? Вон, мужиков сколько!»
Он испытующе смотрел ей в лицо и видел, как оно бледнеет, по мере забора крови.
Капитан-медик, посмотрев на него колючим, без сострадания взглядом, даже прохрипел:
– Всё, Виктория, хватит, ты уже триста граммов отдала.
– Нет, ещё берите сто пятьдесят. Я сильная, я выдержу…
И он снова потерял сознание.
Пришёл в себя уже в армейском госпитале, в Кабуле, где вокруг него суетилось множество врачей – как же, столичный начальник.
Первое, что он спросил у врача, тушистого полковника, который привычно осматривал его рану:
– А кто та девушка, которая отдала мне свою кровь?
Полковник сжал губы и даже как-то враждебно пронзив его ледышками своих глаз, отрывисто бросил:
– Виктория Гончарова, фельдшер батальона. Нет больше её. Вас спасла, а саму, через минуту, убил снайпер.
Как же заболело его сердце при этих словах военврача, Он, при этом, до хруста сжал пальцы сцепленных рук, да так, что они побелели.
Не сокрушался. Ничего больше не выспрашивал. Только – через сердце, на всю жизнь прошла эта кровавая борозда.
И зная, и помня, что – жив остался лишь благодаря этой девочке, нашёл после вывода войск её родителей – простых учителей в лесном посёлке, на Белгородщине.
Приехав к ним, припал к руке её матери губами и встал на колено. Да так и застыл надолго.
А та, перебирая его густые и красивые волосы, в буйной уже седине, свободной рукой, почти без звука и уже без слёз – выплакала все – утешала его, словно родная мать:
– Спасибо Вам, что приехали. Значит, не зря наша Вика погибла. Её однополчане говорили, что она спасла генерала, а теперь и я вижу…
И уже буднично:
– Не казните себя. Знать, так Богу было угодно. Он – всегда… призывает к себе, до срока, лучших. В чём тут Ваша вина? Вы же не хотели её смерти и жить не хотели ценой её жизни. Поэтому – не надо, не убивайтесь… так.
И уже, как радушная хозяйка, стала приглашать в дом, кормить, поить вкусным чаем.
А когда он попросил сопроводить его к местному кладбищу, где была похоронена его спасительница, она, с благодарностью, посмотрела ему в глаза и стала быстро собираться, переодевшись в чёрное платье и повязав голову чёрным утратным платком.
Сама же срезала в палисаднике, утопающем в цветах, букет багровых роз и, молча протянула ему, только слёзы наполнили, до краёв, её глаза при этом.
Долго стояла, затем, за калиткой оградки, положив ему руку на плечо. Он же, встав на колени, положил на надгробие букет роз и – по обычаю, дотронулся до земли рукой:
– Здравствуй, Виктория! Всегда помню тебя и всегда скорблю, что не сам перестрел ту роковую пулю. Только бы ты жила…
Мать его спасительницы при этих словах сжала его плечо рукой и он ощутил на своём виске её слёзы, которые она даже не вытирала.
Он несколько раз приезжал в этот посёлок. И перестал ездить лишь тогда, когда в очередном отпуске, позвонив в дверь знакомого дома, увидел в проёме двери другое лицо.
Приветливая женщина, зная его, просто и уже без боли, сказала:
– Не стало и моей сестры, генерал. С дочерью рядом и упокоили. Пойдёте?
– Да, да, я непременно их проведаю, – и он торопливым шагом пошёл в направлении местного кладбища…
Всё это, без деталей, он рассказал Ей, сидя в ресторанчике возле Ласточкина гнезда.
И, Она, во время его рассказа, всё не убирала свою удивительно красивую руку от его лица, словно забирая от него всю боль пережитого.
Официантка красиво накрыла их стол к этому времени и он, не спрашивая её, что Она будет пить – налил, доверху, две изрядные рюмки коньяку и поднявшись из-за стола, сказал:
– За всех, кто не с нами. За все наши утраты.
Она тоже выпила свою рюмку до дна и, выдержав минутную паузу, с какой-то виноватой улыбкой, сказала:
– Можно, я поем немножко, а то у меня голова сразу закружилась.
Он всё время подкладывал ей вкусную еду, уже понемножечку подливая коньяк и всё время слушал Её бесхитростные истории.
Да их и не было много – работа, дом, забота о дочери, а теперь – о внуках, которые стали высшим смыслом её жизни.
О личной жизни и судьбе ничего не говорила, не спрашивала и его об этом, бережно обходя эту тему.
И только один раз, всё же ему сказала, с такой грустью и болью, что он даже вздрогнул:
– Замуж я так и не вышла. Были достойные люди, предлагали руку и сердце, а я не могла. Не могла изменить памяти о том курсанте, который мне встретился в те далёкие годы…
При этих Её словах зазвонил телефон. Она взяла трубку и выслушав того, кто ей звонил, ласково и тепло ответила:
– Нет, нет, доченька. Всё хорошо. Я сейчас сижу в ресторане, возле Ласточкина гнезда.
И вновь стала слушать дочь, а затем, засмеявшись – красиво и звонко, с отчаянной гордостью ответила дочери:
– А что, твоя мать уже не может никому понравиться? Ты бы только видела, какой у меня красивый и благородный кавалер, – и она лукаво, заговорщицки, ему подмигнула.
– Нет, ты приезжай за мной в «Лазурный», часа через… – и она посмотрела на него.
– Часа через два, – ответил он, посмотрев на свои часы.
Разговор с дочерью Она больше не коментировала, только обдала его таким жаром взгляда, что он, торопясь, вновь закурил свою душистую сигарету.
Но уже после разговора с дочерью, как-то виновато, спросила:
– А твоя семья, Владичка?
– Двое детей, сын – тоже военный, дочь – мать двоих детей, занята ими, до этого – дизайнер-оформитель.
– А… жена…
– Жены нет, в девяностом году погибла в Баку, во время известных событий. Врач, спасала людей, снайпер убил в спину…
– Прости…
После наступившей паузы, искренне порадовалась за него, когда он коротко сообщил, каких успехов достиг в службе – стал генерал-лейтенантом, академиком, профессором. До сей поры преподаёт в академии Генерального штаба, возглавляя кафедру.
– А это – тоже за Афганистан, – и она дотронулась пальцем, осторожно и бережно, до Золотой Звезды Героя Советского Союза, на левой стороне его пиджака.
– Да, это за Афганистан, ещё за первый раз, – и он больше не стал развивать эту тему.
К счастью, в его сумке оказалась его последняя книга и он, положив её на стол, стал думать, как её подписать.
Он ведь, кроме её имени, не знал ни фамилии, ни отчества.
И она, взяв книгу в свои руки, увидела на обороте обложки его портрет, в форме, долго вглядывалась в его лицо.
А затем – просто и тихо сказала:
– Так и подпиши её мне – Галине. Просто – Галине, не забыл ещё, как меня зовут?
– Нет, этого я не забывал никогда…
Незаметно, за разговорами, пролетело время.
И когда у их стола остановилась яркая, очень красивая молодая женщина, не более сорока лет, он вздрогнул, а в области сердца у него загорелся какой-то негасимый внутренний пожар:
«На кого она похожа? Нет, нет, материнского – очень много. Но иная порода властно прорывается в чертах её лица» – и он, напрягая свою память, старался припомнить, кого же напоминает ему дочь женщины, которая сидела напротив него и тихо и счастливо улыбалась при этом.
Насладившись его растерянностью, а также дочерним изумлением, с которым та не могла справиться, увидев его, Она, наконец, произнесла:
– Знакомься, Виктория, это – твой отец – Владислав Святославович Измайлов…
Земля качнулась и медленно куда-то уплыла из под его ног.
Последнее, что он услышал в этой жизни, были Её слова.
Она не кричала, а положив его голову себе на колени, сидя прямо на полу, тихо и бессознательно повторяла:
– Не уходи, не уходи, родной мой… А как же я? Не оставляй меня… Я не хочу жить без тебя. Я и так всю жизнь жила без тебя, но всегда – с тобой в своём сердце…
***
По настоящему любить
способны только те,
кто много страдал и
перенёс множество ударов судьбы.
И кого ведёт по дороге жизни Господь.
И. Владиславлев
ПОД КИПАРИСАМИ ЛИВАДИЙСКОГО ДВОРЦА
Он уже давно не тревожился за себя, за свою судьбу. Хорошего не ждал, плохого, слава Богу и судьбе, не знал, счастья не искал.
И длилось это состояние уже так долго, что оно стало привычным и естественным.
С ним сроднился, с ним вставал и ложился.
Даже боль утраты – ТОЙ, что была смыслом всей жизни, стала отступать. Не зря говорят, что время всё лечит.
Тоска и осознание никчемности своей жизни железной лапой сжали сердце в июне того самого страшного года в его жизни, когда ушла ОНА и не отпускали его уже никогда.
Оставалась единственная страсть – он мог сутками не подниматься из-за компьютера – всё торопился положить на бумагу то, что переполняло его душу.
А сказать ему было что – пройдено и вынесено было столько, что хватило бы, с избытком, и на десять судеб.
Он часто даже сам себе задавал вопрос:
«Как выжил? Наверное, цел остался лишь потому, что не цеплялся за жизнь. Относился к ней не то, чтобы безразлично, нет, цену жизни, особенно, своих подчинённых, знал хорошо и скорбел по каждой утрате – не поддельно, это люди чувствуют сразу, а искренне укорял только себя за то, что до срока закатывалась судьба тех, кто ещё не свершил на земле положенного. И судил себя сурово за это».
И за это его любили, и он знал, что за глаза все его подчинённые давно уже величают его Батей и были готовы за него отдать свою жизнь.
Но он знал, что не это его спасло, а истовая любовь ТОЙ, единственной женщины в его жизни, которая с лейтенантской поры, распростёрла над ним невидимые крыла ангела-хранителя и не уставала их так держать всю их совместную судьбу, все тридцать шесть лет быстротечной жизни.
Он и видел её меньше, нежели мыкал службу по всяким внутренним и внешним фронтам, как он шутил в кругу родных и близких людей, но ЕЁ присутствие ощущал всегда и знал, что его, неведомо за что, вознаградил Господь таким союзом, такой спутницей жизни, таким человеком, такой матерью его детей – единственной и святой.
Ничего похожего более ему так и не пришлось увидеть в жизни.
Поэтому, видать, судьба и ЕЁ обращённые к Господу молитвы, хранили его.
Его сестры, прожившие всю жизнь в Крыму, откуда и он, семнадцатилетним пацаном, ушёл в военное училище, чувствовали его состояние и настояли на том, чтобы он приехал к ним в отпуск.
И он, наконец, согласился. А затем – благодарил судьбу и Господа, что решился на этот шаг.
Сёстры встретили радушно. И на дне рождения младшей сестры, а он как раз и выпал на день его приезда, преподнесли ему царский подарок – путёвку в дом отдыха, в Ливадию.
Двадцать один день.
«Уйма времени, – подумал он, – что я там делать буду?»
«Довершу свою очередную книгу. Это будет лучше всего».
Первые три дня он практически не покидал свой номер. Только на завтрак и обед спускался в зал красивого ресторана, где предупредительные и вежливые служки, конечно же, предупреждённые по каким-то каналам, кто он есть, делали всё от них зависящее, чтобы ему было уютно и комфортно. А так как он был крайне неприхотлив, то его даже раздражало чрезмерное внимание к его скромной персоне.
Ужинал он на балконе своего роскошного номера. Он – прямо нависал над морем и от созерцания вечности было так спокойно и светло его душе, что он от восторга даже немел и мог часами вглядываться в синь моря и недвижимо сидеть, замирая, от давно неизведанного счастья.
Да и коньяк приятно туманил голову, и казалось, что время в этом райском уголке навек, навсегда остановилось.








