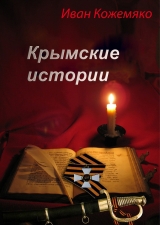
Текст книги "Крымские истории"
Автор книги: Иван Кожемяко
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
Случай небывалый для офицера в столь скромном чине, чтобы он был удостоен самого желанного и высокого отличия – Георгиевского оружия. Но по иному оценить и вознаградить его высокий подвиг, когда он, с полусотней казаков, в ночной вылазке спас более трёхсот пленных из многострадальной армии генерала Самсонова, Суконцев считал не вправе. И сам, во время пребывания Государя в полку, обратился к нему с просьбой – по чести, за столь высокие заслуги, отметить хорунжего.
Этим отличием Тымченко дорожил более всего. Как же, сам Государь, перед строем, вручил ему эту священную награду.
Хитрые, с прищуром, зеленоватые глаза, так и не стали холодными и немилосердными в этой жизни, хотя изведали и бед, и страданий, и горя, и крови столько, что десятерым было не под силу вынести, а они, пронзительно и удивлённо взирая на мир, всегда излучали свет и добро.
Дети, они вернее всего чувствуют душу человека – поэтому в каждой станице, в каждом городе, который занимал полк полковника Суконцева, возле Тымченко всегда было полно любознательной и шумливой детворы.
Они сразу угадывали в нём душу щедрую и открытую и позволяли с ним себе то, чего не могли позволить даже с роднёй, со своими близкими.
И даже конь Тымченко, верный друг и брат его, с которым они прошли вместе долгие годы войн, позволял детворе всё. Он, в седло к которому, на спор, не могли сесть самые отчаянные и бывалые казаки, детвору принимал с любовью и нередко нёс на своём красивом крупу по шесть-восемь дитёнышей бережно и чутко.
Всё это пронеслось в голове полковника Суконцева, пока его любимец приводил себя в порядок и спешил, по вызову своего глубокочтимого и любимого командира.
Он знал, что для выполнения его особой задачи, лучшего исполнителя, нежели Тымченко, было просто не найти.
И когда тот, без подобострастия, но уважительно, тепло и участливо, как сын – отцу, доложил, что готов к выполнению любых распоряжений Его Высокоблагородия, Суконцев, обняв за плечо своего любимца, просто и прямо, глядя при этом ему в глаза, сказал, ничего не приукрашивая:
– Ну, что, мой дорогой, брат мой названный, только тебе и могу доверить дело исключительной важности. От твоей проворности, от твоей обязанности дойти до наших, обязательно дойти, любой ценой, во что бы то ни стало – дойти, будет зависеть успех всего нашего дела, спасение многих тысяч людей.
– Дойди, Тымченко, прошу тебя, как друга, – произнёс полковник дрогнувшим голосом и протянул ему конверт, опечатанный тяжёлой печатью.
Уже строго, напутствуя, добавил:
– Не ввязывайся ни в какие переделки. Главное для тебя – дойти. Вот – письмо генералу Врангелю. Передай ему, самолично.
– Я понял Вас, Ваше Высокоблагородие. Разрешите, тогда, прошу Вас, на Ястребе.
Ястреб был племенным жеребцом донской породы, которого берегли пуще зеницы ока, так как один, со всего конезавода, остался.
– Да, казак, – ответил Суконцев, – на Ястребе. Он вынесет тебя из всех передряг.
И Тымченко весь отдался подготовке к выполнению ответственного задания. Сняв нарядную черкеску, облачился в простую гимнастёрку и захлопотал по хозяйству, основательно и степенно, как он делал всё.
Накормив коня овсом, но не до отвала, а как перед боем, для силы лишь и выносливости, выпоил его тёплой водой, с отрубями, перековал задние ноги на новые лёгкие подковы. Да вот беда, на правую ногу так и не нашёл припасённой новой, и пришлось воспользоваться уже бывалой, в которой прошлое лето его конь отходил. Была немного стёртой с одной стороны, но не сильно. Тымченко даже подумал:
– Ничего, на одну ходку нам с тобой хватит, а там – сниму снова, гуляй вольным, Не под седлом бы тебе ходить, не твоё это дело. Тебе потомство возродить надо, а то и зачахнет род. А разве возможно повторить такое чудо? – и он любовно погладил Ястреба по холёной шее.
И когда тот, быстро съев овёс, стал выпрашивать у Тымченко ещё, он, глядя в красивые лошадиные очи, как человеку, сказал:
– Вот – возвернёмся, Бог даст, благополучно, я тебе, слово даю, отмерю овса, самого лучшего, столько, сколько сможешь съесть. А сейчас – нельзя, родной мой. Хватит.
И конь, поняв своего хозяина, успокоился и стал ожидать, что тот ещё будет делать с ним перед дальней дорогой.
Поочерёдно, подставлял сам ноги хорунжему, чтобы тот вычистил стрелки, напильником прошёлся по копытам, убирая даже малейшие заусеницы.
Щёткой, а затем – суконкой, до блеска, вычистил спину; глаза, уши – чистой тряпочкой. Размял каждую жилочку на ногах. Отказавшись от тяжёлого казачьего седла, велел принести лёгкое, калмыцкое.
Когда всё справил, всё подготовил, простился с полковником, обнял своего четвероногого друга за породистую морду, да так и застыл на мгновение.
Но так как Тымченко – был я сам в этом сновидении-мираже, то я даже помнил, что я ему сказал в сторожкое ухо:
– Ну, что, мой родной. Не выдай, не заржи, зачуяв кобылицу, волком проскользни через заслоны красных. Прошу тебя, друг сердечный.
Вывел его под уздцы в темень и только там – сел в седло. И сразу же растворился, с чудо-конём, в тёмной ночи.
Ни разу не оплошал мой боевой товарищ. Ни разу – даже ноздри не раздулись его, заслышав впереди конных, ржание, в переклик, недоумков-жеребцов и кобылиц в отряде красных.
Где было надо, особенно по камням, мне казалось, он даже ступал – сначала подержав на весу ногу, и, только найдя твёрдую опору, без звука, опускал её на земную твердь.
Несколько раз в темени, чем меня поразил неслыханно, ложился сам, без команды. И, как оказывалось, вовремя.
Через мгновение – в трёх шагах от нас проезжали разъезды красных.
Так минула ночь. С ладони – попоил я Ястреба водой, которую подливал из фляги – сам не пил, лишь облизал влажную ладонь после него, дал кусочек сахару и сказал ему:
– Ну, что, мой хороший, мы – почти у цели. Ещё немножко.
Но, в последний миг, я сплоховал сам. Сам виноват. Поспешил.
Полагая, что мы уже находимся на территории своих войск, я, наконец, дал волю своему горячему коню. Торопился, хотел, как быстрее….
Гикнув и чуть сжав его бока сапогами, я во весь опор помчался на коне-птице, по едва видимой извилистой дорожке, прямо над морем.
Тут-то и подстерегла нас неведомая опасность. Нам бы затаиться ещё на час, выждать и уже ничего не помешало бы выполнить задачу Его Высокоблагородия.
Из балки, заслышав топот копыт моего Ястреба, выскочило пять, я их увидел в один миг, именно – пять красноармейцев и устремились ко мне наперерез.
Другого пути у меня не было и я мог только, опередив их на секунды, уйти, затем, вперёд.
Да и где было им сравниться с моим Ястребом. Он – молнией пластался над степью и красные понимали, что перестреть нас и догнать, затем – у них не было никакой возможности.
И они, опытные солдаты, видать, все уже навоевались достаточно и приобрели боевой опыт, не стали и пытаться пускаться за нами вдогон.
Сорвав с плеч карабины, они повели сосредоточенный и беглый огонь – именно по моему Ястребу.
Первую пулю, которая настигла его, я почувствовал сразу. Он, как-то неестественно скакнул влево, но, тут же – выправился и ещё быстрее понёсся к спасительным курганам.
Другая – ударила его в правую ногу, и он, даже задрожав от боли, всё равно хода не сбавил.
Хорошо стреляли красные, ничего не скажешь. Научились за долгие годы войны.
И, когда две пули сразу, ударили Ястребу в голову, он тяжело, со стоном, остановился и закачался на ногах. При этом – повернув голову ко мне, насколько это было возможно, виновато посмотрел мне в глаза через кровавое марево, которое заливало ему всю красивую морду:
«Прости, хозяин. Я не виноват. Но я… больше не могу. Не живой я уже…».
И с последних сил, дав мне возможность выдернуть ноги из стремян, как и стерпел, родимый, рухнул в полынь, да и затих сразу же, не бился даже и в конвульсиях.
Никогда я не плакал, даже тогда, когда хоронил братьев своих, друзей, годков, которых так мало осталось после той войны, а уж после этой – во всём полку – двух-трёх, больше не найдёшь, а тут – рыдания подступили к горлу, да такие, что напрочь лишили меня всех сил.
Это и предопределило всё в дальнейшем. Мог бы я, мог бы, используя замешательство красных и то, что на какой-то миг стал им не виден – скрыться в прибрежных зарослях.
Но я упал на шею Ястреба и упустил эту минуточку. А когда опомнился – красные уже подъезжали и охватывали меня в полукольцо.
Один из них мне понравился, старый, видать, солдат, прошёл не меньше меня. Он и был у них за старшего.
Я даже слышал, как он закричал, отдавая своему войску команду:
– Прижимай его к скале, братцы, там он никуда от нас не денется. Важный беляк, не для прогулки под ним такой конь был. Делегат связи… Прижимай, не дай уйти!
Мне ничего не оставалось, как принять бой с разъездом красных.
Трёх, в том числе – и этого командира, я срезал сразу, первыми же выстрелами, со своего, ещё с той войны, карабина.
Под двумя – убил коней. Так и закончилась моя единственная обойма, которую я и брал с собой всего, чтобы коню было легче, потому что в такой дороге – и грамм лишний.
И оставшись с одной шашкой, памятной и дорогой, мне её – Его Высокоблагородие, под Перемышлем, подарили – пошёл навстречу двум оставшимся в живых красным…
А мысль, даже в этих условиях, довершила: «Спас я его в том бою, первым перестрел вражий клинок, на себя его принял, так как отбить уже никак не успевал».
Смог и ещё дотянуть, в воспоминаниях:
«И захлёбываясь кровью – австрияк был здоровенный, своим палашом рассадил мне всё правое плечо, как и не отрубил вообще – упал я под ноги своего коня. Так Его Высокоблагородие – сам меня из боя вывез, на своём коне, а как только я пришёл в себя – навестил в лазарете и, на зависть всем – снял с себя, богатую, в серебре, шашку и меня одарил», сказав при этом, так душевно:
– Заместо брата ты мне теперь, казак, как брата и прошу принять дар этот на добрую память. Пусть тебя всегда хранит клинок этот, дедов ещё, он его из похода – против турок, на Дон привёз. С ним и отец мой Родину защищал.
Отбросив волевым усилием эти воспоминания, я приготовился к последнему бою. Был спокоен и сосредоточен. Как всегда, в минуты высшей опасности.
Знал, конечно, если уж честно, что лучше меня – в полку шашкой не владел никто. И я знал, что красным надо было призывать своего бога, чтобы он, значит, им за упокой пропел.
Тем более, я видел – пацаны, куга зелёная, навстречу мне шли. Они и шашки свои держали в поднятых к верху руках – сразу было видно, что вояки они никакие.
Я стал даже ухмыляться и это, я думаю, всё дело испортило.
Золотушный какой-то, не русский, узкоглазый, стал что-то кричать на непонятном мне языке, обращаясь к другому, а затем – отбросил шашку свою в бурьян и сдёрнул с плеч карабин. Остался, знать, у него патрон в карабине. Он-то и был роковым для меня.
Китаец, я вдруг вспомнил, кто был этот красноармеец, их много было у красных, дождавшись, пока я подойду к ним вплотную, не целясь, почти упираясь мне в грудь стволом карабина, выстрелил.
И посинев от страха – видать, не привык ещё к убийствам, стал неумело махать карабином у меня перед лицом, норовя отбить шашку.
Коротким выпадом, самим кончиком клинка, я снёс ему голову, второго, отбивая его клинок и перебив его, посредине, меня этому удару научили даурские казаки, я просто заколол своей старинной шашкой, подарком Его Высокоблагородия.
Увидел отчётливо, как изумился красноармеец, оставшись с обрубком шашки в руках, которым даже не закрывался и, ещё не понимая, что он уже не жилец на этом свете, – закричал жалостливо и звонко.
Я даже посмотрел, как он нырнул носом в перезревшую полынь и затих, уже навечно.
Я понимал, мой мозг работал чётко и ясно, что всё это я совершил – будучи уже мёртвым, пуля китайца, ударив мне прямо в сердце, никакого шанса на спасение не оставляла.
Поэтому я, последней волей своей, сжёг письмо полковника, а сам – сделал ещё несколько шагов к морю, да и скатился с горной тропы, почти в волны.
Слава Богу, это я уже видел с того Высокого и Вечного мира, куда возносилась моя душа – казаки нашего разъезда, оказавшись на месте боя, сообразили, что я направлялся к ним от полковника Суконцева и увидев обгорелый конверт и несколько ещё разборчивых слов в донесении, всё поняли, так как старший разъезда стал торопить своих товарищей к начальству.
Поэтому меры были приняты и все наши люди были спасены.
А я, с той поры, так и остался на этом крутом крымском берегу. Похоронили меня с честью мои новые товарищи с того разъезда, что минуту лишь не успел придти ко мне на помощь.
Могилку с землёй сравняли, засыпали под цвет местности полынью и даже лошадьми по ней несколько раз проехали, чтоб, значит, не обнаружили красные и не надругались над моим последним приютом.
А как вышли наши, полковника Суконцева люди к своим, он приехал, в последний миг, на могилку, поскорбел, поминальную чару выпил и даже сказал:
– Спасибо, казак, Спасибо Тымченко, выполнил ты свой долг. Вечная тебе память, а от меня – благодарность великая.
И преклонив колено, в носовой платок набрал горсть земли с моей могилы, да и положил себе в карман мундира…
Много лет прошумело с тех пор. Видел я много с Вечного мира, да вот рассказать никому не могу ничего, из живущих, кроме своих товарищей, которых – не счесть, встретил по ту сторону земной жизни.
О многом мы перебеседовали с ними за эти долгие годы. Торопиться уже было некуда.
И сошлись, с большинством в том, что жизнь свою, ни за какую цену, менять не стали бы. Всё в ней было правильно, а самое главное, что не я один, а почти все – думали, что за правое и праведное дело головы свои сложили. За други своя. А светлее этого – ничего быть не может.
А недавно – увидел, как какой-то седой человек, по всему видать – военный, держался так, что сразу видно, штатские так себя держать не умеют, да и неведомая мне Звезда на его пиджаке, слева, пламенела, отличие какое-то высокое, нашёл подкову моего верного Ястреба, косточки-то давно уже его истлели и кусок клинка, который я своей шашкой перебил в тот роковой день у моего стародавнего врага.
К слову, и к врагам у меня ненависти не осталось. Они шли своей дорогой, я – своей, не поразуметься нам было в ту пору, а сегодня, особенно после страшной войны, которую все пережили, и в нашей компании, в Вечной жизни, добавилось столько народу, душ святых и безвинных, что мне даже жаль, что кто-то сумел нас так развести по обе стороны реки-судьбы в ту пору.
И мы, не найдя слова доброго и. что самое горькое, даже правды своей друг другу не высказали, а сразу – взялись за шашки, да и давай друг друга изводить.
Не правильно это, нет, не правильно. И слава Богу, что в этой войне, как пошёл на нас фашист, нашли все общий язык, объединились в единую силу, народ единый и сумели отстоять Отечество наше, дорогую моему сердцу Россию.
Многих я видел, затем, своих земляков, в славных гвардейских казачьих корпусах.
В единой лаве шли на врага – и те, кто по белую сторону был, и те, кто красной веры придерживался. И, слава Богу, нельзя, никак нам нельзя, хранить былые обиды и друг на дружку руку поднимать.
Заклюют тогда вороги нас всех, землю нашу разорят дотла.
А я – что ж, не жалею, что на двадцать пятую весну жизнь не завернула. Только и справил двадцать четыре года, да и расстался с жизнью.
Самое главное – не зря. И даже ценой своей жизни спас группировку полковника Суконцева.
Любил я его и – как отца родного – встретил, прямо на пороге Вечной жизни. Случилось это в тысячу девятьсот сорок четвёртом году.
Погиб, как герой, в Югославии, защищая эту братскую землю от фашистской нечисти. Погиб славно. Так, что братья наши, до ваших дней память о нём хранят, его именем назвали городок, школу, памятник ему воздвигли – на века, и песню задушевную сложили о русском соколе, который бился за их свободу и независимость. Правда, сейчас стали реже её петь и вспоминать, как порушили это славное государство, разорили войной.
Я думал, что закончились уже войны-то, как нашествие фашистов разбили, ан, нет, льётся и дальше людская кровь, словно водица.
И оценивая происходящее, часто мы, с их Высокоблагородием, беседуем.
Обо всём. И то, с четырнадцатого года мы с ним, за батьку родного был мне, хотя и ровесник, почти. Опять же – и чин офицерский он мне выхлопотал, и шашку свою – передарил, все четыре креста – самолично вручал ещё на той войне, где мы не делились на правых и виноватых, а были – все заедино, за Россию Святую, бились.
Нет, жизнь моя состоялась. Иной и сто лет проживёт, а сделать ничего не сможет, особенно – за товарищев не постоит. А что же это за жизнь, тогда? Так, пыль одна и маета душевная. Так что прожил я не зря свои лета. Маловато, правда, но – кому что, Господь, отмеривает.
А то, что Господь рано к себе призвал, так ведь и Ему верные нужны, надёжные. Без них и здесь жизнь не сладится.
Много тех, кто жил неправедно, а хотят, не по заслугам, миновать спрос с себя, не представать пред Судом Высоким и Последним, чтоб, значит, ответ держать – за всю неправедность, ими сотворённую. Вот мы им, с товарищами, и не позволяем колобродить и учинять неправду великую в Вечной Жизни, к которой они привыкли в земной юдоли.
Хватит, натворили на земле такого, что целым поколениям никак не разобраться.
Пусть хоть здесь, пред Господом, ответят за все свои грехи сполна.
Вот и служу я теперь Ему, в вечности. Как учили, как наставлял и вразумлял меня полковник Суконцев, Его Высокоблагородие.
Да и сейчас – не оставляет нас своим попечительством и вниманием.
За детей родных нас принимает. Почитай, весь уже полк его здесь собрался. Никто не уцелел, правда, многие дотянули свою борозду по ниве жизни до конца и присоединились к нам уже в новое время.
Много странного нам рассказали, удивляемся и понять не можем – за что же кровь лилась тогда, коль сегодня всё заворотили назад, обратно. И снова разделили Россию на бедных и богатых, на грешников и праведников.
Только, почему-то, в чести, в последнее время, те, кто разорил страну великую и присвоил себе всё, что народом в труде тяжком отстроено и добыто. Все жилы народ порвал, чтобы после войны с фашистом восстановить из пепла порушенное, а завладели всем этим какие-то проходимцы.
Но мы им тут воли не даём. Пусть хоть в этой жизни ответят за свои злодеяния.
И полковник Суконцев – завсегда впереди нас, на суде праведном. Не даёт им воли.
Дошёл, наверное, какой-то слух и до вашего мира, очень уж страшатся к нему попасть те, кто грешил много в вашей жизни.
Таким немилосердным не был, Его Высокоблагородие, даже к врагам на поле боя. Всегда честь хранил и от нас совести требовал.
Враг – он лишь в бою, там одно правило – если не ты его клинком достанешь, то он – тебя. А после боя, нет, не допускал полковник лютости, свято честь воинскую блюл, а тут – прямо в лице меняется, сатанеет и всегда говорит сегодняшним христопродавцам:
«Моя бы воля – я всех бы вас, за поругание родной земли, со света извёл, нет у вас права на жизнь, на страданиях и на крови народной преуспели, богатства неправедные нажили. Такой разор по всей России учинили…».
Поэтому и стало больше душ светлых и прозревших, хоть в этом, Вечном мире.
Спасибо ему за науку.
И за честь высокую спасибо…
***
Спасибо нашей памяти,
что ведёт нас по дороге совести
и правды, чести.
А без этого и жить ни к чему.
И. Владиславлев
ПОЛЫНЬ
Крымская полынь всегда полыхала, к осени, багряными красками.
Сверху, у кисточек, она была ещё белёсой, а чем ниже, где находились листья более крупные и размашистые – она, в начале ноября, становилась почти алой.
Грустно было в такой степи. Наплывало такое ощущение, что ты в чью-то судьбу вторгся непрошено и бредёшь по ней, не сообразуясь даже с тем, а нравится ли это кому-нибудь или нет – из тех, чьи искры души рассыпаны в безбрежной Крымской степи.
И вспомнились мне в этом горьковатом мареве, от которого даже кружилась голова, две истории, свидетелем и рассказчиком которых был мой дед, Георгиевский кавалер, старший урядник той ещё, давно забытой войны.
Две войны сломал, как он говорил, а вот на третьей, уже ведь в летах был, душу сорвал.
И к смерти привык, и к крови. Проливал её только по нужде, расчётливо, чтобы больше, значит, вражьей выходило. Но и своей – немало источили эти годы. Да и как тут убережёшься, такие войны были, миллионы лучших, задолго до срока, Господом определённого, ушли в Жизнь Вечную.
И взирают они на нас с той жизни и, я думаю, не всё им нравится, как мы с их памятью, их завещаниями обошлись. Как же – за что тогда они погибали, если мы и державу не сберегли, разорили её, а она такой кровью им досталась, такими жертвами.
Думаю, что есть у них право судить нас за это. И с каждого спросить: по совести ли он жил и поступал, когда чёрное вороньё, из тех, недобитых и лживых, которые всегда норовили самый жирный кусок себе оторвать, без учёта – а достанется ли что-либо и другим. Так и порвали на куски, лакомые, такую страну, державу великую, всё себе на потребу пустили,
И не спросит с них никто в жизни этой, а Божьего суда они не страшатся, уверены, что его – нет над ними и не будет.
***
Манштейн танковыми клиньями рвал Крымский фронт. Спасения не было нигде.
Авиация доставала и одиноко бредущих бойцов, и выкашивала густые колонны пехоты и кавалерии, которые отступали к Керчи…
И дед всегда говорил:
– Много, внук, судеб клинок мой прервал. А не страдал, нет. Не страдал. Понимал, что если не я врага – он меня.
И с глубокой грустью дополнял:
– Да и молодой был. Что – тут, будешь оплакивать вражью жизнь? Нет, доблесть только душу распирала. Да и кресты, конечно, свидетельствовали о том, что казак я был справный и командование мне доверяло.
Уже к началу семнадцатого года был взводным командиром, шутка ли?
Как-то обречённо, при этом, махнул рукой, надолго замолчал, а затем – обронил, как камень в воду бросил:
– Но то – всё пустое. Прошло и следа не оставило. Только память…
– А вот, – и дед улыбнулся в свои седые усы, – довелось и мне на старости лет молодость вспомнить и в конной лаве – сойтись с врагом.
Глаза его загорелись, словно молодость вернулась, и он повёл рассказ дальше:
– Конница немцев, на холёных, но жирных, перекормленных конях, вынырнула из балки.
Деваться нам было некуда. Два маха лошади разделяли нас и врагов.
И я – только вырвав шашку из ножен и не криком даже, а движением руки, увлёк бойцов в атаку.
Наш удар, по вытянутой в стрелку колонне разомлевших немцев, был страшным.
Мало кто ушёл. Пластались наши дончаки по полыни и шашка сама находила новую цель.
Уже пятерых я достал своей шашкой, а шестой – порезвее конь-то у него был, мой уже устал изрядно – от жары, боя и бескормицы, стал уходить от меня на полном скаку.
– Эх, недотёпа, – засмеялся дед, оборотясь ко мне, видать грели душу эти воспоминания, – разве вытянет долго твой закормленный конь такой аллюр, да ещё – вверх, в гору.
– И я, – продолжил дед, – погладил своего верного боевого друга между ушей, который готов был, из последних сил, сорваться в погоню за врагом и сказал ему, словно человеку:
– Не торопись, дурашка – куда ему от нас деться? Мы курган с тобой обойдём и он – прямо на нас и свалится.
Так и вышло. И когда моя шашка, в неотвратимости страшного движения, обрушилась на голову затяжелевшего офицера, тот, по-русски, жалко и жалобно, на весь мир закричал:
«Урядник! Как же ты так… Как же больно, Господи, как же мне больно… Если бы ты только знал… Вот уж – не думал никогда, даже в дурном сне, от кого смерть приму…».
И только тут я узнал своего бывшего эскадронного командира есаула Еланцева.
Правда, сейчас он был в немецком мундире и тяжёлые витые погоны на его плечах указывали на полковничий чин.
– Выслужился, ты ведь у фашистов выслужился, Ваше Высокоблагородие…
Я остановил коня, который всхрапывал, никак не могла божья тварь привыкнуть к запаху крови и смерти, это мы, люди, быстро привыкаем и к крови, и к смерти, и долго смотрел на поверженного врага. Краска жизни сходила с его лица, оно, на моих глазах, делалось восковым и безжизненным.
В правой руке, навечно, застыла знакомая мне Георгиевская шашка, с темляком оранжево-чёрным и золотым крестиком на белой эмали нарядной рукояти.
Вспомнилось, как мы гордились в ту пору доблестью своего командира, который, в столь юные лета, был награждён таким высоким отличием. Вместе с ним – выпала и мне честь получить свой первый Георгиевский крест.
Услужливая память увела деда к тем годам молодости и отваги, бесшабашности…
***
Нашему эскадрону – сам Пётр Николаевич Врангель, командир корпуса, поставил задачу – выйти в тыл противника и «…пошуметь там, изрядно», привлечь на себя внимание главных сил, а когда они устремятся к нам, полагая, что здесь у русских и наметилось направление главного удара, корпус нанесёт молниеносный выпад по флангу австрийской дивизии и займёт уездный город.
Так всё и произошло, за тем исключением, что австрияки опомнились быстро и полностью окружили наш эскадрон, решив его добить, во что бы то ни стало. Один за другим падали в придорожную траву мои побратимы, спешно закатывалась жизнь моих боевых товарищей.
Эскадрон, спешившись, отстреливался, вначале – густыми пачками, а за убылью патронов – редкими, но смертельными для врага выстрелами. Совсем скоро дошло дело и до шашек. Оставив бесполезные уже карабины, в них не оставалось ни одного патрона, мы – человек тридцать, во главе с есаулом Еланцевым, бросились на врага. И он не выдержал, страшен был наш вид – все в крови, не было ни одного, кто бы остался без ран, наспех перевязанных нашими же нижними рубахами.
И мы прорвали коридор, а тут и наши поспели. Корпус нанёс по австрийской дивизии удар такой силы, что нас никто не преследовал и мы благополучно вышли к своим. Вышли, правда, громко сказано, так как на ногах мог стоять я, да Его Высокоблагородие. Ещё человек десять – лежали в беспамятстве, оглашая лес своими страшными стонами и криками.
Подоспевший к нам на выручку отряд застыл в изумлении – мы, с Его Высокоблагородием, стояли, опираясь спинами – друг о друга, замкнув левые руки в нерасторжимый замок, с шашками – в правых руках, все в крови и изготовились защищать своих увечных товарищей до последней капли крови.
Так мы, вместе, попали и в лазарет. Неслыханное дело – Его Высокоблагородие настоял, чтобы нас и в одну палату положили. Начальник лазарета попытался перечить, так Его Высокоблагородие так на него зыкнул, что тот угомонился и велел принести кровать и для урядника.
В этой же палате генерал Врангель и вручил нам высокие отличия: Его Высокоблагородию – Георгиевскую шашку, а мне – крест.
***
А сейчас, я, не сходя со своего коня, смотрел на германского полковника, в котором всё ещё угадывался тот молодой есаул и думал:
«Вот и свиделись, Ваше Высокоблагородие. Не думал Вас здесь сустреть. Во вражьем стане. А ведь был – душа-человек, любили и почитали все мы своего командира. И гордились Вами…»
Полынь, замешанная на крови, тяжело дурманила голову.
Не знаю почему, но я спешился – тяжело, от пережитого, спрыгнул с коня, сам вырыл сапёрной лопаткой могилу, неглубокую и, к удивлению своих однополчан, стянул в неё тело бывшего своего командира, закрыл лицо ему своим носовым платком, а затем – полынью, да и засыпал землёй.
И только комиссар полка, старый казак, мы с ним годками были, понял меня и велел всем любопытным не мешать мне.
Довершая свой печальный обряд, без жалости, но и без ненависти, думал:
«Где же ты так заблудился, сердечный, что с врагом на Родину нашу пошёл? Где так душой измаялся, что и веру утратил и совесть?
Ишь, служил, видать, долго, исправно, супостатам, до полковника дослужился…»
Шашкой сгрёб землю, с известняком, в яму. Знака никакого не стал ставить, напротив, сравнял могилу с землёй, чтоб неприметной была и никого не привлекала к себе.
«Прощевай, господин есаул. Есаулом я тебя и запомню, а вот фашистским полковником – не неволь, не хочу. Не встретимся более, даже и в будущей Вечной жизни. Так как – ежели есть Господь и он – судия всем самый высший и справедливый, то, полагаю, не сустреться нам уже никак, не должен Господь попускать тем, кто предал землю отчую и с врагом пришёл на родные пепелища. Поэтому – в аду гореть тебе, непременно, Ваше Высокоблагородие».
Был соблазн – шашку забрать, но памятовал заповедь старых солдат, ещё с той войны, когда мы вместе, с Его Высокоблагородием, в одном строю были и к единой цели своими шашками прорубались – ничего не брать с покойника, дурной знак.
Поэтому я и шашку положил, в канавку, возле могилы, да и загрёб над ней землю своими сбитыми и выбеленными солью сапогами.
Затем, нарвал кураю, полыни яркой, застелил свежую землю. Так она и скрылась из виду. Даже если и захочешь, так не найдёшь.
Взяв коня за повод, я медленно пошёл прочь. Одна мысль, как и помню, всё время вилась у меня в голове:
«И для чего жил человек? Имеет ли семью, детишков, продлил ли род свой? А может, так и стаял сухой ветвью и некому по нему и слезу пролить. Вспомнить некому... Зачем, тогда, и на этот благословенный свет явился?».
А через несколько дней я уже и думать перестал о своём бывшем командире, жизнь которого и оборвал мой быстрый клинок. Тут такие дела завернулись, что и себя забудешь.
Измолотил нас Манштейн. Весь полк полёг. Начальники наши, мать их в душу – редко заворачивал мой дед крепкое словцо, а тут не удержался, выругался – всё норовили бросать нас, в конном строю, против механизированных колонн вышколенного противника.
Да что там полк, весь Крымский фронт перестал существовать. Разрозненными группами войска отходили к Керчи, другим портам, откуда можно было рассчитывать переправиться на материк – кораблями Черноморского флота или рыбацкими сейнерами. Малая, но всё же – надежда.
И мы её держались. Но и свои жизни, не буду гневить Бога, мы – не за так отдавали фашистам, многие из них не вернулись к своим семьям, к своей германской земле. Ожесточились мы до крайности и уже никаких пленных не брали, если выпадала удача в бою. Клинок, слава Богу, рука держала ещё твёрдо.
И вот эта самая полынь, которой я и могилу моего бывшего командира засыпал, мне и самому жизнь спасла.
Через несколько дней страшных и кровопролитных боёв, остались мы с комиссаром вдвоём со всего нашего славного полка, Краснознамённого, имени красного героя гражданской войны Олеко Дундича. Чудное имя какое-то, я даже не знаю, из какого он народа, нации какой.
Комиссар раненый был. Мужик крепкий, степенный, держался мужественно, но понимал, что силы его на исходе. Поэтому он мне и приказал – Знамя полка, которое было при нём, принять, намотать на тело, под гимнастёрку и во что бы то ни стало, ежели – с ним что, дойти до своих и спасти святыню, как символ доблести красных конников и геройства.








