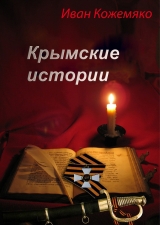
Текст книги "Крымские истории"
Автор книги: Иван Кожемяко
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
Заголовком первого стихотворения были бессмертные и святые слова:
«ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЁ»,
написанные его рукой в далёкое и невозвратное время.
«Слава Богу, – подумал он, – что именно этот девиз, эта высшая правда моей любви сбылась».
И он только крепче прижал её к себе.
***
Алые паруса мечты, надежды,
веры, любви должны, хотя бы раз
в жизни, появиться на горизонте у каждого.
Без этого – не то, что жить,
но и существовать невозможно.
И. Владиславлев
АССОЛЬ
Сохрани меня Господь, рассудок ещё не утратил, противопоставлять свои несовершенные заметки Великому Мастеру Александру Грину и предлагать на суд читателей какую-то новую версию его чудесной и светлой сказки – не дерзну и не собираюсь.
Нет, это неприкасаемо и трогать этого нельзя, ни при каких обстоятельствах. То, что явили мастера в своё время – должно таковым и остаться. А сегодня, к несчастию, все снимают и ставят «по мотивам».
Нет, господа хорошие, что видел автор и что гением своим высветил, давайте и постигать. Смотришь, может и приблизимся к совести и правде и не Ксению Собчак во всех рейтингах будем ставить впереди даже Гагарина, а задумаемся о том, для чего приходит человек в этот мир и какой след он должен в нём оставить.
А то мы уже и так запутались в повторах, бесстыдных и низкопробных: «Тихого Дона» – Сергеем Бондарчуком (грешен, каюсь, товарищи и коллеги знают, что и сам, не зная какой вселенский позор за этим стоит, писал письма и в адрес минкульта, и итальянцам, чтобы вернули на Тихий Дон – «Тихий Дон мэтра. Помню, отрезвление наступило лишь в тот миг, когда позвонил лично Скобцевой, и как она меня отчитала, попросила не лезть в эти их семейные и личные проблемы. Но я-то не знал, что они сулят «святому семейству» огромные деньги, как это впоследствии и выяснилось. Да простит меня почтенная актриса, но её мать Григория в этом фильме – самый страшный и чудовищно-нелепый образ. Ну, да это к слову), «12» Михалковым, пиес Захарова (именно так, так как к творчеству великих наших предшественников они никакого отношения не имеют) «по мотивам» Чехова – что становится просто стыдно и противно.
Ну, ладно, ослабели они рассудком, да и денег им немеряно платят за такое, с позволения сказать, «творчество», но мы-то почему ввергаем себя в добровольное сумасшествие и смотрим этот бред?
Не сними мэтр свой «тихий дон», пишу специально с маленькой буквы, и остался бы в нашей памяти автором великой «Войны и мира», «Судьбы человека», исполнителем пристойных ролей в иных фильмах. А так – стыд и бесчестье.
Но разве он один? Множество их, присосков, дитяток, внуков, которые не хотят сеять и пахать, зато вкусно едят и мягко спят – появилось в последнее время на наших просторах.
По-моему, только оборотистым Н. Михалкову, да «крестничку» Путина Фёдору Бондарчуку и открыт государственный карман для съёмок мерзости и всяческих иных низкопробных штучек. Уж так их «утомило солнце», что готовы клеветать на Отечество, их вскормившее, без всякого стыда и совести.
Да и то, хватает не только на свои бесталанные фильмы, но и на корабли, пароходы, жён, любовниц…
Вон, брательник Никиты Михалкова, не может даже упомнить, сколько раз он был женат-разженат, стал даже новым латифундистом, более того – крепостником, только, правда, его крепостные на вилы поднимут, если он появится в своих «боляринских владениях» за нерадение к людям, презрительное к ним равнодушие, невыплаты зарплат.
Не царское это дело – пектись о смердах, Никита Сергеевич нас намедни просветил, что не Михалкǒвы они, а бояре Михặлковы. Знать, значит.
Поэтому – нет, сохрани меня Господь, «улучшать» Грина я совершенно не собираюсь.
Я ведь – совершенно о другом. О своём. Хотя таком далёком, что, казалось бы и забыть уже пора.
Или, по меньшей мере, не тревожить память тех далёких лет. Как знать, будут ли всем приятны и нужны мои воспоминания?
Находясь в Ялте, вечерами я долго бродил по набережной. И в этот день, устав и продрогнув, всё же осень, не июль на дворе, я решил подняться на борт легендарной «Испаньёлы» (или «Испаньолы», не знаю даже, как и написать), где молодой Василий Лановой так хорошо играл капитана, правда, с неживыми волосами, почему-то я это видел всегда, с детства, которого ждала на берегу странная девочка Ассоль, верящая в то, что появится её герой под алыми парусами и увезёт к новой жизни и новому счастью.
И молоденькая Вертинская в этой роли была просто ослепительна, чиста и прекрасна.
Но сегодня кораблик уже давно не на плаву. И, наверное, правильно поступили ушлые дельцы, что хоть для такого дела приспособили – под ресторан, а не уничтожили и не сожгли где-нибудь у причала.
И я, взойдя на крутую корму этого кораблика, сел у иллюминатора и попросил очаровательную молоденькую девушку-официантку, принести мне барабольку, с картошкой и бокал портвейна красного Ливадийского. По преданию, как я уже в этой книге не раз отмечал – именно это вино, находясь в Крыму, любил пить последний император России.
Дожидаясь заказ я оглядывал зал. Людей было очень мало. И каждый норовил сесть за столик в одиночестве.
К слову, это очень серьёзный вопрос, что с нами сталось, что мы перестали желать даже общества друг друга. Никто нам не интересен, не хотим мы беседы на серьёзные проблемы, а уж о вечном и высоком – вообще говорить перестали.
У меня есть два наблюдения на этот счёт – попробуйте, умышленно, пройти за кем-нибудь минуту-две. Вас примут сразу за человека с дурными намерениями и постараются от Вас отделаться каким-то образом или даже сдать милиционеру.
И второе – мы совершенно перестали писать письма. И на мой взгляд, оскудение души у человека началось именно с этого.
Предаваясь этим мыслям, я встретился глазами с женщиной почти своего возраста.
Я знал уже с первой секунды, что это она – Оленька Бычкова, которая очень давно, почти сорок лет назад, и была той Ассолью, от которой у меня кружилась голова.
И которой я написал немало восторженных стихов и признаний.
Узнала меня и она. Я, как учтивый человек, поднялся из-за своего столика, поклонился ей, а затем и решительно подошёл к ней.
– Вы позволите?
Она с доброй улыбкой тут же парировала:
– А что, мы на «Вы» с тобой стали?
Секунду выждав и не дождавшись моей оценки своим словам, она продолжила, чуть грассируя голосом и играясь со мной:
– Милый мой, ты же всегда, до самого последнего удара моего сердца, будешь только ты, ты, ты.
Сказано это было таким тоном, каким матери говорят с детьми, а ещё – любуясь собой, своим великодушием и памятью.
– Или – уже нельзя? – и она скользнула торопливым взглядом по моей Звезде Героя на левой стороне строгого чёрного пиджака, почти у плеча.
– Оля, ну разве это важно? Конечно же – и ты всегда будешь для меня святой и доброй памятью о юности, о той светлой любви молодого офицера, лейтенанта, к необычайно красивой девочке, даже – ещё не девушке.
Она досадливо поморщила нос и сказала:
– Ты сразу выстраиваешь меня, чтобы я, не дай Бог, не заговорила о настоящем. Ты оставляешь возможность обсуждать только прошлое, да?
– Так всё же – я могу присесть возле тебя? – перебил я её своим вопросом.
Она чопорно, но с искрами смеха в милом, но уже забытом голосе ответила:
– Почту за честь! Господи, как же я счастлива, что встретила тебя. Теперь и умирать не страшно…
Я стал внимательно её разглядывать.
Она была ослепительно красивой. Мне кажется, что даже ещё красивее, нежели я знал её молоденькой десятиклассницей, которая и играла роль Ассоль в школьном театре.
И я её первый раз и увидел на сцене. именно в школе. В районном городке Ляховичи, что на Брестчине, в Белоруссии.
Хорошо помню, что я должен был там выступать с приветствием ко дню Советской Армии.
Лишь миг, секунды, я видел её в этой роли, но их хватило, чтобы уже не забыть это необыкновенное чудо никогда…
Тогда я ещё не знал, что жизнь всегда сильнее наших желаний и даже чувств. Или обстоятельств, в которых оказывается человек.
С этой секунды и зародилась эта красивая и чистая любовь, святая. За ней не стояло ни корысти, ни, сохрани Бог, какой-либо вольности, поспешного желания быстрее пробежать все фазы отношений между молодыми людьми.
Мы ведь даже за руки взялись только через месяцы нашего знакомства, а первый, невинный и святой для меня поцелуй, вообще случился через годы.
Я боюсь с позиций сегодняшнего дня и тех отношений, которые существуют между молодыми людьми, даже сказать, что же это было?
Любовь, обожествление, поклонение, преклонение, восхищение, любование?
Наверное, всё вместе. Нас, обоих, эта любовь возвышала и окрыляла, делала лучше и чище, благороднее и искреннее.
И я даже сегодня не могу объяснить, почему она так завершилась.
Нет, не умерла, не ушла из жизни, а истаяла, как мираж, оставив в сердце глубокий и чистый след.
И горечь, и жалость, которые, со временем, превратились в чувство щемящей грусти, но всегда, во все времена – желания добра, да искренние желания добра той, которая вызвала такие сильные чувства в моей душе в юные лета.
Я безмерно благодарен жизни, что мне было дано пережить такое светлое чувство. Оно, мне кажется, сделало меня чище и светлее в жизни и подготовило к тому великому чувству любви, которым жизнь меня вознаградила гораздо позже.
– Милый мой, и я ведь сейчас думаю об этом, – донёсся до меня голос Ольги.
– А ты разве знаешь, о чём я думаю сейчас?
– Знаю и чувствую. Ты думаешь, почему так завершилась наша любовь? Ведь она не умерла ни в твоей, ни в моей душе, мы ведь и до сей поры друг другу не безразличны, я просто боюсь сказать, видишь, лукавлю, что я и сейчас… люблю тебя.
И любила все эти годы.
– Мне думается, – это она уже смеясь своими лучистыми глазами, – мы были… слишком – невинными и идеальными.
А мир, вокруг нас, таким не был. Он, к сожалению, был гораздо более жестоким и именно этот мир и развеял наше чувство.
Знаешь, что мне сказал отец, когда узнал, что мы с тобой встречаемся?
Вечная ему память, но он просто растоптал мою любовь к тебе, такую светлую и чистую. А я была слишком слабой, чтобы этому противостоять.
Он сказал: «Ты брось мне встречаться с этим солдатом. Они все – хамы и примитивы. И я тебя растил не для того, чтобы ты каталась по гарнизонам с одним чемоданом. А ослушаешься – всего лишу. Не получишь ни копейки».
Мать была более лояльной, даже плакала со мной. Но тоже просила меня… хорошенько подумать, принимая решение.
Она надолго замолчала, а потом, собравшись с силами, продолжила:
– И я… слишком долго думала. Помнишь, когда ты узнал об отношении к тебе моих родителей и как ты мне предложил сразу же уйти из дома.
Знаешь, я даже слова твои помню, как ты мне при этом сказал: «Под венец зову, а не для позора. Решайся!».
А я не решилась. И ты годы, и годы ещё ждал, думая, что что-то изменится, а я, домашний ребёнок, истово и самозабвенно любя тебя, боялась презреть волю родителей и не смела их ослушаться.
А впереди – когда ты, отчаявшись увлечь меня за собой, напросился в Афганистан – стало нестерпимо больно и страшно. И… даже обидно, что ты от меня всё же отступился.
И я, словно под гипнозом, была выдана замуж за того, кто нравился им, родила двух детей.
Но душа моя умерла. И уже не оживала никогда.
И только тогда, когда твоя мать меня известила, что ты тяжело ранен в Афганистане, а уже из газет узнала, что ты стал Героем, – и она показала глазами на Золотую Звезду, – мне стало понятно, что великое преступление совершила против нашей любви.
– Прости меня, – и она, неожиданно для меня, поцеловала мою руку.
Я похолодел, но руку не убрал, так как она, прижавшись к ней лицом, зашлась в рыданиях.
К нам подошла официантка – Ассоль, в красной юбке и красной косынке, повязанной как галстук на шее и спросила:
– Вашей даме не нужна помощь?
– Нет, деточка, – подняла Ольга мокрые, все в слезах, глаза:
– Нашему горю не поможешь, а случилось оно сорок лет назад.
Я просто убила любовь, свою любовь и любовь ко мне этого замечательного человека, самого лучшего из людей.
Девчушка-официантка в растерянности улыбнулась, а затем сказала:
– Господи, какие же Вы счастливые, если пережили такую любовь и через сорок лет об этом помните. Сегодня так уже не любят. Не научили нас…
Мы же, с Ольгой, больше к печальным страницам наших взаимоотношений не обращались.
И всё реже в нашем разговоре звучало:
– А помнишь?..
Я всё помню, милая Ольга. Всё помню и ничего не забыл. И не хочу забывать. И не скоро смирился с такой роковой и страшной для меня потерей.
И лишь через десять лет, будучи в Афганистане уже второй раз, нашёл свою судьбу и счастье, мать моих детей.
Когда я умирал, будучи тяжело раненым, она мне отдала свою кровь.
И я, только придя в себя, и попросил у неё руки и сердца. Тогда она была фельдшером батальона, гораздо моложе меня.
А в девяностом году она погибла в Баку, спасая от расправы старую армянку. Нож погромщика вошёл ей прямо в сердце…
Я проводил Ольгу к её санаторию и получил приглашение подняться к ней в номер.
И, как в юные лета, этого не сделал.
Назавтра она уехала из Ялты, даже не известив меня об этом.
Наверное, так было самым правильным. В одну реку дважды не входят. И я – даже вослед ей, для себя лишь сказал:
«Нет, Оля, ты ошибаешься. Я не могу тебе сказать сейчас, что люблю тебя, как и прежде. Я люблю память о тебе, но лишь в том времени, в котором мы были молодыми и юными.
Да, болел тобой долго, это правда, но затем – спасибо судьбе и жизни, я нашёл своё счастье и смысл жизни».
И я почувствовал, как она, будучи от меня далеко, вздрогнула и раздался её голос в моём сердце:
«И ты меня больше не любишь?»
«Нет, не люблю, но храню светлую и добрую память о той девочке, которая любила меня почти сорок лет назад. И я её любил.
А потом – на меня смотрят везде, куда бы я ни приехал, ЕЁ глаза – с портрета, который я сделал уже в наши дни и я его вывешиваю на стену везде – в гостинице, в любой армейской ночлежке.
И говорю с ней, молодой и красивой, в камуфляже, с сержантскими лычками на погонах и двумя орденами Красной Звезды на груди.
Второй из них, как ни смешно, ей дали за меня, за моё спасение на поле боя.
Как же, важный столичный начальник и она его спасла, за это полагался орден.
И я всегда, уходя и приходя в своё жилище, прикасаюсь к её портрету своей рукой и шепчу: «Спасибо ТЕБЕ. За всё. За то, что был счастлив, за то, что ТЫ меня любила. Без расчёта и выгод, не думая о моём генеральстве и о моей Золотой Звезде.
Просто любила. И шла на край света, не спрашивая, а сколько же лет будешь учиться в четырёх мединститутах, в которые переводилась…
И родила мне прекрасного сына и дочь, которых научила чтить отца и любить своё благословенное Отечество.
Мне очень плохо без ТЕБЯ.
Если бы ТЫ знала, как мне плохо без ТЕБЯ, но я не могу осквернить память о ТЕБЕ, и представить рядом с собой другую женщину, пусть даже она была любима в прошлом.
Другой, такой, как ТЫ, нет в целом мире.
Да я и не искал других. Всегда, узнав ТЕБЯ, был тебе верен и любил только ТЕБЯ, родная моя, счастье моё светлое и такое далёкое, недостижимое сегодня.
Не докричаться и не дозваться ТЕБЯ только. Слишком далека дорога, по которой ТЫ ушла навсегда, безвозвратно.
А я… всё жду ТЕБЯ и думаю о той встрече, которая у нас впереди
Увижу ТЕБЯ и с великим восторгом любящего сердца прокричу на всю Вселенную:
«Да, Святится Имя, Твоё!».
***
Перед прошлым не надо
благоговеть и постоянно призывать
его в свидетели сегодняшнего дня.
А вот помнить о том, что жизнь
не делится на вчерашнюю и
сегодняшнюю, непременно следует.
Она – едина. Ни прервать,
ни вычеркнуть ничего из неё нельзя.
И. Владиславлев
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
Как страшно защемило сердце. Оно всегда у меня начинало болеть в те редкие теперь минуты, когда я приближался к этому месту.
Ровно три года назад, у этого берега, движимый необъяснимым чувством отчаяния и боли, не для облегчения, нет, а для того, чтобы слиться с НЕЮ во Вселенной, во всей Безбрежности, я и бросил в пенные волны моря своё заповедное, то, самое первое, объединяющее с НЕЙ обручальное кольцо.
Мне кажется, ОНА не осудит меня за этот поступок, ибо в той жизни мы ещё встретимся и мне, нет, не ЕЙ, а лишь мне – держать ответ пред НЕЮ за все мои прегрешения.
Не думаю, что их было много, но и отрицать их наличие – совести не хватает.
Но это когда будет? Только Господу ведомо, а так, мне кажется, и не перерывается моя связь с НЕЮ через водную стихию, которую ОНА так любила и в которой остались атомы ЕЁ тела.
Так было и сегодня. Стараясь унять боль в сердце, я зашёл в прибрежный ресторанчик и устроился за любимым столиком.
Коньяк остудил голову, она наполнилась лёгким теплом и боль уже не столь беспощадно сжимала измаявшееся сердце.
И услышав объявление, что предлагается морская прогулка на теплоходе, со звучным названием «Саманта Смит», я направился к кассе.
Знакомый берег, очертания едва видимых в дымке Ореанды, Ливадии, знаменитых в Советском Союзе домов отдыха и санаториев, дополнялись уродливыми новостройками – роскошными замками «новых украинцев» под красными крышами.
«Точно, как у нас на Рублёвке» – подумал я, – и смотреть на берег при этом мне сразу расхотелось.
Уйдя в свои мысли я даже закрыл глаза. Задремать мешал привычный и равнодушный голос экскурсовода, которая, наверное в тысячный раз, рассказывала о беседке Курчатова, о летней даче императрицы, последней, и об иных прелестях Южного берега Крыма, которых здесь в изобилии.
«Что же я в жизни так тебе задолжал, Господи? Где я сбился с той дороги, что Ты мне заповедал, что ты так жестоко меня наказал?
Ведь Ты не одну жизнь, при этом, самую лучшую и достойную, забрал к себе, Ты ведь и меня лишил самого смысла существования.
Я же так просил Тебя, Господи, забери мою жизнь, даруй ЕЙ только благополучие и здоровье. И жертву эту я бы принёс без раздумий.
Она имела больше прав на жизнь, так как была СВЯТОЙ и БЕЗГРЕШНОЙ. Служила людям истово, без любого расчёта на их благодарность».
Но не услышал меня Господь. Так и истаяла ОНА, лучшая из людей, а с НЕЙ – и моя душа обуглилась и перестала чувствовать и боль, и счастье.
Не утешило меня и то, что священник заявил в беседе, что «… лучшие самому Господу нужны, вот он им и дарует царство вечное».
Боль одиночества становилась невыносимой. И я чувствовал, что просто схожу с ума, особенно – по долгим вечерам и бессонным ночам.
И странное дело, когда я бросил в море кольцо, мне стало как-то легче.
Может, время стало вершить свою тайную работу и страдания стали отступать, а может – действительно мы так и слились с НЕЙ в единой и любимой среде, и ОНА, из жизни вечной, имела возможность общаться со мной и даже утешать меня.
Под эти мои горестные размышления теплоход повернул на обратный путь.
И я пошёл на корму, где работал бар и, с наслаждением, выпил изрядный бокал коньяку.
На душе сразу потеплело. Голова приятно кружилась и от сердца отступила страшная боль.
И вот – снова набережная. Я не торопился. Да и куда мне было спешить, если я был один на всём белом свете?
Но когда я всё же поднялся, чтобы сойти с теплохода, случайно увидел, под столом, обычное обручальное кольцо маленького диаметра.
Я взял его в руку и в растерянности спустился по трапу.
«И что мне с ним делать? – подумал я, – отдать в кассы, пусть объявят по радио, может и найдётся беспечная хозяйка».
Выйдя на пристань я увидел очень красивую молодую женщину, которая плакала навзрыд и всё показывала молодому мужчине свою правую руку.
До меня донеслось её трагичное, чрез слёзы:
– Оно же только было у меня на пальце. Даже за столом. Где я его потеряла?
Я подошёл к ней. Мне почему-то не понравился её избранник, на лице у него, в минуту её горя, сочувствия не виделось, одно раздражение.
– Милая девушка, не эту вещицу Вы потеряли? – и я протянул ей на ладони только что найденное обручальное кольцо.
– Ой, это оно, оно, честное слово это моё кольцо! Поверьте мне!
И уже не обращая на меня никакого внимания, она торопливо взяла кольцо с моей ладони и, воздев его себе на безымянный палец правой руки, держа её пред собой на весу и счастливым взором разглядывая обретённую дорогую находку, бегом увлекла за собой своего избранника. Вскоре они слились с толпой на набережной и растворились в ней.
Тихая грусть захватила моё сердце. И я, неспешно идя к гостинице, думал:
«И снова – кольцо. Что же за судьба такая в этом кусочке металла? И почему его так боятся утратить люди, а матери – даже говорят дочерям на выданье: «Береги кольцо! Сохрани тебя Господь, потерять его. Тогда и жизни не будет. И судьбы».
Мозг не давал мне покоя и дальше:
«Да, обручальное кольцо, от корня – обруч, связь, крепь. Без обруча никогда не сладить бочку. Не удержать в ней ни воды, ни вина.
А на Украине так и говорят – обручка, так называют там кольцо.
Обряд обручения – тоже отсюда. Это присяга на верность. Клятва идти одной дорогой, навсегда, и самое главное – к одной цели…».
Эти мои сентенции прервало видение счастливого лица в толпе зевак.
Молодая женщина лучилась от счастья, изредка поднимала к своим глазам правую руку и увидев кольцо, красиво улыбалась сочными и яркими губами.
Иным было лицо и у её избранника. Он с восхищением смотрел на молодую женщину, правда, его взгляд только несколько портило выражение абсолютного собственника.
Что делать – наверное, мы все так смотрим на своих женщин, на своих избранниц, на всё то, что принадлежит нам, как мы думаем, по праву.
Так ли это на самом деле?
Один миг, один поворот судьбы – и ты нищ, сир и убог, когда из жизни уходит любовь, да не по прихоти – любил-разлюбил, а по самому страшному утратному закону, от которого не отмолиться и не выпросить у Господа милости и возврата былого счастья.
***
Не каждый из нас имеет
счастливую возможность
поговорить за жизнь
с незнакомыми людьми,
которые в ходе беседы
становятся роднее
кровного родства.
И. Владиславлев
РАЗГОВОРЫ ЗА ЖИЗНЬ В ВИННОМ ПОДВАЛЬЧИКЕ
Этот винный подвальчик всегда меня привлекал тем, что публика собиралась здесь особая – интеллигентные, необычайно приятные и красивые балаклавские рыбаки, которые всю жизнь прожили друг с другом рядом, считай, на одном причале.
Вместе праздновали дни рождения детей, вместе гуляли на их свадьбах, вместе же и провожали в последний путь тех, кто довершал свою борозду на ниве жизни и представал пред Господом, чтобы тот определил его судьбу в жизни вечной.
А что её было определять, если каждый здесь жил по совести, и не мог ни слукавить, ни поступить бесчестно, всю жизнь в честном труде и хлопотах.
Поэтому, по мнению рыбаков, их товарищи заслуживали лишь одного – светлых врат рая, где и встретятся, словно и не расставались, со своими многочисленными родственниками, предшественниками и друзьями.
И даже там, в жизни вечной, удивлялись остальные насельники владений Всевышнего, наблюдая за ними, балаклавскими тружениками – вот она праведность и честность, вот она жизнь – в благости и чести, в служении Господу.
Им ни в этой, ни в той жизни не надо ни лукавить, ни быть двуличными.
Они, зная друг о друге всё, часто состоя в близком родстве, всегда обращались друг к другу на «Вы», не повышая голоса и только громко вздыхали, если их товарищ не то, чтобы завирался, а как-то забывал, что событию, о котором он говорил, свидетелей было немало и оно немного было не таким уж и цветастым и значимым, величественным и красивым.
Да и происходило оно не с рассказчиком, а с его отцом, а то – и дедом.
Но это было неважно. Главное, чтобы история эта была интересной и слушалась теми, кто хотя и знал уже наизусть всё, что скажет рассказчик, но внимали своему другу так, словно её рассказывали впервые.
Вторым, большим отрядом этого подвальчика, были армяне.
Чёрные, как грачи, а те, кто постарше – с белыми волосами, большими же носами и всегда детскими наивными очами, они были предупредительными и вежливыми и главным было лишь одно правило в разговоре с ними – не усомниться, что все самые значимые учёные, врачи, писатели – были армянами.
А деревня Баршатлы, что в Нагорном Карабахе, дала державе самых выдающихся полководцев – трёх маршалов, которые и решили исход войны – Баграмяна, Бабаджаняна и флотоводца Исакова (Исакяна).
И только один посетитель здесь всех волновал, ко всем приставал и, как тот петух, вступал с ними в громкие споры, которые, правда, заканчивались неизменным примирением и высокими тостами.
Этим особым человеком был пожилой грузин, который и языка-то грузинского не знал, родился здесь, в Крыму, здесь же родились его отец и дед, но он себя иначе, как грузином не считал и. особенно непримиримо, спорил с армянами, утверждая, что его народ – самый заслуженный среди кавказских народов и доблестей высоких совершил намного больше, чем иные народы.
– А вы скажите, кто был главным героем Бородинского сражения, спасшего Россию от Наполеона?
И уже торжествуя, досаждал армянам до сердца:
– Что-то я не слышал об участии в войне с Наполеоном армян. Где вы были в ту пору? А о князе Петре Багратионе – знает всяк живущий.
Армяне деликатно не вступали в спор по этому, острому для них, вопросу.
И их попытки обратить в свою пользу вклад в Великую Победу над фашистами своих земляков – результатов не приносил.
– А что Ваши Баграмян, Бабаджанян и Исаков, я извиняюсь, они – чьи приказы выполняли?
И конца этим спорам не было. Но в них никогда не нарушалась мера, люди не переступали за тот порог, после которого начинались бы, как у других народов, оскорбления и оговоры.
Пришлось и мне несколько раз вступить в эти споры с репликами.
Особенно болезненно переносил грузин вопросы о сегодняшнем дне, о том умопомрачении, которое случилось у руководства страны и оно повело дело даже к прямому противоборству с Россией.
– Отец, а не народ ли Грузии виновен в том, что происходит сегодня?
Как же он мог избрать к руководству бесноватого Саакашвили?
Забыл и презрел – не кто иной, а именно народ – вековую дружбу с Россией.
Знаешь ли ты, что по Георгиевскому трактату, договору 1732 года, Грузия НАВЕЧНО бралась под защиту и сбережение именно русским народом, к тому же – единоверным?
И в это время ни Абхазия, ни Аджария, ни Южная Осетия не входили в состав Грузии, это были самостоятельные государства.
Грузин приходил в замешательство.
Ответов на эти вопросы он не знал, но и не хотел сдаваться.
И под аплодисменты армян, которых он давно просто достал, наконец находил что сказать:
– Да какой Саакашвили грузин? Не знаю такого грузина и не знаю, как он у власти оказался.
При этом он так картинно выстраивал неподдельное изумление на лице, что зал начинал одобрительно гудеть, забыв о минутной обиде и уже поддерживая его:
– Знаю твёрдо одно, что мой отец воевал за весь народ и вместе со всем народом – и с русскими, и казахами, и украинцами, и с армянами – сокрушил фашизм. Только наше вековое братство и позволило выстоять в таких испытаниях.
При этих его словах, все довольно заговорили:
– Молодец, правильно говорит…
На этом спор исчерпывался и начинались разговоры за жизнь: кто детей женил; какой урожай фруктов был в этом году; как ловится рыба?..
Таких тем было великое множеств, и у всех посетителей этого погребка – было что сказать по каждому обсуждаемому вопросу, посоветовать молодёжи, которая тоже здесь присутствовала.
Я не чувствовал себя чужим на этих посиделках. Везде были родные лица, разговор вёлся исключительно на русском языке.
И у всех этих великих тружеников с мозолистыми руками, так же болели души за происходящие на Украине события.
– Как же это так, – недоумевали люди, – президент фашистское охвостье, предателей и изменников приравнял к героям-фронтовикам.
– О каком вступлении в НАТО может идти разговор? Когда нам угрожала Россия? Не она ли и спасала и спасла Украину в стародавние времена, при Хмельницком?
Тут же вскочил грузин и громко, на весь зал, заявил:
– Мы все здесь – русские и что, мы враждебны Украине? Да это же наша земля, мы здесь выросли, здесь могилы наших родителей. Мы ведь и веры единой, а нас кто-то делит, разрывает насильно наше вековое братство и союз наш…
После этих разговоров и выпитого бокала доброго вина, я выходил к морю и всё думал:
«Что же вы делаете, правители-властители с народом?
Ну, устраните из жизни людей всё, что им мешало. Но не трогайте того, что облегчало жизнь людей, что держало их вместе, не давая распасться вековым связям.
Как же жить на Украине моему старшему брату – русскому, женатому на грузинке? Где их Родина? Отечество их где?
К слову, самый сложный вопрос – все мы, от националистов Эстонии, Литвы, Латвии – лишились Отечества. И если государство, пусть несовершенное, хромое, но у каждого всё же имеется, то единого и великого Отечества не стало.
И сколько таких сирот осталось по миру?»
А мысль уже вела дальше и не давала покоя.
Глупость, несусветную, совершил Хрущёв, но будем честными, ему ведь в 1956 году и в дурном сне не снилось, что СССР распадётся, поэтому и «передарил» Крым Украине, который никогда Украина не боронила, не защищала, а всё же – Суворов с Кутузовым бились за вновь обретённые земли русские.
Да, русские, так как в Кюйчук-Кайнаджирском договоре, чёрным по белому было вписано, что Турция передаёт в вечное владение России, вслушайтесь – России, города Дербент и Баку с прилегающими землями, а также полуостров Крым.
Никакой Украине, да её и не было в ту пору, эта земля не передавалась.
Её гетманы, чуть раньше, как падальщики, вместе с поляками, всё терзали русскую землю своими набегами, а их последователи, в лице Мазепы, даже удостоенного ордена Андрея Первозванного, воздетого на него лично Петром Великим, пошли уже в прямое услужение извечным врагам России, расчистив дорогу Шухевичам и Бандерам, Коновальцам, а ещё чуть раньше – Петлюрам и Виниченко, Скоропадским, от которых везде – только кровь, слёзы и пожарища, и смерть безвинных людей.
Это же мы только говорим, что фашисты в Бабьем Яру расстреливали и евреев, и украинцев, и пленных красноармейцев, и цыган.
Нет, мои дорогие, немцы в этом почти не повинны. Расстреливали как раз – недобитки мазеп и петлюр, новоявленные палачи из Украины.
И Крещатик славу свою вековую страшно уронил и испоганил тем, что хлеб-соль фашистам на нём подносили. И после этого – Киев город-герой?
Он и стал городом-героем в результате жульничества Хрущёва и его веры в то, что никто не будет противиться его воле.
Город, к сожалению, никаким героем не был, ибо по удельному весу фашистских прихвостней оставил далеко позади даже татарский Крым, Чечню и Ингушетию, Калмыкию. О которых мы стыдимся сегодня говорить правду.








