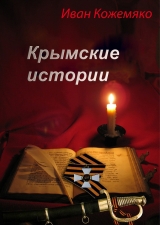
Текст книги "Крымские истории"
Автор книги: Иван Кожемяко
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
Я заверил комиссара, что только смерть, а от неё ни у кого не было гарантии укрыться, помешает мне выполнить его приказ.
– Нет, сержант, не имеешь права ты погибнуть. Во имя всего полка, прошу тебя, дойди и расскажи всем, как мы гибли, но честь сберегли. И святыню нашу – Боевое Знамя не посрамили. Поэтому, мой тебе приказ – выжить, дойти до своих, хоть змеёю ползи, но дойди до своих.
А тут, на утро, когда комиссар стал уже бредить, фашистские мотоциклисты, с пулемётами, всю степь стригли очередями, выискивая случайно уцелевших наших бойцов, нигде, если бы и хотел – не укроешься.
И комиссар, мгновенно придя в себя, из последних сил оттолкнул меня под обрыв, встал на ноги, качаясь, рванул гимнастёрку на груди и с одним «ТТ» пошёл навстречу врагам.
И тут я понял, что это он от меня опасность отводит, даёт мне возможность уйти и выполнить его приказ.
Я метнулся в заросли, да и затаился там. Услышал торопливые выстрелы из «ТТ», а затем – длинные пулемётные очереди. Я всё это видел, как очередь из пулемёта – пересекла его, почти поперёк. Но он не упал сразу, а как-то медленно встал на колено, опёрся рукой о землю и только после этого быстро кувырнулся на бок, да и загрёб, по полыни, своими разбитыми хромовыми сапогами.
Я рванулся к комиссару, но, в последний миг опомнился – Боевое Знамя полка было на мне и я не имел права на опрометчивый поступок, хотя в немецком «шмайсере», который я забрал у зарубленного мною фашиста несколько дней назад, был ещё почти полный рожок патронов.
Понимал, что слава и доброе имя полка – дороже двух-трёх поганых жизней фашистов.
Так я и пролежал, до поздней ночи, в полыни. Даже голова страшно разболелась от густого настоянного запаха, а уж гнус покоя не давал и потную шею, руки, лицо всё – искусал до крови.
Я уже даже не отбивался от него, бесполезно всё было. Просто терпел.
И только ночью, наспех похоронив комиссара, забрав у него все документы из кармана, фашисты почему-то его так и оставили, убитого, в полыни и пошёл туда, где мерцали далёкие зарницы не затихающего сражения.
Почти под утро я всё таки вышел к своим. Прямо у переправы на Тамань.
Увидел генерала, не знал его, но, видно было, что он самый старший был у переправы, так как много командиров к нему с докладами спешили и получив указания – тут же устало, скорее – для формы, козыряли и спешили к своим частям.
Человек, было сразу видно, волевой, умный. На переправе был установлен железный порядок и офицеры комендатуры не церемонились с паникёрами и трусами, иными шкурниками.
То тут, то там – потрескивали пистолетные выстрелы и люди, сторожась, подтягивались, сбивались в строи подразделений и норовили, по установленному порядку, как можно быстрее, погрузиться в катера, всевозможные шаланды и сейнеры.
Я, набравшись духу, подошёл к генералу, еле пропустила охрана, остерегались диверсантов, поэтому и «шмайсер» мой забрали, и трофейный пистолет.
Шашки только я не дал:
– Не трожь, сопляк, нос вначале вытри – сказал я молодому рослому бойцу из комендатуры, – я с ней с четырнадцатого года…
Он недоумённо уставился на меня, а я – только рванул шашку на себя и ещё твёрже ему сказал:
– Не трожь!
И тот как-то стушевался и всё же пропустил меня к генералу.
– Товарищ генерал!
Старший урядник Шаповалов…
Генерал даже засмеялся:
– Узнаю старого солдата. Старший сержант, ты хотел сказать, солдат?
– Простите, товарищ генерал, запамятовал после встречи, недавней, с сослуживцем бывшим, – и я чуть выдернул из ножен шашку.
Генерал, опытный вояка, увидел сразу на ней уже заржавленную кровь и посуровел:
– Слушаю тебя, солдат.
– Так что, товарищ генерал, Боевое Знамя при мне, нашего Краснознамённого, имени Олеко Дундича, полка. Вынес на себе…
И я, расстегнув гимнастёрку, быстро снял с себя ремень и, размотав Знамя со своего тела, на вытянутых руках протянул его генералу.
– Спасибо, солдат, – он благоговейно встал на левое колено, поцеловал алое полотнище, но брать его не стал.
– Вот и давай – на первый же корабль и на тот берег. Есть Знамя, значит и полк жив. Слава его жива.
И торжественно так, что я даже вытянулся в струнку:
– А тебе, старший сержант, властью мне данной – орден Боевого Красного Знамени.
Повернулся к своему адъютанту, чёрному от недосыпа, и распорядился:
– Запиши майор, сам проверю. За это святое дело – даже Знамени мало, да видишь, солдат, что творится. А на Героя, а ты его заслужил, нет моей власти. А пошлю, как установлено, не верю, что дадут. Фронт рушится, скажут, что не может при этом быть героев. Так что – с орденом тебя, старший сержант. Живой останешься – станешь и героем, Лихой ты казак. И я верю в это.
Снова обратился к майору и попросил налить мне стакан водки. Подождал, пока я её выпью и закушу куском хлеба, с каким-то мясом, а затем – задушевно так сказал:
– Жаль, нет времени поговорить, старший урядник – уже с доброй улыбкой на своём смертельно уставшем лице, проговорил генерал.
– Сам ту войну завершил штабс-капитаном, так что понимаю тебя, старший урядник, очень хорошо. Будь жив, солдат. Удачи тебе. А за Знамя полка – поклон тебе земной, – и он не рисуясь, а искренне, к недоумению всех командиров, стоявших рядом, поклонился мне до земли.
– Редкое событие тех дней – завершил дед свой рассказ, – чтобы через неделю мне вручили новенький орден Боевого Красного Знамени, вот этот, ещё на закрутке, без колодочки. Как и нашли в запасном полку, где формировался наш новый полк… Но под спасённым мною Знаменем.
Вот такие две истории мне наполнил багрец полыни, которая в Крыму всегда разгорается к ноябрю и долго затем полыхает, до самых новогодних дождей, а то и снегов.
А у меня дома, всегда, стоит веточка полыни и её горьковатый запах напоминает мне пережитое и услышанное от деда моего, Георгиевского кавалера той далёкой уже и орденоносца минувшей Великой Отечественной войны.
Вечная память тебе, дед. Ты оказал на формирование моей души огромное влияние. И я тебя всегда помню.
Поклон тебе земной, старый солдат.
А шашка твоя, та, с которой ты и завершил минувшую войну, так и висит у меня на стене, как символ чести и славы.
Наступит час – сыну передам, как ты мне в тот святой майский день, когда собирался в самую дальнюю из дорог, из которой уже не возвращаются к родному порогу.
На всю жизнь запомнил я этот день – в майском цветущем саду на твоём подворье, в присутствии всех твоих друзей, почтенных старцев и солдат Отечества, ты и вручил мне свой боевой клинок.
Спасибо, дед, я это буду помнить всегда.
А пока мы помним ушедших, до тех пор и будет длиться наш род на земле, во славу благословенного Отечества.
Если сохраним память и славу своего Отечества, да не забудем о чести его защитников.
Только вот боюсь я, что всем эта память дорога. Столько завелось у нас двурушников поганых, не помнящих родства, откровенных отступников и предателей земли отчей, что в час испытаний не собрать такой единый строй, в котором деды и отцы наши шли на врага, к победе шли, всё превозмогая.
Вот это и страшнее всего.
***
Милосердными
могут быть
только те, кто сам
много страдал,
любил и верил.
И. Владиславлев
МИЛОСЕРДНАЯ СЕСТРИЧКА
Я давно уже приметил эту старушку. Она, как и я, ежедневно приходила на этот утёс и долго стояла у края обрыва, вглядываясь в безбрежную синеву моря.
Одета всегда была очень аккуратно, но необычная для женщины деталь – полосатая флотская тельняшка выглядывала из-под её нарядного пиджака, одетого поверх алой блузки.
И я чувствовал себя даже виноватым, что причиняю ей беспокойство и появляюсь на святом для неё месте, это было видно сразу по тому, как она приникала к камням щекой и что-то шептала, при этом, лишь для себя одной.
И на третий день я не выдержал, подошёл к ней и спросил:
– Простите меня, я, наверное, Вам мешаю? Тогда я уйду… Уж больно и мне это место понравилось – такой простор, дышится легко… и щемящая грусть от чего-то – я и сам не знаю…
Заинтересованно выслушав меня, эта, неведомая мне женщина, сказала:
– Нет, нет, – голос у неё, на удивление, оказался молодой и звонкий, – мне никто помешать уже не сможет… ждать его.
Опытным, не старушечьим, а живым взглядом, скользнула по мне, на миг задержалась уже выцветающими, но такими выразительными голубыми глазами на моей Звезде Героя, спросила:
– За Афганистан?
– Да, за Афганистан…
И больше мы в этот день с ней не говорили. Но я чувствовал, что даже как-то заинтересовал её. И мне было очень интересно узнать, кто она, эта необычная женщина и что за тайну она несёт по жизни.
В своих мыслях я не ошибся и уже на следующий день она сама заговорила со мной.
– А я здесь – с сорок пятого. Как пришла с войны, так всё и жду его.
Было видно, что и она к этой встрече готовилась тщательнее, чем обычно – на её пиджаке была внушительная орденская колодка, по которой я увидел, что у неё – орден Боевого Красного Знамени, две Славы, Красная звезда и Отечественной войны, множество медалей.
Я, как-то неожиданно для себя самого, приложил руку к сердцу и поклонился ей:
– Спасибо Вам, ни у одной женщины не видел таких наград, даже у Героев.
Видно, ей была приятна моя реакция, мой изучающий взгляд, остановившийся на орденских колодках, и она, даже помолодев на глазах, отметила:
– Не думали мы, сынок, о наградах тогда, мы Родину защищали. А награды – уже после сорок второго года пришли.
И встряхнув головой, словно решившись на что-то, дополнила:
– А я считаю, что это неправильно. Я бы всем, кто дожил – с начала войны до Победы, такую же геройскую звезду вручала.
– Вы совершенно правы, – отозвался я, – это было бы справедливо. Да и по заслугам.
– А в каких же чинах состоишь, сынок? Или уже не служишь?
– Генерал-лейтенант, мать. Служу ещё.
Она как-то даже стушевалась:
– Ну, сынок, прости, если что не так. Мы – простые люди…
Я требовательно взял её руки в свои и по сыновьи поцеловал:
– Зачем Вы так? Не надо. Я ведь тоже – не из князьёв. Все корни моих дедов-прадедов – на Дону остались.
И не выпуская её рук, продолжил:
– А главные люди, на всей нашей многострадальной земле – Вы, фронтовики. И если кто об этом забудет, тот и не человек вовсе.
– Спасибо, сынок. Что-то нынче не многие у нас, на Украйне, (она так и сказала – на Украйне) так думают. Вон, видел, как бандеровцев, всех фашистских недобитков, во Львове привечают?
И, вдруг, полыхнула гневом:
– Пока жива – не позволю над памятью героев глумиться. Зубами всякую нечисть, рвать буду. Не спущу надругательства.
С запалом, продолжила:
– Я же сама видела, как их, вот здесь, матросов наших раненых, а не раненого тяжело– ни одного и не было, фашисты штыками добивали.
Её лицо раскраснелось и она, громко и взволнованно продолжила:
– И с ними, уже тогда, прихвостни эти были, с Западной Украины. С повязками, в чёрных мундирах, с серыми воротниками. Так они даже впереди фашистов прыть свою показывали, старались. Страшно зверствовали.
Тяжело при этом вздохнула и уже совсем тихо, добавила:
– Не щадили, правда, и мы их после увиденного. Никогда не брали в плен.
Тяжёлые морщины собрались у неё на лбу, когда она с душевной мукой выговорила сокровенное:
– А он, сокол мой, меня и спас среди этого побоища. Я ранена была. Так он ночью уложил меня на плот, с кузова машины, привязал к нему, чтобы я в беспамятстве в море не скатилась, да и оттолкнул от берега.
Как-то удивлённо, словно и не с ней всё это было, выдохнула:
– Не знаю, за что Господь спас. В эту же ночь наш торпедный катер в море подобрал.
С той поры – вот и жду. Кто говорил, что видели его живого, и даже как на Сапун-гору вёл матросов в атаку. Это – когда мы отбивали Севастополь у фашистов, а кто – даже в конце войны видел, у рейстага.
Надолго замолчала, и уже со слезами в голосе, обронила:
– Только я не верю. Был бы жив – он нашёл бы меня, – горько и обречённо бросила она, уже сквозь слёзы.
– Но ты не думай, сынок, что разуверилась я. Я жду его постоянно. И надеюсь, хотя бы на какую-то весточку о нём.
И молодо, даже озорно сверкнув глазами, с вызовом сказала:
– Теперь так не любят. Мы ведь даже не нацеловались, разочек только и прикоснулся к моим губам, а говорил, что, как только закончится война – и мы, честь по чести, поженимся.
Моя собеседница посмотрела в синюю безбрежность моря, тихо и счастливо улыбнулась чему-то своему и продолжила:
– Он к началу войны на флоте отслужил уже шесть лет. Главстаршиной был в ту пору, как мы познакомились. А я – совсем юная девчушка, только медучилище завершила и с началом войны и пришла, по комсомольской путёвке, в бригаду морской пехоты.
Мне казалось, что и не ко мне, вовсе, были обращены её слова, она говорила с собой, с тем временем, когда она была молодой:
– Так он, с первой минуты, таким вниманием меня окружил, что никто – и подойти не смел ко мне. Говорил, что полюбил сразу, как только увидел. А я молоденькая – хорошенькая была. Крепкая, сильная, с копной непокорных волос. Глаза – зелёно-карие. Чёрный берет на голове, а под форменкой, с той вот поры – тельняшка, – и она положила свою ладонь правой руки на вырез в костюме, где виднелись чёрно-белые полоски любимой всеми моряками флотской нательной рубашки, именуемой звучно и тепло, так по-домашнему – тельняшка.
– Вскорости – страшные бои начались. Что я тебе о них буду рассказывать? Не хуже меня знаешь. Вся крымская земля, каждая её пядь, а Севастополь в особенности, политы кровью наших героев. Мы гибли за Отечество, другой цели и смысла своей жизни мы не видели более ни в чём. И он, всё время ведь – на передовой, норовил мне: то воды флягу передать; то – где-то раздобудет – пару яблок; а один раз – не забуду никогда – три плитки шоколада, нашего, знал, что от фашистов, убитых – я есть бы не стала, а тут – наш, давно забытый, фабрики «Красный Октябрь».
Лицо её озарилось при этом такой красивой улыбкой, что мне показалось, даже годы и пережитое ушли от неё.
– То-то был пир у нас, с девчонками, такими же, как и я, милосердными сёстрами. Нас так и звали все моряки – милосердными сестричками.
А в ноябре, помню, букет цветов передал. Он уже к этому времени лейтенантские нашивки на рукаве носил. Матросы его очень любили. Боготворили просто. Везде был первым.
Она тяжело вздохнула и продолжила:
– А вот обидел один раз, очень сильно. Сам во главе десанта уходил, а меня не взял. И даже накричал, что я, мол, твоим родителям скажу, если что. И что – мала ещё, не выросла.
Правда, слава Богу, что сам живым вернулся. Раненый только был. В правое плечо, но – живой и счастливый, что задание командования выполнил к сроку.
Нотки гордости так явственно зазвучали в её голосе, что он даже окреп, стал звонче и пронзительнее, словно и годы ушли за море:
– Ему тогда, случай небывалый для сорок первого года, вскоре такую же звезду вручили, как и у тебя, сынок. Так он её и не носил. В кармане, на груди, в платке, который я ему подарила, лежала.
– Всё говорил мне: «Что, я один – самый лучший? Да все у меня в десанте – настоящие герои и заслуживают такой же звезды»…
И не знала эта милая женщина, что эта история будет иметь совсем уж неожиданное продолжение уже через несколько дней.
И что мне именно выпадет горькая участь уверить её в невосполнимой утрате, лишить надежды, но, вместе с тем – и стать свидетелем невиданного, по силе, чувства, небывалой великой и светлой любви.
Муж моей младшей сестры, большой милицейский начальник в Украине – по Крыму, вечером, за ужином, мне сказал:
– Представляешь, лодку подняли, подводную. Времён войны. Разворочена носовая часть, видно, на мину напоролась.
Я заинтересованно слушал его.
– Само по себе – событие не такое уж и редкое в последнее время, – продолжил он, – таких находок много обнаружилось, как стали искать «Армению». Знаешь, что-либо, об этом теплоходе?
– Да, – ответил я, – более семи тысяч погибло женщин и детей, которых эвакуировали из Ялты. Фашисты, мерзавцы, знали, что только мирные люди эвакуировались, кресты, красные, были растянуты по всем палубам. Но это их не остановило и они, волна за волной, налетали группами бомбардировщиков и сбрасывали бомбы на обречённый корабль до тех пор, пока он полностью не скрылся под водой.
*– Так вот, – продолжил мой родственник, – в одном из отсеков, он был задраен и воды там не было, нашли останки нескольких моряков. Время пощадило корпус лодки, в иле ведь лежала, одна только рубка из него торчала.
У одного из них, в кармане, лежала звезда Героя Советского Союза в носовом платке, вышитом, а в планшетке – письмо.
По звезде-то мы сразу и нашли Героя, это был капитан-лейтенант Александр Николаевич Ильичёв, наш крымчанин. А вот кому письмо адресовано – не знаю.
– Коля, – вскричал я, – я знаю. Я знаю. Позволь мне взглянуть на это письмо и… передать адресату.
Муж моей сестры искренне изобразил крайнюю степень удивления, не зря был старым, опытным милицейским зубром, и спросил:
– Откуда ты знаешь, кому письмо адресовано? Ты – что, провидец?
И я очень кратко, но внятно, рассказал ему историю своего знакомства с интересной женщиной, морячкой-фронтовичкой, сестрой милосердия, которую встретил в Балаклаве.
Назавтра, соблюдя все формальности, оставив расписку в получении планшетки и письма в ней, после того, как работники Главка сделали множество снимков с планшета, и копий – с письма, мне было вручено это свидетельство высокой любви и верности.
Я запомнил его дословно, а одну копию всё же попросил у генерала милиции Косачёва себе на память. О внуках подумал, чтобы им показать.
Пусть простит меня его автор и милая женщина фронтовичка, но это письмо – уже не частное дело погибшего и той, к кому оно обращено. Это письмо всем бы молодым людям, да перед глазами, чтоб помнили и знали, как возможно любить, как должно любить, как любили наши отцы и матери, как верили и ждали.
Вот оно:
«Родная моя! Счастье моё светлое и теперь уже – недостижимое. Я знаю, что жить мне осталось несколько часов. Это – в самом лучшем случае. Не было бы и их, да лодка, подорвавшись на мине, легла на дно у берега, на небольшой глубине, и мы успели задраить люки отсека.
Нас здесь шесть человек. Как старший по воинскому званию, объявил, что беспорядков и паники, малодушия не допущу. Труса и истеричку пристрелю сразу же…
Ну, да не это главное. Главное в том, что я самый счастливый человек на Земле, так как мне было дано великое счастье – знать тебя, любить тебя, ждать и верить.
И я знаю, что всем своим сердцем любила меня и ты, светлая моя.
Я верю, родная, что закончится эта война нашей победой, Великой нашей Победой. Разве может враг одолеть нашу любовь?
Нет такой силы, чтобы её победить.
И я очень хочу, и верю в это, что так и будет – ты доживёшь до этого светлого дня и будешь счастливой.
Не печалься обо мне, моя хорошая. Останешься живой – найди хорошего парня, фронтовика, и выходи за него замуж.
Только знай, что больше жизни люблю тебя. И буду любить до последней минуты своей, до последнего удара сердца.
Знаешь, наивно, но думаю – а, может, свершится чудо, и мы каким-то образом останемся живы?
Тогда я бы не ждал конца войны, а тут же позвал тебя замуж.
Будь счастлива, моя родная. Я очень тебя люблю.
Твой Александр».
Уже через час я был в Балаклаве. Сидел на скамейке, у дома той, кому было адресовано это письмо, курил и всё не мог зайти в подъезд.
А через десять-пятнадцать минут из подъезда вышла Она, вся в чёрном – костюме и старинной шали, с кистями.
Села возле меня и без слёз, тихо сказала:
– А я, сынок, почувствовала, когда увидела тебя, что с недоброй вестью ты ко мне сегодня…
– Да, уважаемая Галина Ивановна, это так.
И я молча протянул ей планшетку, которую она прижала к груди и только после этого из её глаз полились слёзы. Я кратко рассказал ей об обстоятельствах, при которых было найдено это святое для неё письмо и планшетка.
– Саша, Сашенька… как же ты, родной мой? А я ведь всю жизнь тебя ждала… И – верила, что мы встретимся… а ты – рядом совсем, такую мученическую смерть принял…
Сдержалась и при мне письмо, адресованное ей, читать не стала.
– Я знаю, сынок, что он мог написать мне… Хорошо знаю…
Я дотронулся до её руки:
– Галина Ивановна, в воскресенье, на Аллее Героев в Севастополе, будут захоронены останки капитан-лейтенанта Ильичёва и его боевых товарищей, с которыми он и встретил свой последний час на подводной лодке.
– Ишь, – мягко улыбнулась она, – а я его только лейтенантом помню… Капитан-лейтенантом стал…
И она, как о чём-то оговоренном ранее, просто сказала:
– Ты, уж, сынок, заедь за мной. У меня нет ближе и роднее тебя. А сама – я не выдержу этот день… Этого испытания…
– А сейчас, прости, в церковь схожу. Сама. Давно уже не была там. А сегодня – надо. Не провожай меня…
И она, тихонько, постарев на многие годы, пошаркала в сторону Храма, откуда, вдруг, ударили колокола и их звон поплыл над притихшим городом и такой красивой бухтой, заполненной, до отказа, всевозможными катерами и лодками.
***
Что может быть страшнее,
когда бывшие отступники
объявляются властью,
в оправдание собственной
неразборчивости,
сегодняшними
провидцами и совестью нации?
Так и хочется спросить – какой нации?
И. Владиславлев
НЕОЖИДАННЫЙ СОБЕСЕДНИК
Словоохотливый старичок, на набережной Ялты, мне сразу очень понравился.
Он был не шумным, в беседу вступал не с каждым, а лишь с тем, кто проявлял к нему неподдельный интерес
А не проявить его было просто невозможно. В его увесистом пакете лежали шесть–семь книг Александра Исаевича Солженицына, от пресловутого «Одного дня Ивана Денисовича» – до «Архипелага Гулаг», «В круге первом».
Он, поочерёдно, вынимал их из пакета, находил, наизусть, было видно, нужные ему страницы и, уже по новой, подчёркивал важные, на его взгляд, мысли.
При этом всё приговаривал, от чего я и обратил на него заинтересованное внимание:
– Ну, и шкура, вот так шкура. Это же надо и никто ему не укажет на это святотатство. Как же так можно?
– А что, отец, здесь не так? – обратился я к нему, после приветствия.
Он скользнул по мне своими уже выцветшими, но очень живыми глазками, крякнул удовлетворённо, увидев Звезду Героя на моём тёмно-синем пиджаке и, уже решительно, спросил:
– Значит, свой, браток? А где же это и за что? – и он указал на Звезду.
– Афганистан, отец. За службу Отечеству, которое мы потеряли.
Мне очень понравилось, как он сразу парировал на мой ответ:
– Это вы потеряли. Мы берегли и боронили Отечество, а вы – доверились таким лже-Христам, как мой однополчанин, и поэтому всё и потеряли. Эх, сынок, сынок, как же вы так могли?
И вдруг, словно споткнувшись, вернулся к началу нашего разговора:
– Извини, не тебя виню лично, хотя мы все ответственны за то, что происходит на нашей Земле. А за Звезду – извини, я так и понял, что за Афганистан. За Чечню уже героя России дают. А вот скажи, кто же это придумал, чтоб на высшей награде России красовался власовский триколор? Его, значит, верх, отступника и предателя. Много у вас возни с этими нелюдями, У нас не меньше, видишь, и бендеровцы нынче в чести и им тоже геройские звания дают. И это за то, что уничтожали, сотнями тысяч, людей безвинных, которые только и хотели жить свободно и спокойно.
И не стыдно им ведь принимать эти награды, за войну с собственным народом? Что у вас, что у нас, – и он горько усмехнулся.
– Видишь, как поделили нас? Вчера ещё был единый народ, а нынче – независимые государства. От кого только – независимые? Друг от друга, на радость Америки?
И вновь перешёл к моей Звезде, чем ввёл меня в смущение:
– А ты, наверное, сынок, последний Герой, коль на красной ленте, то есть – ещё Союза Герой. Кланяюсь тебе, сынок.
– Да что Вы, отец! Это я Вам кланяться должен, – и я указал на ленты от честных солдатских наград на его пиджачке, чистеньком, но уже совершенно старом, с потёртыми рукавами и воротником.
По орденским лентам я увидел ордена Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медали, в том числе – и какая-то мудрёная, мне неизвестная среди них.
Он заулыбался, увидев, что я разглядываю, с особым интересом, эту ленту.
– А это, сынок, поляки меня отличили. Спас их командира, вынес на себе с поля боя. Они с нами вместе воевали. Побратимы, дышло им в печёнку. Нет, нет, не фронтовикам, те – честные были солдаты, гонористые, всё «Пся крев», да «Пся крев», но воевать умели, не трусили, а вот ныне – брательники, видишь, что вытворяют. Им Россия – поперёк горла встала. И это за то, что нашего брата более 600 тысяч полегло за освобождение Польши.
Мне он положительно нравился всё больше и больше. Он был в курсе всего, что происходило в мире и, конечно же, я понял, что он говорил о братьях Качиньских, недоброй памяти нынешнего президента и премьера Польши.
– Да, сынок, многих своих товарищев я в Польше схоронил. Шутка ли, дивизия наша вся легла, почти, за Краков. Как жив остался – не знаю. Не ранили даже. Кто-то молился за меня истово.
И как-то горько, обречённо, обронил:
– А теперь – видишь, оккупанты.
Вскинулся, даже задрожал от гнева:
– И этот власовец, чистый власовец, с ними – заодно. Ты же видел, наверное, как всю Россию печаловаться заставили, по этому нелюдю, да ещё и захоронили рядом с совестью России, её честью – Василием Осиповичем Ключевским.
– Ты не удивляйся, – он посмотрел на меня твёрдо, но с улыбкой, – я учитель, всю жизнь детей учил, поэтому кое-что в жизни понимаю, да и в литературе смыслю.
– Вот, скажи, – он вновь перешёл почти на крик, – написал длинное письмо Проханову об этом «фронтовике», опубликуют или нет?
– Думаю, что нет, отец. Вы же читали, как Бондаренко, в той же «Завтра», возносит пророка, как он его назвал.
Мой собеседник витиевато выругался и испытующе посмотрел на меня:
– Так что – правды не найти? Нет её? Куда же её так глубоко запрятали?
И вдруг, как-то даже подпрыгнул на месте, и продолжил:
– Удивляешься? Мол, блажит, этот дед? Я, правда, тебе не сказал сразу, что я ведь с этим «пророком» служил. В одном полку. Только он звуковой батареей командовал, как мы её называли. По-правильному – батареей звуковой разведки и появился у нас – где-то в сорок третьем году, а я, к этому времени, хотя и рядовым войну начал, был уже командиром артиллерийской батареи, противотанковой, родимые семидесятишестимиллиметровые.
– Отец, – уже с улыбкой заметил я, – не почтите за дерзость, но я не ел ничего с утра, а уже и обеда время наступило. Пошли в ресторанчик, вон, на набережной, пообедаем.
Он – набычился и как-то грубовато, растягивая слова, мне ответил:
– Да, с моей огромедной пенсией, только по ресторанам ходить.
И снова завёлся:
– Видишь, бендеровцам больше платить стали, чем нам, фронтовикам. И не только пенсии выровняли, а ещё и в конвертах дают. От властей, особенно – в Западынщине.
Стал прямо кричать:
– Информация верная, не думай, что я наговариваю. Со мной одна такая сволочь в доме живёт. И вчера, с гордостью такой, что чуть не лопнул, – говорит мне: «Ну и за что ты воевал? За Родину? За Сталина? А я вас, сволоту, на Западной Украине, не одного упокоил. И, видишь, сегодня и пенсию получаю, поболе твоей, да ещё и в конверте приносят. Так что – только и пожить пришла пора. Только твои комиссары, сволота, двадцать лет из жизни вычеркнули, до шестьдесят седьмого сидел.
Я бы вас, сволочей, и сегодня… Рука бы не дрогнула – только бы автомат дали».
Задохнулся от ярости мой собеседник и хрипло довершил:
– Истину говорю, сынок. И так у меня сердце зашлось, что я даже свою трость о его хребет поганый, переломал…Правду говорю.
Он развёл руки в сторону и сокрушённо, от великой печали, вздохнул:
– А ты говоришь – ресторан. Нет у меня на ресторан. Опять же, трость покупать надо. Тяжело мне уже, без трости…
Я его даже перебил:
– Не обижай, отец. Мы же солдаты. Я приглашаю и хватит об этом говорить. Пошли.
– Ну, коли так, – и он улыбнулся, – я уже сто лет в ресторане не был. Пошли, коль от чистого сердца.
– От чистого, от чистого, отец, – засмеялся я, и, подхватив увесистый сидор с книгами Солженицына, взял так понравившегося мне фронтовика под левую руку и мы стали неспешно подниматься по ступенькам, от самого моря, на суетную набережную.
Проходили, как раз, мимо киосков со всякими сувенирами, и я увидел всевозможные трости, целые их охапки, красиво установленные в специальные, круговые стеллажи
– Отец, одну секунду. Посиди на этой скамейке. Я сейчас…
И когда я, через несколько минут появился с красивой, вишнёвого дерева тростью, окованной бронзой по рукояти – он даже прослезился.
– Это, отец, чтоб не лопнула на спине того мерзавца, прочная. Прими, от всего сердца, на добрую память, как фронтовик от фронтовика.
Он сердечно меня поблагодарил, примерил трость:
– Как угадал – по росту и в руке – очень удобна. Внизу – потяжелее, легко переставлять. Спасибо, сынок, – и он сняв, свою видавшую виды шляпу, мне поклонился.
– Пошли, отец, обмоем трость, чтобы служила тебе долго.
И мы неспешно пошли к ресторанчику. Я любил тут бывать во время своих редких наездов в Крым.
У меня даже появилась своя любимица – молоденькая официантка, Алла, милейшая девочка, умеющая без угодливости, так красиво и неназойливо обслужить своих клиентов, что я, отобедав у неё один раз, норовил, затем, попасть только в её смену.
И сегодня был её день. Завидев меня издали, она заулыбалась и поспешила нам навстречу:
– Садитесь за тот столик, – указала она, – там будет очень удобно. Хорошо видно море и солнце не будет глаза слепить.
– Спасибо, Аллочка.
Мы уселись за стол и она сразу же подошла к нам с красивым меню.
– Аллочка, не надо нам меню. Нам – хороший обед, на Ваш выбор, но непременно – с горячей ухой, бараболей, и… водочки – холодной, графинчик, грамм… на пятьсот.
Мой гость, от предвкушаемого удовольствия, даже крякнул.
– А для начала – можно, сынок, – он просительно посмотрел на меня, – водички бы… И сигаретку…
– Да, Аллочка, сначала – «Боржоми», две бутылки и пачку «Давыдова»… Нет, две.
И мы на минутку замолчали. Я вынул из кармана пачку привычного «Давыдова» и протянул моему гостю, затем – закурил, с наслаждением, и сам.
Тут же раздался его голос:
– Ух ты, что же это такое, не курил таких, отродясь, – и он взял пачку в руки.
– Я «Приму» всё, по доходам.
И мы, оба, с удовольствием, вновь затянулись душистым дымом.
– Слабоватые, но приятные, – после двух-трёх затяжек сказал фронтовик.
А тут поспел и наш запотевший графинчик, какие-то мудрёные салаты с морепродуктами в красивой посуде.
В розетках, рубином, отсвечивала икра, замысловато накрученное масло, с ветками петрушки, побуждало аппетит.
Я соорудил ему и себе бутерброд с икрой, на что он смотрел почти со страхом, налил по хрустальной рюмке, доверху, холодной водки и искренне, от всего сердца, сказал:








