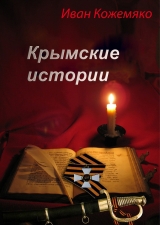
Текст книги "Крымские истории"
Автор книги: Иван Кожемяко
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
– За тебя, отец, за фронтовика, за Великую Победу нашу. Как бы кто ни хотел, не опорочить её никакому отступнику. Бились Вы за Родину, Отечество наше, за Великую, Единую и Неделимую страну нашу. И мы всегда помним это и, как могли, на что хватало сил и совести, продолжали Ваше дело.
– Кланяюсь тебе, отец, – и я, поднявшись из-за стола, выпил рюмку до дна.
Мой гость, как-то по-детски захлопал глазами и даже прослезился:
– Жаль, мать не видит. Честь какая. Сам Герой за меня чарку поднял.
И, прежде, чем выпил свою, спросил:
– А в чине – каком же будешь, сынок?
– Все мы, отец, солдаты Отечества, это самое высокое звание. А так – генерал-лейтенант.
– Ну, ты, сынок, полегче. Эка, куда хватил, генерал-лейтенант. Пил бы твой генерал, со мной.
Я смеялся так, как давно уже не смеялся. И на душе было светло и уютно.
Вынул из кармана пиджака удостоверение личности и передал старому солдату.
Тот, шевеля губами, вслух прочитал: «Генерал-лейтенант Измайлов Владислав Святославович, командующий танковой армией».
– Ну, сынок, товарищ генерал-лейтенант, вот честь-то какая выпала. Мне за всю войну – один лишь раз генерал вручал орден, а так – я и не видел-то генералов, ну, порадовал…
– Отец, брось ты это. Прошу тебя. Не я, а ты здесь – главный герой. И я тебе, таким как ты, отцу моему, фронтовому разведчику, обязан всем.
Поэтому – не будем, отец, хорошо? Мы же собрались по другому поводу.
И только после этих слов – он как-то успокоился, лихо – опрокинув вторую рюмку и, от удовольствия, откусив от бутерброда с икрой изрядный кусок, даже закрыл свои глаза.
Под горячую ароматную уху, мы выпили ещё по рюмке и я ждал, когда он утолит первый голод и вернётся к заинтересовавшему меня разговору, начавшемуся на набережной.
– Аллочка, не торопитесь подавать, – обратился я к официантке, – у нас долгий разговор…
– А что, сынок, говорить, знаю его, поганца, как облупленного.
– Уже с первых дней, как только появился он в полку, не глянулся он не только мне, а всем боевым офицерам. Скользкий какой-то. Слащавый. Неискренний. С двойным дном.
– Появился, старший лейтенант-то всего, с бабой, жена его оказалась, с каким-то ядовитым портфелем. Это – на передовой, можешь представить? И, – тут старый солдат даже улыбнулся, – с портретом Гитлера в нём.
– Да, да, ты не удивляйся, – заметил он моё изумление.
– Ну, правда, грешить не буду, мол, для того, говорил, чтоб не обознаться, если придётся встретиться. Только думаю я, что это его лукавство, издёвка над нами была. Тыкал он этот портрет каждому под нос.
Хмыкнув себе под нос, продолжил:
– У нас, в землянках, да и в планшетках – портрет Вождя, а у него, видишь – Гитлера.
И он тут же полез в свой сидор и извлёк замусоленный том, открыл на нужной странице, знал наизусть, и протянул мне:
– Читай, видишь, сам пишет, что с Гитлером, с его портретом, прибыл в полк.
Я это знал, но ещё раз пробежал по подчёркнутым строчкам.
– Он и немца-то живого не видел, почитай, всю войну. А здоровый был, ему бы с сорок первого воевать, а он – в училище; из училища – в запасный дивизион; затем – в резерв Брянского фронта. И только в сорок третьем, как я тебе говорил, попал на фронт.
– А тут, видишь, пишет: «11 июля 1943 года, ещё в темноте, в траншее, одна банка тушёнки на восьмерых, в окопе и, – Ура! За Родину, за Сталина!.. Господи, под снарядами и бомбами я просил тебя сохранить мне жизнь».
Постучал книгой о стол и продолжил:
– Здесь, сынок, всё – ложь! Всё буквально, до последнего слова!
– Даже мы, пушкари, и то в атаку не бегали. Хотя с пехотой в боевых порядках, рядом, почитай, всю войну воевали.
– А он – в тылу всегда сидевший и что-то там с утра до ночи строчивший в тетрадках, – «За Родину! За Сталина!». И ты, ведь, обрати внимание, «за родину», поганец этакий, с малой буквы всегда писал.
– Не было у него Родины, не знал он её и не чувствовал. И Родине нашей, её защитникам, всё грозился в своём «Архипелаге» – «…дышло тебе в глотку! окочурься, гад!».
И он почти закричал:
– И нас, при этом, печаловаться о нём принуждают?
Живо повернулся ко мне и почти шепотом, не знаю почему, спросил:
– Неужели, правда, что правители ваши заставили его в институтах изучать, в школах, премии учредили его имени?
– Правда, отец, действительно – правда.
– Ах, окаянство же какое! Ты же посмотри, это я тебе говорю, мне начальник штаба полка, дружили мы с ним, говорил, что он, со своей кралей, даже доносы на командира полка писал.
«Не благонадёжный-де, человек, командир нашего полка».
– А знаешь – почему? – и он заливисто, как мальчишка, засмеялся.
– А всё лишь потому, что командир полка говорил на всех митингах и собраниях, что скоро уже будем в логове зверя и там войне конец.
Даже зашёлся от гнева, и продолжил:
– А он, видите ли, обливая грязью честного офицера, не зря мы его – батей звали промеж себя, писал в своих доносах, что командир полка проявляет непростительную политическую близорукость, заявляя офицерам о том, что войну надо закончить в Берлине. Наш пострел и в этом усмотрел ограниченность и ущербность командира полка и в своих мерзких пасквилях писал, что войну надо закончить в Португалии, всю Европу – советской сделать.
Отпил воды и продолжил:
– Вот, де, какой незрелый командир полка, который ещё и матом где-то Солженицына покрыл за нерасторопность и непорядки в батарее, так наш «провидец» – слюной изошёл: «Меня, с университетским образованием, это быдло смеет ругать матом. Он ещё попомнит это. Я ему этого не спущу».
Схватил меня за руку, уверяя в правдивости своих слов:
– Это не только я слышал, а многие офицеры полка. Могут подтвердить, если что…
Помолчал минуту и уже иным тоном, сокрушённо и устало дополнил:
– Ты понимаешь, сынок, я мало о нём знаю, как об однополчанине. Он всё – со своею кралей от всех укрывался. Даже братскую чарку с нами не выпивал, а узнал его доподлинно, до конца, когда издаваться у нас стал, в лихолетье, которое наступило после девяностого года.
Прокашлялся от напряжения и добавил:
– А так – и не слышал о нём. Правда, в хрущёвское время звону было много, когда вышел его «Один день Ивана Денисовича». Даже Госпремию, безмозглый Хрущёв, вручил ему за этот пасквиль.
Посмотрел вожделённо на графинчик с водкой и пока я наполнял рюмки, заговорил вновь:
– Поверь мне, я в то время жил и скажу тебе честно: я в полку, за всю войну, так и не знал, кто там у нас был особистом. И был ли он вообще. И штрафников не видел за всю войну. Были они, знаю, но нам заградотряды не нужны были, мы сами, гадов, зубами рвать были готовы.
Гордость выплеснулась из его души и он, уже громко, да так, что на нас стали оглядываться посетители ресторана, среди которых я узнал даже Райкова, депутата Госдумы (Земля круглая, подумал при этом):
– Да если бы у нас, в сорок первом, был полк такой, как наш, уверяю тебя, не дошли бы они до Москвы. Ни за что не дошли бы! Ещё под Смоленском, да Ельней полегли бы все.
И мой гость уже рокотал:
– Шутишь, за всю войну дивизию танков выбили у них. Гибли и сами, конечно. Но дивизию угробили, мать их в душу.
Отчаянно бросил:
– Эх, сынок, налей ещё рюмочку, слезы-то. Душу саднит.
Выпил, тяжело вздохнул и продолжил:
– Как я уже тебе говорил, я учителем русского языка и литературы служил. И поверь мне, что уж что-то в языке смыслю. И я внимательно анализировал его «Один день…» этот, окаянный, когда он в роман-газете был опубликован.
С запалом, нагнетая ярость, выдохнул:
– Поверь мне – убожество, убожество, с точки зрения языка, образов, логики изложения, а уж низменных страстей сколько – к слову, это – во всех его книгах. Одним словом – убожество, жалкое, ничтожное убожество.
– Ну, сидела же Русланова, сидел Рокоссовский с Горбатовым. Ты же читал их книги. Что пишут? Как рвались на фронт, за Родину воевать!
А здесь – цель-то, единственная – под одеялом пайку съесть. Вот и высшая радость.
Задумался, совсем трезво и здраво продолжил, совершенно молодым голосом:
– Были ли репрессии? Были, несомненно. И невиновные были, Но они ведь и страдали от таких прохвостов, как Солженицын. Это ведь именно такие, как он, и клепали доносы на рокоссовских, горбатовых, королёвых…
Подмигнул мне, как родной душе:
– Помнишь, как он в «Архипелаге» своём окаянном пишет – ему предложили сотрудничество, осведомителем, значит, быть – и он сразу же согласился и, прости, как сам же пишет – горячий шомпол в задницу при этом не вставляли. Согласился сразу. И даже кликуху сам себе придумал. И пишет ведь об этом, стервец, не стыдится нисколько.
– Ты ведь только посмотри, – и он опять раскрыл книгу: «Оглядываясь на своё следствие, я не имел основания им гордиться. Конечно, мог держаться твёрже. А я себя только оплёвывал».
Фронтовик как-то затейливо изломал свои выцветшие брови и обратился ко мне:
– Как же это, сынок?
Мы надолго с ним замолчали, и он, уже устало, обронил:
– Или, смотри ещё: «Я, сколько надо было, раскаивался и, сколько надо было, прозревал».
При этом мой собеседник даже палец указательный, правой руки, вверх поднял:
– Вот это борец со сталинизмом! Честь и совесть нашей эпохи?!
И уже нетерпеливо ко мне, хотя я и не думал его перебивать:
– Знаю, знаю, что всё это ты прочитал, не хуже меня знаешь. И, как честный человек, не видеть этого не мог. Не заметить этого не мог. Не имел права.
– Да, отец, вижу и я всё это.
– Но ты мне скажи, что же это за такая «антисоветская деятельность» у него была? Ты знаешь, за что он был арестован? Мы в полку все это знали – он своим друзьякам, а они часто к нему наезжали, всё что-то, запершись, талдычили, передал письма, в которых «критиковал» товарища Сталина за непоследовательность, за то, что тот не ставит в войне конечной цели – весь мир, силой, обратить в социализм.
Засмеялся после своих слов и спросил:
– Понимаешь, в чём дело?
И он даже заёрзал по скамейке:
– «Герой»-то понимал, что грядут решающие сражения, а ему – уж очень жить хотелось и он нашёл выход – клянясь в верности товарищу Сталину, тем не менее, его пожурил, что он-де, ставший гораздо позже, при Хрущёве, извергом и людоедом, а тут – не хочет знамя социализма над всем миром установить.
Потыкал своим пальцем в открытую книгу:
– Поэтому он и спрятался в «каталажку» – победа-то видна уже была, а за такую критику товарища Сталина – что, пожурят, да и только.
Потёр переносицу кулаком, словно, силясь вспомнить что-то важное и продолжил:
– Где-то, точно не помню, в начале февраля его и арестовали. А с марта начались такие бои, что я такой ярости – и за всю войну не помню.
У меня в батарее три человека, со мной, в живых остались.
И так… во всём полку.
При этих словах, у него даже глаза заслезились, но нить разговора не утратил и довершил:
– Поэтому нос по ветру он держал востро. Лучше срок отмотать, а с его дальними целями – и за мученика сойдёшь, а значит – продвинешься, растолкав всех, наверх, – нежели «смертью храбрых». Он этого очень боялся и всё говорил, как он жить хочет.
При этом даже выругался:
– Вроде мы не хотели. Но только жить-то можно не любой ценой, кто же тогда Отечество отстоит? Оборонит его кто?
Решительно прервав себя, попросил:
– Давай, сынок, ещё по одной, а то у меня и сердце обуглится.
Ожидая, пока я наполню рюмки, горько, самим сердцем, произнёс:
– Я как вспомню, как какой-то его радетель написал в дни его смерти: «Солженицын уже в 1943 году сказал: «Мы победили!». Видишь, какой провидец оказался! Сукин сын!
Даже кулаком по столу ударил, так, что и тарелки зазвенели:
– А мы знали, уже с 22 июня 1941 года, что победим. И Вождь в своей речи сразу заявил – наше дело правое, победа будет за нами. И пограничник, в Бресте погибая, знал, что враг будет разбит. Поэтому и стоял насмерть!
Саркастически улыбнулся, взял рюмку в руку и добавил:
– А в сорок третьем году – какой же дурак, после Сталинграда, не видел, что мы победим? Весь народ мира это чувствовал и знал это.
Наклонился ко мне и спросил:
– Ты – человек учёный, знаешь, почище меня, что Черчилль, уж на что враг ярый и лютый наш, на протяжении всей истории, и то, после Сталинграда, писал, помню, в «Правде» читал, что хребет фашистскому зверю был сломан именно под Сталинградом.
Мы выпили по рюмке и тут наша девочка-официантка, заметив паузу, принесла барабольку с картошкой.
Более вкусной рыбы я на своём веку не ел. Она просто таяла во рту и мой собеседник, не в силах сдержаться, громко восхищался:
– Поди ж ты, живу здесь, а такого чуда не едал. Спасибо, сынок.
Съев несколько рыбок – он продолжил:
– Ты молодой был, не всё помнишь. А я хорошо помню, как он, поддержанный Хрущёвым, развернулся в критике Шолохова.
Он же слюной исходил прямо, что не Михаил Александрович – автор «Тихого Дона». Какого-то Крюкова приплетал.
А Шолохов-де – неуч и явить «Тихий Дон» не мог по определению.
Засмеялся и глядя на меня своими пронзительными, хмельными слегка, молодыми глазами, продолжил, чеканно:
– А уж когда Михаилу Александровичу Нобелевскую премию присвоили – этот гусь уже в Америке был. Тут уж он не сдерживался, «Голос»-то я слушал. Так он прямо потоки грязи и лжи на него выливал.
Задумался и так хорошо, с тёплыми нотками в голосе, промолвил:
– И знаешь, счастливый случай, я познакомился с Твардовским. Милый, простой человек. Совершенный случай помог. Я бы не посмел подойти, он сам меня заметил здесь, на причале и говорит своим спутникам, глядя на мои награды: «Вот он, мой Тёркин. Здравствуй, солдат. Поклон тебе, до земли, за Великую Победу».
Ветеран гордо распрямил плечи и с чувством, сердечным и светлым, сообщил мне, проникновенно:
– Обходимый человек, светлый. Не знаю, чем-то и я ему сподобился, и мы с ним, часок, проговорили. Так вот, он мне и говорит, когда я признался, что за однополчанин у меня был: «Никто его из страны и не думал выдворять. Он ведь сам, как не вышло с Ленинской премией, обещанной Хрущёвым, рвался на Запад.
Хрущёва-то Брежнев турнул и стал реабилитировать Генералиссимуса, а такому хулителю всего советского, конечно же, никакой премии давать не собирался, более того, осуждать стали и сдерживать этого правдолюбца окаянного.».
– Вот, оно, брат, какое дело, сам Твардовский, клянусь тебе в этом, сказал мне эти слова.
Многозначительно пожевав губы, выждав один миг, дополнил:
– А уж в Америке он развернулся. И ядерную войну на наши головы призывал, и рушил, вместе с Мишей окаянным, Отечество наше.
И ведь разрушили, вот что горько. Цели своей добились, нелюди.
– И ты мне вот что скажи, – он стал надвигаться на меня и хватать даже за рукав, – это, что ж, у него – правда весомее? Тяжельче нашей? И она – за ним? Как ты думаешь?
– Думаю, отец, что нет, не правда – за ним. Вероломство и ненависть. А тут и судьба подфартила, востребованным стал в лихую пору, когда рушили всё, что было связано с Отечеством нашим. А мы, к несчастию, оказались незрячими, да его собратья, собрав свою пятую колонну под видом перестройки, ослабили нас, лишили всех возможных духовных и мировоззренческих ориентиров. Воли и силы лишили.
Я вновь закурил, молча взял и он сигарету и засопел тяжело и громко, ожидая продолжения моего разговора. И я, несколько раз подряд жадно затянувшись душистым дымом, продолжил:
– Знаешь, отец, а ведь у меня была удивительная встреча, многое поясняющая в истории с нашим «героем». В период начального Ельцина, с нами очень стремились «дружить» официальные американские органы – посольство, военные атташе, всевозможные фонды и общества. И вот, в один из дней, я был направлен Мироновым, он был тогда первым заместителем министра обороны, на такую встречу, во главе группы офицеров. Я тогда учился в академии Генерального штаба.
Неприятно поразило обилие спиртного. Американцы специально выставили его в каждом помещении, в холле, методических классах. Сами пили очень мало, а вот нашим офицерам и генералам норовили подливать очень щедро.
Я, очень резко, высказал своё недовольство данной бестактностью, вызывающим неуважением к нам.
И, странное дело, мой поступок вызвал одобрение у американского дивизионного генерала. Кто он – я не знал. Но он мне представился сам, как военный атташе в американском посольстве.
И мы долго беседовали с ним на всевозможные темы. Так вот, не утомляя тебя долгим рассказом, отец, отмечу одно очень интересное обстоятельство.
Американский генерал мне сказал о том, что в спецорганах Америки была создана специальная служба из литературных деятелей, которая и написала Солженицину все его «творения», ибо то, что он представил для издания – ни на что не годилось. Не дал Господь талану этому борцу с тоталитаризмом. Не дал! Да мы и видим это по его всем произведениям даже в окончательной редакции. Это далеко и далеко не «Война и мир», не «Хождение по мукам», не «Тихий Дон»…
И Нобелевская премия этому духовному мародёру была присвоена, мы совершенно определённо знаем это сегодня, лишь за тот яд, за ненависть к советскому строю, которую он изрыгал в изобилии досель невиданном. Что там бродские всякие, да окуджавы. Солженицын – вот знамя всех антисоветских, антирусских сил.
Мы помолчали, думая о сказанном, а затем я продолжил:
– Мы же думали, на благое дело зовут, вот и поверили. А теперь, видишь, отец, и мне Горбачёв говорит, что я Вас в Афганистан не посылал, Вы с Брежнева спрашивайте.
Я посмотрел ему в глаза и твёрдо произнёс:
– Он с Яковлевым, да Шеварнадзе и готовили, исподволь, и Вильнюс, и Баку, и Алма-Ату, и Ош, Фергану, Степанакерт – везде, отец, пришлось побывать, и везде – предательство власти, оплёвывание всего советского периода, армии.
Горечь душила меня, не давала дышать:
– Да и мы хороши. Не снимаю вины и с себя, со всех членов партии. Что же мы за партия такая, отец, что предателям всё уступили, всё отдали. Никто не шевельнулся даже.
Поэтому и одержали они верх. Думаю, всё же – временный. И верю, что Россия воспрянет, поднимется с колен.
Он согласно закивал головою:
– И я так думаю, сынок. Ослабли мы, не заметили, что Знамёна наши святые взяли в свои корыстные руки знаменосцы – без совести и чести, да и завели в пропасть. Трудно будем выбираться. Ой, трудно, до крови локти и ноги собьём.
И решительно заключил:
– А выбираться надо. Иначе – как же, героями завтра у вас – станут власовцы, с которыми я бился, а у нас, на Украине – уже бендеровцы в героях ходят, холуи фашистские.
С глубоким сожалением, заметил:
– Народу извели – страсть сколько.
И тут же, в порыве, с гневом, выкрикнул:
– А на днях – один, не издох ещё (он так и сказал – не издох), хотя за меня постарше – недавно, по телевизору, аж трясся, говорил, что мало мы комуняк истребили, всего за триста тысяч, а надо было – всех под корень, тогда бы победили советы ещё в войну.
Вопросительно, осуждающе бросил:
– Ты можешь представить, что же это за власть такая, что этого нелюдя, с экрана, показывают? Да ещё и какой-то орден, чуть не звезду героя, прицепили.
Громко, на всю веранду ресторана, выпалил:
– Болит сердце моё, сынок! Я бы развернул свою батарею, да вдоль Крещатика, шрапнелью, где эта сволота, вырядившись в фашистские мундиры, маршировала. Разве это народная власть, коль привечает это? Мундиры им шьёт такие, в позументах, что не одной моей пенсии стоят.
Устало, и то, проговорил – погоревал столько времени, но довёл свою мысль до конца:
– И ветераны ослабели – в святом месте собрал их Ющенко, в Киеве, у музея истории войны и стал примирять с бендеровцами. Погудели, но не ушли ведь? Не поднялись и не ушли.
Даже головой покачал, с укоризной, очень горько и добавил:
– Многих я там знаю, видел многих. Особенно горько за Герасимова, по войне знаю, боевой офицер был, до генерала армии дослужился! Это же – высота какая! А он, звезду героя Украины получив, в первом ряду сидел, не поднялся, не ушёл и звезду эту не бросил в физиономию защитника бандеровцев.
И, уже как итог:
– Вот так-то, сынок. И уж последнее тебе хочу сказать – ты не задумывался о сути его фамилии? Солженицын. То есть, лжёт, пав ниц. Народ наш фамилии зря не даёт. Значит, предки его ложью жили. Оговором. Поклёпами на честных людей. А ниц пред кем ползали? Перед властителями, владыками. Поэтому духовные начала у нашего «героя», я думаю, от рода, от фамилии идут.
Вскинулся, как старый конь, даже головой замотал и досказал:
– Я, как посмотрю, так у вас, в России, главные его защитники – Ростропович, да Вишневская. Никто столько о нём не говорил. Сами – такая же ягода, с того же поля. Уж им-то на что жаловаться?
Высокая нота осуждения душила ему горло, но он её переборол и выдохнул:
– Россия – выкормила, выпоила, шутка ли – народная артистка СССР, ордена, премии – до Ленинской включительно. А всё плохо им. Свободы мало им было. Нет, не свободы, а вольницы захотели.
И вновь схватив меня за руку, продолжил:
– А я тебе так скажу, сынок, себе неограниченной воли захотели, чтобы нас гнобить. Разве раньше давали им такую волю? Квартиры, дворцы по всему миру, миллионы долларов, большие, за какую-то сомнительную коллекцию. По вкусу она только Ростроповичу была, не народное это искусство. Не для народа. А его выкупают за народный кошт. И кто этим любоваться будет? Уж точно – не народ. Ему не дадут.
Наливаясь яростью, почти прокричал, да так, что даже Райков, в очередной раз, оглянулся из-за своего столика, досадливо поморщился:
– А когда Господь прибрал, так видишь, где хоронили? Героям такой чести и такой славы не видать, а тому, кто возле Ельцина с автоматом бегал, это ведь значит, что в народ стрелять собирался, как пить дать – собирался, этот, с позволения сказать, вилоончелист.
Как вспомню эти кадры девяносто третьего года – оторопь берёт.
– Да, отец, и я всё это помню.
– Вот они свободу и содеяли для себя такую неограниченную, что всю страну закабалили.
Обведя рукой всё вокруг, сказал:
– Ты же видишь, что в Крыму-то делается? Уже и Никитский сад, Масандру вырубают, замки себе, невиданные, строят. Есть там и ваши, и наши буржуины новоявленные.
Вздохнул тяжело:
– И никто их, видать, уже не остановит. Тебе об этом не дадут говорить, иначе – со службы долой, хотя я вижу, что есть совесть у тебя. И душа чистая. Сберёг, молодец.
– Спасибо, отец. Но я думаю, что и Россия просыпается. И наверху уже видят, что если так дело пойдёт и дальше, то будем американцам сапоги чистить.
– Это точно. Мы-то их шуганули – и в Феодосии, и здесь, в Севастополе. Не дали землю нашу топтать.
А завтра – хватит ли сил, когда мы уйдём? Молодёжь-то не будет так биться за правду. Нет стержня у неё, внутренних сил – не достаёт. И правды не знают.
И вдруг он громко засмеялся:
– Ты знаешь, я сам сегодня прочитал. Очень понравилось, как ответила Солженицыну Анна Ахматова, прочитав его вирши: «Никогда, ни при каких обстоятельствах, не пишите. Не ваше это».
– Так он так на неё разобиделся, что даже след оставил – сильно негодовал, что она ничего из его творений не прочитала. Слышишь, не прочитала говорит, а то, что такую отповедь дала, молчит, не говорит, поганец эдакий.
Разговор наш завершался. Было видно, что устал мой собеседник.
– Ну, сынок, давай по последней, да пойду я. Мать-то одна, старая уже, волноваться будет. И так загулялся, с тобой.
– Я провожу, отец, не волнуйся.
И когда мы – допили графинчик, доели всю барабольку, он напоследок, сказал:
– Большой грех на себя взяла ваша власть. И церковь – похоронив его со святым человеком рядом. Его бы – возле Деникина. Там ведь тоже прах его, окаянный, лежит в Донской церкви. Ты, я полагаю, знаешь это.
– Знаю, отец.
– Вот Деникину – он приятель. Единомышленник. А так – Ключевского очень жаль. Маяться и на том свете будет, от соседства с иудой.
И проводив старого солдата до квартиры, я возвращался в гостиницу и думал:
«Не мои слова, но, как же прав великий сын России, говоривший, хотя и по другому поводу: «Что это такое – предательство? Нет, это гораздо хуже. Это глупость».
Вот и я думаю, какая же это глупость пытаться насильно заставить народ чтить Солженицына. Не будут. И никаким указом не заставишь, никакой премией не соблазнишь.
Неужели забыли о фильме «Покаяние»? Придут другие времена – и этого литературного власовца сам народ выроет из могилы и выбросит на свалку истории. А уж из своей памяти – это точно. Не сможет он там задержаться.
Разве можно в святом месте хоронить врагов России? И у меня, как у представителя народа, разве спросили – где место праху Солженицына, Деникина, Каппеля?
Почему эти вопросы, за нас, решает один Михалков, да его подельник – Швыдкой?
Разве они – совесть нации, а не этот, встретившийся мне случайно, герой-фронтовик?
Такие вопросы ни в одном высоком кабинете, без воли народа, не решаются.
Закладываем ведь фундамент в завтрашнюю, будущую жизнь. В души людские. А ну, как пророки будут ложными, немилосердными к своему народу, что тогда будет? Какая вера наступит?
И как власть не боится вверять будущее своей страны, наконец, своих детей, тем, кто на таких ложных ценностях воспитан? Они же не выдержат испытаний и предадут в любую минуту, так как кумиры, которым их обязывали поклоняться, рассыплются в прах, при первой же житейской буре.
С порчей, неразборчивостью мировоззренческой, они служить России не будут. Не смогут.
Оставят окопы и убегут. Или, как Солженицын, предадут, но бороться, ценой своей жизни, за Отечество, не будут.
И как верно сказал старый солдат: «Знамёна-то у нас новые, да знаменосцы – старые. Уже подводили, обманывали народ. Кто же за ними пойдёт на смерть, когда надо будет умереть за державу?».
***
Любить – значит жить
не для себя, а для того,
кого любишь.
И. Владиславлев
ПОСЁЛОК ПРОКАЖЁННЫХ
Меня всю жизнь сопровождала эта история. Она будоражила моё сознание и не давала забыться ни на один миг.
Не доезжая Ласпи, красивейшего места у моря, по дороге на Севастополь, всегда, сколько я и помню, был какой-то нелюдимый посёлок.
Дома были серыми, давно, видать, уже не ремонтировались и даже не обновлялись их фасады. Но самое странное – я никогда не видел в этих домах ни единого признака жизни.
От дороги их отделял сетчатый забор и я никогда не видел, чтобы хоть одна машина останавливалась у этого мрачного посёлка, а спросить у кого-либо о его тайне, мне так и не удавалось в годы юности.
***
И уже в наши дни, проезжая мимо этого посёлка, мне нестерпимо захотелось пить и я, увидев колонку за забором, у которого временно была снята секция, над ней колдовал что-то сварщик, остановил машину, взял пустую пластиковую бутылку и пошёл к ней в надежде наполнить живительной влагой свою посудину.
Только я включил воду – неведомо откуда выскочила необычайной красоты девушка, это я заметил сразу, и ногой выбила у меня бутылку из рук, с диким воплем:
– Не смей, не пей эту воду, её нельзя пить вам, нормальным людям.
Я поразился. Оглядывая красавицу, я заметил сразу её ослепительную, просто даже неестественную красоту, которой залюбовался – если Господь создал совершенство, без любого изъяна, то оно было предо мною.
Миндалевидные глаза пылали, яркие иссиня-чёрные волосы обрамляли столь очаровательное лицо, что я даже задохнулся от его совершенного вида.
Необъяснимым и неестественным в ней было одно, но это я заметил несколько позже – руки, которые были до локтя затянуты в грубые, полотняные перчатки, из такой же ткани – грубой и так ей не идущей, был и шарф, который наглухо закрывал её шею.
– Милая красавица, – несколько растерянно сказал я, – а что же я такого предосудительного сделал, что ты мне не позволила набрать воды?
Она даже не ответила мне, а как-то недоумённо простонала:
– Вы – не местный? Вы не знаете, что это – посёлок прокажённых? Проказа не лечится и Вам нельзя даже говорить со мной. Это очень опасно.
Я, как-то нервически, засмеялся. И ответил ей, несколько даже бравируя:
– Милая девушка, после Афганистана – я не боюсь никакой заразы. И не тревожьтесь за меня.
Это не было дешёвым фрондерством, беспечностью. Нет, я именно из Афганистана знал, об этом мне поведала старая русская женщина, которая была смотрительницей в таком посёлке несчастных прокажённых, в котором мне пришлось побывать, что мне не надо страшиться этой беды.
– У тебя в роду, – сказала она, – была ведунья. Скорее всего – твоя бабушка и она оставила тебе в наследство неприятие даже этой страшной и неизлечимой болезни.
– Поэтому – не бойся никогда, можешь даже есть и пить с прокажёнными из одной тарелки и чашки, к тебе эта беда не пристанет.
Но я в ту пору этим словам никакого значения не придал. И только сегодня, по случаю, они мне вспомнились.
И я, излишне игриво, даже с бравадой, заявил красавице:
– Милая девушка! Я не боюсь этой заразы. Я от неё защищён. Поэтому – не волнуйся и не переживай за меня, – и я уже смело, испытующе, скорее для неё, пребывающей в полной растерянности, взял её руку в грубой перчатке и поцеловал её длинные красивые пальцы.
Она от ужаса вся сжалась и посмотрела на меня, как на умалишённого:
– Не искушай судьбы и никогда не бравируй этим, – наконец обратила она ко мне свои бездонные очи, обретя дар речи.
В это время за забором появилась всклокоченная голова мужчины, в возрасте, с седой бородой, давно нечёсаной и неопрятной и раздался полный ярости и угрозы голос:
– Марина! Я сколько раз тебя буду предупреждать? Для нас нет жизни за этим забором! Ты что, хочешь, чтобы нас всех выселили отсюда? На Север, в мерзлоту? Ты же знаешь, что это не пустые угрозы. Нас постоянно об этом предупреждают. А ну-ка, домой, немедленно!
Девушка сразу же поникла и стала уходить от меня в сторону мрачного дома. Только минуту назад – на её лице появилась такая сила жизни, что она стала ещё краше, хотя для неё уже не надо было раздвигать пределы очарования и так.
Она была просто ослепительна.
А сейчас, за один миг, на её лицо вернулась маска скорби и страшной утраты, невосполнимой. Она даже сгорбилась, что совершенно не шло ей и делало её гораздо старше, даже – как-то старее за меня, на целую жизнь.
Не знаю, какими чувствами я был движим в этот миг, но я бросился за ней, благо, её повелитель скрылся за забором, будучи совершенно уверенным, что его власть – абсолютная над ней и она не посмеет его ни при каких обстоятельствах ослушаться.
В порыве необъяснимого чувства я схватил её за руку и, странное дело, она её не вырывала из моих рук, и тихо ей сказал:
– Прошу тебя, я вечером, как только стемнеет, буду на этом месте. Выйдешь?
Она, вздрогнув как от удара, повернулась ко мне, и из её глаз полились, сплошным ручьём, крупные слёзы:
– Господи, ты хоть знаешь, что говоришь? Не искушай судьбу и не буди дьявола, пока он спит. Прощай…








