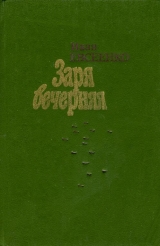
Текст книги "Заря вечерняя"
Автор книги: Иван Евсеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)
С Афанасием Иван Алексеевич всегда был в хорошей дружбе. Забегал к нему чаще, чем к другим мужикам: то посоветоваться насчет сенокоса или жатвы, а то и просто так, новостью хорошею поделиться. Теперь же и словом по-настоящему не с кем перемолвиться. Афанасию-то, правда, еще ничего, он целый день на работе, в лесу, а вот Екатерине Матвеевне совсем худо. Ровесницы, какие были, на зиму в город к детям поразъехались. Володя с Надеждой никакого слуха о себе не подают, а теперь еще и Иван Алексеевич распрощался…
Словом, с утра до вечера Екатерина Матвеевна одна. Раньше, бывало, все хлопочет и хлопочет по хозяйству, то на огороде копается, то во дворе, а в последнее время что-то стала сдавать, тихая сделалась, неразговорчивая. Сидит возле окошка, смотрит на море, а там пустынно и сыро, будто в подземелье…
– У тебя, может, болит что? – решился наконец спросить ее Афанасий.
– Да нет, ничего, – ответила Екатерина Матвеевна, а сама опечалилась еще больше.
Афанасий даже собрался было привезти к ней Лидию Васильевну, пусть поглядела бы, послушала, мало ли чего может случиться в старости. Но Екатерина Матвеевна остановила его, позвала к себе. Афанасий подчинился, подошел к окошку, сел рядышком на диване, чувствуя, что разговор у них будет сейчас длинный и нелегкий. Так оно и случилось. Екатерина Матвеевна минуту помолчала, словно собираясь с мыслями, с силами, а потом вдруг не выдержала и заплакала:
– Пора, наверное, Афанасий, и нам уезжать отсюда.
– Ты чего это? – удивился он ее словам.
– Плохо мне здесь что-то, тяжело… Да и ты погляди на себя – совсем состарился, кашляешь по ночам, стонешь…
Афанасий ответил не сразу, он тоже посмотрел в окошко, на белый свет, на Николаев тополек, который бился, шелестел на ветру последними листочками, потом окинул взором потемневшее к осени море и лишь после этого ответил Екатерине Матвеевне:
– Давай подумаем немного.
– Давай, – согласилась она, но плакать не перестала, не утешилась, сидела возле окошка по-прежнему тихая, скорбная.
Думали они и размышляли об отъезде не один день. И каждый раз приходил Афанасию на память разговор с Андреем Борисенко, его обидное пророчество: «А чуть прижмет посильней – и уедешь в город, в сушь да в тепло… Помяни мое слово – уедешь».
Афанасий давал себе в душе зарок, что никуда он не уедет из Старых Озер, что будет держаться здесь до последнего, пока жив, иначе как он будет смотреть людям в глаза, пусть даже они теперь и стараются не тревожить его разговорами о Николае…
Но Екатерина Матвеевна продолжала плакать, и мысли Афанасия клонились в другую сторону. Тут уж размышляй не размышляй, а от судьбы, как говорится, не уйдешь – надо сниматься и ехать. Жизни здесь уже не будет… Екатерина Матвеевна совсем изведется, зачахнет, и не столько от болезни, сколько от беспорядков, которые вокруг творятся. Она ведь привыкла, чтоб в доме все ладилось, чтоб никакой труд даром не пропадал. А тут скоро и самого дома не будет: в кладовой вон уже от сырости пошел грибок, дерево начало пухнуть. А уж про погреб, про сараи и говорить нечего. Афанасий, конечно, еще повременил бы немного, подождал бы до весны, со старшими детьми посоветовался бы, коль от Николая теперь совета ждать не приходится – он, можно сказать, уже отрезанный ломоть…
Недавно, правда, заехал в Старые Озера – напористый, строгий. Похоже, ни статьи газетные на него не действуют, ни разговоры со староозерскими мужиками. А может, просто прикидывается, что не действуют… Как-то даже не верится, что это его сын, что вырос он здесь, в Старых Озерах, под дедовскими тополями.
С Афанасием Николай перекинулся словами негусто, поинтересовался здоровьем, работой – и на том их беседа закончилась. О недавнем разговоре с мужиками возле колодца даже не вспомнил…
* * *
А люди по-прежнему уезжали из Старых Озер. Возле моря осталось всего с десяток жилых домов, а остальные стояли заколоченные, мертвые.
Екатерина Матвеевна совсем занемогла, начала опасно кашлять, худеть, а Афанасий, еще малость поколебавшись, решил, что, наверное, настала пора и им прощаться со Старыми Озерами. Ведь, не дай бог, случись что-либо с Екатериной Матвеевной, так он до конца своих дней не простит себе этого промедления.
Одним словом, оседлал Афанасий в воскресное утро Горбунка и отправился, не торопясь, за Великие горы в самые верховья реки, где среди ельников и заливных лугов раскинулась небольшая деревушка Лосева Слобода. Деревушкой она, правда, только называлась по старой привычке, а на самом деле была всего лишь хутором. Молодежь из Лосевой Слободы давным-давно переехала на центральную усадьбу колхоза поближе к асфальту, к железной дороге. А в Лосевой Слободе остались одни старики, которым нужны не столько железная дорога и асфальт, сколько свежий лесной воздух, простор да река, в этих местах еще чистая, не замутненная…
Афанасий без особого труда отыскал в Лосевой Слободе давно продающийся домик – небольшой, но еще крепкий, ладный, заново перекрытый шифером. Стоял он неподалеку от реки, в окружении верб и яблоневого сада, который спускался вдоль огорода почти к самому речному берегу. Лучшего места для Екатерины Матвеевны и Афанасия, чтоб дожить свою жизнь, наверное, и не найти.
Афанасий договорился с хозяином о цене и заторопил Горбунка домой, чтоб скорее обрадовать Екатерину Матвеевну. Горбунок, прихрамывая, затрусил рысью, зафыркал, словно он вместе с Афанасием тоже радовался, что наконец-то опять заживет в тепле, в сухом, обставленном камышом сарае, что по весне будет опять пастись на заливных лугах и пить из реки чистую холодную воду…
Все это, конечно, так, все правильно, только об одном Горбунок не думает, не может думать: как оставить Афанасию и Екатерине Матвеевне Старые Озера, как распрощаться с каждой их улочкой, с каждым бугорком земли, с тропинками и стежками, по которым столько исхожено за долгую жизнь?..
А как бросить в чужие руки отцовский дом, где было у Афанасия с Екатериной Матвеевной много хороших, светлых минут, где родились, выросли и откуда разъехались во все края земли их дети?! А Великие горы, а леса, а Николаев тополек, который уже поднялся выше окон, до самой крыши?! Тоже ведь память, тоже ведь надежда…
Но, видно, такая уж у Афанасия и Екатерины Матвеевны судьба, что на старости лет надо сниматься им с родного места и искать жизни на чужбине. Об одном только надо будет попросить детей: чтоб похоронили их в Старых Озерах, рядом с дедовскими могилами. Легче и отрадней им будет после смерти лежать в родимой земле… Хотя и на это теперь надежды мало. Летом вон хоронили старушку Андреиху, так могилу вырыли всего чуть выше колена – а дальше вода. Так в воду ее, сердешную, и положили, другого ведь кладбища пока в Старых Озерах нет.
Горбунок вскоре притомился, перешел на шаг, а потом и вовсе начал отставать, хромая и заваливаясь на сторону. Афанасий спешился, повел его в поводу вдоль речного, зеленеющего осеннею травой берега. Так и шли они до самых Старых Озер, до самого моря: Афанасий впереди, прокладывая дорогу среди камыша и колючего дурнишника, который в последние годы буйно поднялся на пляжных намывных песках, а Горбунок – следом, греясь на закатном далеком солнышке.
Море было тихое, робкое, волна едва-едва шевелилась где-то на середине, а к берегу совсем успокаивалась, замирала. Не было слышно ни единого всплеска, ни единого вскрика, словно все морские обитатели: рыбы, птицы и звери – навсегда оставили его и ушли в другие места, где текут настоящие реки, где вдоволь и трав, и чистой воды, и свежего верхового ветра.
Афанасию даже стало жалко этого осиротелого, заброшенного всеми моря. Притаптывая сапогами побуревший к осени дурнишник, Афанасий повернул было к берегу, чтоб посидеть там где-либо под кустом лозы, посмотреть на морские затухающие просторы, на свой дом, который виднелся совсем уже неподалеку и который называть своим осталось совсем уже недолго…
И вдруг он словно споткнулся на ровном месте. Прямо перед ногами было мокрое, водянистое пятно. С минуту Афанасий постоял над ним, не понимая, откуда оно могло тут взяться, далеко от берега, в нехоженых зарослях дурнишника. Потом, отпустив Горбунка, он присел на корточки и стал наблюдать за пятном, еще боясь и не веря своей догадке. А пятно между тем расползалось, увеличивалось, поступающая откуда-то из-под земли вода отвоевывала у пляжа песчинку за песчинкой. Они быстро темнели, набухали и опускались в мокрую отвердевшую впадинку.
Афанасий вначале ладонью, а потом подобранной неподалеку щепочкой начал раскапывать эту впадинку в самой ее середине, в центре, где песок был особенно сырым и податливым. Горбунок удивленно топтался за спиной, не чувствуя еще, не понимая того, что уже чувствовал и понимал Афанасий. Все настойчивей и поспешней разгребая песок, он уже слышал биение воды, ее клекот, еще подземный, глухой, но неостановимо рвущийся на поверхность, к осенним травам, к деревьям и морю…
И вот прямо из-под Афанасиевых рук взметнулся над горкой песка ключик, забурлил, забился уже по-живому, сразу наполняя вокруг себя лунку прозрачной, чистой, как утренняя роса, водой. Афанасий не удержался, набрал этой воды в горсть, отпил два-три глотка, дивясь ее уже почти забытому вкусу, а потом плеснул остатки себе в лицо и наклонился было над ключиком-родничком опять, чтобы теперь уже насытиться водою вдоволь, но неожиданно ему напомнил о себе Горбунок. Он вдруг оттеснил Афанасия от лунки и, подавшись далеко вперед головой, припал к родничку, начал пить, втягивая в себя воду с легким прихрапыванием и даже как будто со стоном. Афанасий не стал ему мешать, дал напиться вволю и лишь в самом конце, придержав Горбунка за уздечку, плеснул ему на глаза и лоб родниковой ожившей воды. Горбунку это понравилось, он подступил к Афанасию поближе и положил на плечо тяжелую стареющую голову, как часто любил это делать в хорошие, спокойные минуты…
А родничок клокотал все сильней и сильней, пенился, бурлил невысоким ключиком, что-то бормотал и выговаривал. Вода уже растеклась вокруг него крохотным озерцом, стала искать себе выход, пробивать ручеек в сыпучем, зыбком песке, тянуться к камышам, к береговым лозам, к морю. Афанасий поспешил на помощь: где руками, щепочкой, а где просто сапогом стал раскапывать песок, вести родниковую воду от низинки к низинке, от одного лозового кустика к другому, пока она не соединилась с морской, затянутой тиной, едва колышущейся…
Потом они с Горбунком вернулись назад к родничку, еще раз умылись и попили студеной подземной воды, чувствуя, как она бодрит и возвращает силу уставшему телу. Горбунок долго тешился над озерцом, баловался, мочил в нем низко опавшую гриву, фыркал, а потом и вовсе удивил Афанасия: с трудом оторвавшись от воды, он высоко поднял над родничком голову, несколько раз встряхнул ее и вдруг заржал – да так призывно и тоскующе, что Афанасий невольно вздрогнул…
Склонившись над ключиком, он вновь принялся слушать, смотреть, как тот бурлит, поднимается над землей крошечным водопадом, как вода в ручейке, минуя камушки и песчаные бугорки, стремительно мчится к морю. И так Афанасию стало хорошо, так светло и чисто, что он, на минуту забыв о всех своих горестях и печалях, не сдержал в душе редкую теперь стариковскую радость и вдруг улыбнулся прозрачной этой родниковой воде, осеннему закатному солнцу и вообще всей непреходящей жизни…
Крик коростеля
Живым – живое в этой жизни краткой.
А. Твардовский
Давно уже не было такой ранней весны…
Еще в середине марта снега почернели, прогнулись, а после и вовсе в один день растаяли, оголив иссиня-черные тротуары и небольшие островки земли в скверах и детских парках.
Мать все чаще стала выходить на балкон, подолгу смотреть на весеннее солнышко, на две березки, растущие у подъезда, где с утра до вечера копошились недавно вернувшиеся из дальних стран скворцы. Она вздыхала, глядя на их веселую, суетную работу, и однажды, присев в кухне на стульчике, не выдержала:
– Пора мне собираться, Коля.
– Ну что ты, мать, – попробовал отговорить ее Николай, – рано еще.
– Нет, сынок, пора. И грядки надо вскапывать, и в саду порядок навести.
Николай присел рядышком, обнял ее за плечи, пообещал:
– Вот выкрою на работе недельку, поедем вместе. И грядки тебе вскопаю и дров нарублю.
Мать на это лишь улыбнулась и негромко вздохнула. Николай замолчал. Этот горестный материнский вздох был ему понятен. Каждый год он обещает ей приехать весною, помочь управиться с огородом – и все никак, то одно, то другое… А как бы хотелось взять в руки лопату, обкопать яблони, выломать сухую малину, потом наточить топор и целый день рубить возле сарая смолистые, слежавшиеся за зиму дрова. Но с наступлением весны начинается у них на работе такая круговерть, что некогда в гору глянуть. Мотается Николай по стройкам, пропахнет, пропитается цементом, песком. Странно как-то жизнь его повернулась. В деревне, где жил с матерью почти до двадцати лет, цемент видеть приходилось редко. Основной строительный материал там дерево и глина. А вот после института он даже по ночам стал ему сниться. Николай, правда, не сетует: сам выбирал специальность. В командировки ездит не то чтобы с охотой, с радостью, но ездит… Работа есть работа.
Вот и нынче надо было собираться недельки на две, не меньше. Строит их трест в одном месте элеватор, а народ там не очень образованный, такой замесят бетон, что после хоть разбирай всю постройку, если только она сама не рухнет. Поэтому Николай еще раз обнял мать и еще раз пообещал:
– Вернусь из командировки – и едем.
– Ладно, сынок, – согласилась она, – немножко еще потерплю.
…Уехал Николай с легким сердцем, с надеждой, что по возвращении, может, действительно ему удастся вырваться домой. А то уж лет пятнадцать не видел, как цветут дома сады, как пашут по весне огороды. Да что там огороды, названия трав стал забывать. Однажды вспоминал, вспоминал, как трава называется, что во дворе у них растет: листья такие кругленькие, темно-зеленые, семена тоже кругленькие, на сковородки похожие, их в детстве есть пробовали, – да так и не вспомнил, пока Валентина, человек городской, в деревне только наездом бывающий, не подсказала:
– Да господи, полянички.
Целую неделю Николай безвылазно сидел на стройке, лазил в резиновых сапогах на самое дно котлована, мок под весенним дождем, изголодался, зарос щетиною, а на вторую неделю, когда дело уже начало немного проясняться, вдруг пришла от Валентины телеграмма:
«СРОЧНО ВЫЕЗЖАЙ, МАТЬ ПРИБОЛЕЛА».
Сердце у Николая нехорошо вздрогнуло. Мать болеть не умела. За всю свою жизнь он видел ее больною раза два-три. Году в шестидесятом, когда он после окончания десятилетки устроился работать в лесничестве лесорубом, вдруг приехала к нему на попутной машине дальняя их родственница Соня и сказала, что мать положили в больницу с аппендицитом. Он не то чтобы испугался – знал все-таки, что аппендицит не такая уж и страшная операция, – но стало ему как-то не по себе. Выпросил Николай у лесника лошадь и верхом, без седла помчался в город, накупил там всяких конфитюров, пряников, колбасы, сыру и заявился к матери в палату, бледный и встревоженный. Она лежала в самом углу уже после операции и вязала крючком кружево. Увидев Николая, нагруженного покупками, отложила в сторону кружева, улыбнулась ему веселой, совсем не болезненной улыбкой и стала рассказывать:
– . Вышла корову напоить, а оно как заколет в боку. Я к фельдшеру. Тот поглядел меня, послушал и определил: «Аппендицит у вас, Александровна, в больницу надо». Я вначале не соглашалась: корову не на кого оставить, кур, а потом думаю, раз аппендицит, то все равно когда-нибудь вырезать надо, ну и решилась. Андрей Петрович возле магазина с подводою стоял, отвез меня потихоньку, а к вечеру операцию сделали.
– Ох, мать, – присел на табурет Николай.
– Ничего, Коля, – засмеялась она, – теперь молодцом. На выписку скоро.
Просидел он тогда возле матери часа полтора, пока не начал волноваться за окном и бить копытом снег конь. Мать уговаривала Николая ехать скорее домой, а он все сидел и сидел, и было ему так покойно рядом с нею, так радостно, что она жива, здорова и будет жить еще долго-долго, года до двухтысячного. Ведь в ту пору матери не исполнилось даже сорока – нынешний Николаев возраст. Была она молодой, черноволосой, и лишь возле самых висков белели у нее несколько седых прядей. Так появились они еще в войну, когда она родила в оккупации Николая уже почти через полгода после гибели отца.
Забрал Николай мать домой спустя неделю. Вез на санях по лесной, занесенной метелью дороге. Мать то и дело распахивала тулуп, дышала и никак не могла надышаться хвойным морозным воздухом и все улыбалась, все радовалась:
– Господи, как хорошо на воле.
Николай шагал рядом с подводою а кирзовых сапогах, в фуфайке, подпоясанной ремнем, в шерстяных рукавицах, которые в начале зимы связала мать, и опять покойно и хорошо было ему рядом с нею. Он без устали рассказывал матери, как справлялся дома один с печью, варил себе суп и картошку, доил корову, кормил кабана и кур.
– Так и надо, сынок, – хвалила его мать, и чувствовалось, что ей тоже хорошо рядом с Николаем, уже взрослым, самостоятельным сыном, мужчиною.
Болела ли мать в те годы, когда Николай служил в армии, учился в институте, он не знает. Наверное, болела. Но писать об этом в письмах не любила. Лишь два года тому назад, зимою, уже перед самым уходом на пенсию, вдруг пожаловалась:
«Я тут приболела немного. Воспаление легких. Пошла на речку пополоскать белье, ну и продуло. У меня ведь всегда негоразд: только затею белье стирать или кабана колоть, так обязательно мороз градусов двадцать пять – тридцать, метель, вьюга. Но сейчас уже бегаю».
Это вот материнское осторожное слово в телеграмме «приболела» больше всего и напугало Николая. Если уж она согласилась на телеграмму, то значит, не просто «приболела», а заболела сильно и надолго.
Приехал Николай домой поздно вечером. Бросив в угол портфель, пальто и ботинки, он прошел на кухню, где Валентина и Сашка как раз ужинали, спросил:
– Что тут у вас стряслось?
– В больнице мать, – прижала к себе Сашку Валентина. – Пожаловалась на боли в груди. Я вызвала «скорую». Те посмотрели, послушали и увезли. Сейчас в областной лежит, в хирургическом.
Николай подошел к телефону и стал звонить своему старому, еще армейскому товарищу Борису Сергееву, работавшему теперь патологоанатомом.
– Я смотрел ее, – неожиданно сообщил ему Борис.
– Что-нибудь опасное?
– Пока неизвестно. Перевели в онкологическое.
Николай молча положил трубку и взял в руки пальто.
– Я съезжу к ней.
– Может, поужинаешь? – попробовала остановить его Валентина.
– Потом, – обманул он ее. – Я скоро…
На остановке долго не было троллейбуса, и Николай, стараясь не мешать парочке, все время целовавшейся в уголке, одиноко стоял на тротуаре. В командировке, занятый строительными неурядицами, он как-то просмотрел, что весна уже в полном разгаре, что вот-вот на деревьях появятся листья. Теперь же он вдруг остро почувствовал ее приход, дыхание влажного неокрепшего ветра, те особые, ни с чем не сравнимые запахи, которые весну делают весною. Николаю вспомнилось, как такими вот последними апрельскими днями они когда-то дома с матерью пахали огород. Николай брал в колхозе порядком исхудавших и обессилевших за зиму лошадей, приводил их во двор. Мать замешивала лошадям в корыте сечку, выносила из сарая специально для этого случая припасенную одну-две охапки сена. Пока лошади, набираясь сил, склонялись над корытом, пили из ушата воду, Николай и мать обсуждали, как будут в этом году пахать: «в склад» или «в разору». Под картошку чаще всего пахали «в разору», чтоб лучше ходить в конец огорода на грядки и можно было посадить по обмежкам побольше подсолнухов.
Первый гон мать вела лошадей под узду, чтоб борозда получилась ровной и чтоб лошади случайно не поломали растущие по меже вишни. А потом Николай, по-мужицки покрикивая на разворотах: «Но-о-о, в борозду!», уже справлялся сам.
Над Николаем, над лошадьми порхали недавно родившиеся бабочки, жужжали по-весеннему радостные пчелы, вслед за плугом важно, по-землемерски вышагивали грачи. Пахло вишневым соком, парным запахом потревоженной земли, лошадьми, возле грядок на пойме переговаривались, кумкали лягушки.
Как давно, как невообразимо давно все это было…
Закончив работу, Николай опять подгонял к корыту лошадей, мыл во дворе под яблоней руки и шел обедать. Мать доставала бутылку домашней хлебной водки, наливала рюмку себе и рюмку Николаю. Они чокались, выпивали за будущий урожай, и мать неизменно говорила:
– Вот ты и вырос, сынок.
А потом она осталась одна. Кто и когда пахал ей огород, помогал сажать картошку, Николай толком и не знал. Кто-то, должно быть, помогал, раз летом, когда они приезжали в отпуск, картошка уже цвела бледно-розовыми, похожими на звездочки цветами, а в грядках, прополотые и прорванные, росли и морковь, и свекла, и лук.
Наконец показался троллейбус. Николай, пропустив вперед замешкавшуюся было парочку, вошел и сел возле окна. Улицы уже были полупустыми. Лишь изредка проносилось куда-то такси, громыхал, скрипел на поворотах трамвай, да в подъездах то там, то здесь бренчали на гитарах нетерпеливые десятиклассники. Все, как всегда, все, как обычно…
В больнице Николая встретила дежурная нянечка, старушка лет на десять старше матери, подала халат, указала, куда идти. Николай немного удивился такому ее вниманию (в ночное время впускать посетителей не положено), но старушка, как бы догадываясь об этом его удивлении, объяснила:
– Борис Иванович велел пропустить.
Николай открыл дверь палаты – и на мгновение остановился. Палата была не обычной, не такой, какими он привык их видеть, где одна за другой, разделенные тумбочками, стоят койки. Белыми накрахмаленными простынями она была разбита на четыре кабины. Возле одной, опутанный трубками и проводами, негромко стучал какой-то насосик. Николай обнаружил мать в самой первой кабине. Она лежала на высоко взбитых подушках и, кажется, спала. Стараясь не шуметь, Николай осторожно присел на табуретке. Но мать все-таки почувствовала его присутствие и открыла глаза. Была она уже не такой черноволосой, не такой молодой, как пятнадцать лет тому назад, виски у нее совсем побелели, возле глаз и на лбу залегли морщины. В белой больничной рубашке с грубыми завязками на груди мать даже казалась чуть старше своего возраста, но все равно назвать ее старухой было никак нельзя.
– Ты чего, сынок? – удивилась она Николаю.
– Да вот, – подсел он поближе, – приехал из командировки, а Валя говорит, ты приболела.
Мать взяла его за руку шершавыми, потемневшими от работы пальцами и вдруг весело, как двадцать лет тому назад, улыбнулась:
– А ну их всех! Заболело немного в груди, так всполошились, завезли сюда. Боря каждый день бегает.
– А раньше болело? – спросил Николай, припоминая, жаловалась ли мать когда на боли в груди.
– Побаливало. Так пора уже, Коля. Годы…
– Какие там у тебя годы!
– И то правда, – опять улыбнулась мать и пожала Николаю руку.
Николай почувствовал в этом ее пожатии прежнюю материну крепость и силу, которыми он еще в детстве не раз восхищался. От природы мать не была особенно сильным и здоровым человеком. Сильною ее сделала работа. После гибели отца мать всю мужскую и женскую работу делала сама: молотила, рубила дрова, косила. Мешок зерна она брала за «чуба», ловко вскидывала вначале на колено, потом на спину и несла столько, сколько надо было. За день мать могла смолотить цепом копну ржи. Тот, кто хоть раз брался за эту работу, знает, что это значит. В веселую рабочую ми нуту мать любила посмеяться над слабосильными и ленивыми мужиками: вдвое быстрее, чем они, могла разгрузить машину с зерном, сметать на лугу стог, раскряжевать в лесу дерево. А вот Николаю, как только он подрос и у него стала получаться кое-какая мужская работа, мать часто говорила: «Святой мужчина».
В кабинке, возле которой стоял насос, кто-то негромко застонал, зашевелился. Мать вздохнула, отпустила Николаеву руку.
– Девочка там умирает, восемнадцати лет. Свадьбу думали справлять Первого мая, а тут эта страшная болезнь.
Николай промолчал. А мать, поправив на груди одеяло, вдруг начала просить его:
– Забери меня отсюда, Коля. Поедем домой на свежий воздух. Душа болит: как там корова, огород?
– Да брось ты, мать, про огород, – принялся утешать ее Николай. – Засеют.
– А корова?
И с коровой ничего не случится. Соня приглянет.
Мать снова вздохнула, прислушалась, как стонет девчонка, как монотонно и равнодушно стучит насосик, помогая ей жить последние дни и часы жизни. И вдруг мать, совсем неожиданно для Николая, уснула. Он на мгновение отвернулся, чтобы поправить халат, который сполз с плеча, как мать уже спала, чуть склонив набок голову. Николаю можно было потихоньку уйти, но он остался сидеть возле матери, как будто старался за эти недолгие минуты наверстать те упущенные годы, которые провел без нее.
За всю свою жизнь мать ни разу толком не выспалась. Зимой и летом она неизменно вставала в половине пятого, чтоб успеть до восьми часов, когда надо бежать в школу на уроки, подоить корову, накормить кабана, кур, вытопить печь. Лишь иногда летом, в самую жару, она прилегала в прохладной кладовке, на старой, выброшенной туда кровати. И этих двадцати минут ей хватало, чтоб, не приседая, хлопотать по хозяйству часов до десяти – одиннадцати. В последние два года, приезжая на зиму к Николаю, мать не переменила своей привычки: вставала ни свет ни заря и, стараясь никого не разбудить, начинала готовить завтрак. Николай и Валентина пробовали отговорить ее, но мать лишь улыбалась:
– Кто рано встает, тому бог дает, а кто долго спит, тому и бог не велит.
Она по-деревенски каждый день варила свежий суп, пекла оладьи, не признавая вчерашней остывшей еды. Отправив Николая и Валентину на работу, мать обязательно находила себе какое-нибудь занятие: трясла половики, мыла полы, вываривала на плитке белье, сокрушаясь, что вода в водохранилище, которое начиналось сразу за их домом, грязная, стоячая и полоскать в ней белье никак нельзя. В городской жизни мать больше всего не любила магазинов, очередей, суетной толкотни возле прилавков. Ей в два раза было легче съездить за какой-либо морковкой или кочаном капусты через весь город на базар, чем терять время без толку в очереди.
Николай поправил в ногах матери одеяло и осторожно вышел из палаты. Старушка няня, дремавшая в вестибюле в кресле, провела его до двери. Маленькая, сухонькая, гулко шлепая по ступенькам разношенными сандалиями, она утешала, уговаривала его:
– Выдюжит, сынок. Молодая еще.
Николаю от этого старушечьего участия стало как-то легче, спокойней на душе. Он улыбнулся ей в ответ, попрощался и пошел к остановке троллейбуса без прежнего чувства растерянности и тревоги, которое вот уже почти целые сутки не оставляло его ни на минуту. Действительно, болеют люди и похуже, и потяжелей и ничего – выздоравливают. Полежит мать недельку-другую, а потом поднимется и будет, как тогда, после аппендицита, посмеиваться над собой: «Надо же, весна, а я разнежилась, расхворалась».
Дома Николая ждал Борис. Он сидел на кухне и о чем-то разговаривал с Валентиной. Увидев Николая, Борис не поднялся, не подал ему руки, как делал это обычно, а лишь посмотрел в упор, испытующе и как-то по-докторски безжалостно. Николай постарался не придать этому его взгляду особого значения. Борис и раньше не умел смотреть мягко, что при его работе и неудивительно. Зато Валентина сразу выдала свою тревогу, недоброе предчувствие.
– Борис говорит, надо оперировать.
– Опухоль?
– Возможно, – отодвинул в сторону стоявшую перед ним чашку Борис.
Николай присел на кухне, но не рядом с ними, а чуть в сторонке, возле окна.
– Когда операция?
– Завтра.
Валентина заплакала, но негромко, не тяжело, словно боялась, что своим преждевременным плачем накличет какую либо новую беду.
– Пока волноваться нечего, – попробовал успокоить ее Борис – После таких операций живут до ста лет.
– Правда, Боря? – сквозь слезы улыбнулась Валентина.
– Правда.
Без матери на кухне стало как-то неуютно, пусто, казалось, она вся нахолодала, отсырела. Сервант, холодильник, табуретки и вообще все вещи как будто сдвинулись со своих мест и теперь стояли в растерянности и недоумении.
Приехав осенью, мать первым делом побелила на кухне. Это в городской жизни привыкли делать ремонт раз в два-три года. Побелят из пылесоса потолок, оклеят новыми обоями стены, покрасят полы, окна и живут до следующего ремонта, хотя на кухне иногда копоти в палец. Николай с Валентиной тоже так жили. А вот мать в деревне белила на кухне почти каждый месяц. Отдышавшись несколько дней после дороги, она купила в хозяйственном магазине щетку, долго выпаривала ее в ванне, жалея, что не захватила из дому свою, уже бывшую в работе, и принялась наводить порядок. Побелила раз, потом второй, чуть добавив в мел синьки, вымыла окна, полы, полила на серванте зачахшую было фиалку. Мать цветы любила. Дома у них и на подоконниках, и на столе, и даже на лежанке – везде цветы: огонек, кактус, столетник, китайская роза. Каждый свой день мать начинала с того, что вытирала запотевшие за ночь окна и поливала цветы. Она и здесь, в городе, не изменила своей привычке. Окна у нее всегда сияли, протертые до синевы специально заведенной тряпочкой, и фиалка вскоре ожила, а через месяц на ней появились бледно-розовые, величиной с двухкопеечную монету цветочки. Мать не могла нарадоваться на нее и даже отсадила для себя, для дома, небольшой росточек.
– Я, пожалуй, пойду, – поднялся Борис.
– А может, посидишь еще немного? – стала просить его Валентина.
– Нет, пойду. Завтра трудный день.
– Да, конечно, – пошел провожать его в коридор Николай.
Он подал Борису плащ, шляпу, открыл дверь, но в последний момент не выдержал и, оглянувшись на Валентину прямо спросил:
– И все-таки, есть надежда?
– Есть. Анализы неплохие.
– Ты на операции не будешь?
– Нет, у меня своя работа.
Николай смутился, работа у Бориса действительно иная, с живыми он дела не имеет.
– Позвони завтра.
– Позвоню, часа в два. Ждите.
Легко, по-спортивному Борис стал спускаться по ступенькам вниз, словно старался как можно скорее уйти от Николая, от его расспросов и просьб.
Познакомились они с Борисом в армии в самом начале службы. Сержантская школа, в которую они попали, только формировалась, и у нее еще не было необходимого запаса учебных макетов, всевозможного снаряжения, техники и даже постельных принадлежностей. Поэтому в первый же день, едва успев переодеть, новобранцев увезли в поле к громадным скирдам соломы, где они должны были набивать матрацы. Стояла уже поздняя, дождливая осень. Машины к скирдам не доходили, и солдаты, выстроившись цепочкой, таскали матрацы к узенькой проселочной дороге. Здесь, идя друг за другом, они впервые и разговорились. А потом сержант неожиданно оставил их вдвоем караулить матрацы до глубокой ночи, потому что машины где-то застряли в непролазной черноземной грязи.









