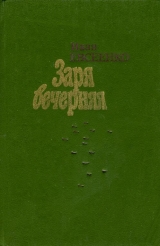
Текст книги "Заря вечерняя"
Автор книги: Иван Евсеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
Тонька взяла в руки поочередно каждый серп, попробовала его на весу – замашной ли – и выбрала один, старенький, не раз правленный в кузнице, с самодельным, стершимся под материной ладонью черенком. Повесив серп на плечо, Тонька в очередной раз охнула и прислонилась к загородке, где когда-то у матери жил поросенок.
А Николаю вдруг стало жалко серпа. В их роду им жали рожь и бабка, и дед, и мать, и он, Николай, и даже Сашка пробовал срезать два-три стебелька. Бабка им в молодые годы порезала руку да так и умерла с изуродованным, неправильно сросшимся суставом. Николай в детстве ходил с этим серпом на луг за повиликой и молодым очеретом для теленка, мать зимою, когда не хватало сена, резала им сечку – оттого так отполировался, истончился его черенок, оттого в кузнице так часто его правили, набивали зубилом новые зубья. Печать работы и усталости лежит на нем. А теперь серп перейдет в другие руки, до этого не чувствовавшие его тяжести, не поливавшие его своим потом. Скорее всего, Тонька бросит серп где-нибудь в каморе, да там он и заржавеет, придет в негодность.
Тонька уходить не торопилась, все переминалась с ноги на ногу, оглядывая темный, затянутый паутиной сарай. И тут Николай догадался, что пришла она вовсе не за серпом, не нужен он ей, старый, согнутый наподобие птичьего когтя: надеялась Тонька спозаранку у Николая опохмелиться, потому как тяжелая у нее сейчас, больная голова.
От вчерашних поминок у Николая оставалось еще две-три бутылки водки, сохраненные Соней, и он мог бы позвать Тоньку в дом. Но он не стал этого делать, зная, что если Тонька опохмелится, то после быстро от нее не отделаешься.
– Что тебе еще?
– Отдай грабли, – попросила Тонька, видно поняв, что опохмелиться ей не удастся.
Николай достал с вышек грабли, легонькие, березовые, еще почти не бывшие в работе. Мать, судя по всему, купила их впрок, чтоб весною, когда придется во время пахоты загребать навоз в борозду, не бегать по соседям, не одалживаться.
Тонька приладила грабли на плече рядом с серпом и пошла было к калитке, но потом остановилась и, наверное все-таки еще надеясь, что он пригласит ее в дом, спросила:
– Говорят, ты шубу материну будешь продавать?
– Какую шубу? – изумился Николай.
– Ну, ту, праздничную, ненатуральную.
– Так она же тебе не впору.
– А я подошью, и сносится потихоньку.
– Нет, Тоня, – приоткрыл калитку Николай, – не продаю.
– Да я просто так, спросить, – вздохнула Тонька, – у меня-то и денег нет.
Это ее признание неожиданно растрогало Николая, и он не выдержал, повел ее в дом, налил рюмку.
Тонька торопливо выпила, минуту передохнула и тут же опять попробовала завести разговор о том, как мать учила их в войну грамоте, но потом, махнув рукой, заплакала.
– Не серчай на меня. Глупая я и несчастная.
– Да я вижу, – пожалел ее Николай и, сам того не ожидая, предложил: – Дрова ты забери, они мне действительно не нужны.
– Налей еще рюмочку, – попросила Тонька. – Расстроилась я вчера.
Николай налил. Тонька взяла рюмку чуть вздрагивающей рукой, поднялась.
– За твое здоровье выпью. Мать бы не осудила.
– Выпей, – согласился Николай.
На этот раз Тонька пила долго, медленно, чувствовалось, что водка ей больше не шла. Отыскав на столе кусочек хлеба, она сжевала его и, уже прощаясь, посоветовала:
– Гони ты их всех, Коля. И меня тоже…
– Ладно, – невольно усмехнулся он, – погоню.
Но не успела Тонька уйти, как громко стуча о ступеньки сапогами, вызвал Николая на крыльцо Кирилл.
– Я все про кирпич, – кашлянул он раз-другой.
– Так ведь не продаю, – стараясь говорить как можно спокойнее, ответил Николай.
– А сказывают, будто передумал.
– Кто сказывает?
Кирилл пожал плечами, едва заметно улыбнулся.
– Да все сказывают. Зачем он тебе?
– Печь переделывать буду, – соврал Николай.
– Жить, что ли, здесь собираешься?
– Собираюсь.
– Жаль, – вздохнул, ударил себя руками по коленкам Кирилл. – Мне кирпич вот так нужен.
– Мне тоже, – начал раздражаться Николай.
Кирилл достал из кармана оружейную масленку времен войны, открутил колпачок и насыпал на ровно оторванный прямоугольничек газеты табаку. Судя по всему, он рассчитывал на затяжной обстоятельный разговор.
– Так ты и семью привезешь? – задымил он папироской.
– Погляжу. А чего вы так беспокоитесь?
– Да в огороде тут все дело. Понимаешь? У вас, если жить не будете, огород заберут. А мне он с руки: и неподалеку, и грядки есть, и лужок. Я с председателем уже говорил.
– Ну и что?
– Он не против.
Николай помедлил с ответом, потом тронул дверь.
– Пока об этом говорить рано.
– Да нет, как раз вовремя. Через неделю ведь уже сеять надо.
– Посеете еще, – закрыл за собой дверь Николай.
Он думал, что сейчас им овладеет злость, обида, но их не было, и лишь одна тоска навалилась на него своей темной, изнуряющей тяжестью. Стараясь отрешиться от нее, он выкатил из сарая старую деревянную тачку, на которой мать всегда возила из огорода тыквы и свеклу, и начал перетаскивать в сарай кирпич. Вряд ли он когда понадобится, но пусть пока лежит в сохранности, не мокнет понапрасну под дождем и снегом. Все еще может в жизни случиться. Вдруг, правда, возьмут они с Валентиной и Сашкой да и поселятся здесь. А что! Работа и Николаю и Валентине найдется. Тогда, понятно, кирпич будет нужен: печь переделать, фундамент подвести под веранду.
Мысль эта долгое время не давала Николаю покоя, нравилась ему, как могла, утешала, обнадеживала, но потом он как-то сразу понял: обман все это и неправда. Без матери никакой здесь жизни не будет, все захиреет, разрушится, живи Николай в доме или не живи. Да и душа не выдержит, исстрадается, измучится – и погибнет…
Поставив на место тачку, Николай вышел на огород. Неглубокою, оплывшей за зиму разорою он был разделен на две части. Слева уже по-весеннему зеленела, набиралась силы рожь, а справа дожидалась пахоты темная, заросшая по меже полынью и нехворощью полоска. Посреди этой полоски была протоптана матерью тропинка, ведущая в конец огорода, в грядки. Осенью не раз и не два то с тачкою, то с попоною ходила мать в грядки, чтоб вывезти и вынести оттуда и свеклу, и капусту, и пудов десять отавы, которая успевала еще подняться на лужку до зимних холодов.
Николай ступил на эту тропинку и пошел по ней, узенькой и как будто даже немного теплой от весеннего выглянувшего солнца. Ему вдруг показалось, что он различает на этой тропинке следы от материных галош, хотя, конечно, быть этого не могло: зимою они, возможно, и хранились, запорошенные снегом, скованные морозом, но весною размыл их дождь, расплавило солнце, и следы навсегда, безвозвратно ушли в землю.
Паводок в этом году был особенно сильный. Вода затопила не только огуречные ряды, но и высоко насыпанные грядки, подобралась к огороду, где на самом краю ржаного поля у матери был лоскутик клубники. На зиму, чтоб клубника не вымерзла, мать укутала его навозом. Его давно уже полагалось бы убрать: клубничные трехпалые листочки прели под ним без воздуха и солнца. Николай поднял принесенную откуда-то паводком длинную сосновую палку с рогатулькой на конце и стал сбрасывать навоз. Клубничные листочки, казалось, сразу расправились, стряхнули надоевшую за зиму тяжесть, начали дышать ровнее и глубже. Потом Николай освободил от навоза и соломы небольшую, в палец толщиной грушу, которую мать недавно посадила здесь на ягодном лоскутке специально для Сашки. Она так и звала ее – Сашкина груша. Теперь, понятно, ее будут называть по-другому…
Несколько минут Николай стоял на меже, смотрел, как широко в этом году разлилась Сновь, затопив не только луг, но и ольховый лесок, который почему-то зовут Гатками, и летнюю кошару, построенную возле берега на самом бугре, и даже часть деревенской песчаной улицы.
Мать очень любила эту пору разлива. Каждый год писала о ней в письмах, радовалась, если воды было по-нынешнему много, звала приехать хоть на денек, посмотреть, как затопило луг, как до самого Заречья и Новых Млинов все вода и вода…
Ну вот Николай и приехал, и увидел всю эту красоту и приволье, без которых мать не мыслила себе жизни, без которых ему, Николаю, тоже нелегко в дальних своих далях.
Ему захотелось сделать еще что-либо по хозяйству, о чем мать обязательно бы его попросила, приедь он так вот по весне домой. Например, поджечь картофельную ботву, которая двумя аккуратными кучками лежала на стерне, мешая скорой уже пахоте. Он сходил в дом, взял спички и, немного помучившись, поджег обе кучи. Огонь быстро слизнул верхние просохшие на солнце стебельки, а потом исчез, стал невидимым. Густой сизый дым поднялся над кострами и, гонимый ветром, лег на землю, пополз к пойме, сливаясь с ней и заслоняя ее от Николая. Вдвоем с матерью они когда-то часто занимались этим нехитрым крестьянским делом, жгли картофельную ботву, листья. Мать любую работу умела превратить в праздник. А тут еще костер, мягкий картофельный запах дыма! Мать вообще становилась веселой, радостной, до самой темноты не хотела заходить в дом, подбрасывала в уже затухающий костер то обломанную высохшую ветку яблони, то прошлогоднюю кочерыжку подсолнуха. Невольно эта ее радость, праздничность передавалась и Николаю. Он бегал от костра к костру, шевелил их вилами, заставляя гореть ярче и сильнее.
Николай ожидал, что и сейчас к нему, хоть не надолго, хоть на одно мгновение, вернется прежнее детское ощущение праздничности, но его не было. Он равнодушно смотрел на языки пламени, изредка пробивавшиеся сквозь непрогоревшую ботву, на дым, тянущийся, словно какое-то чудовище, к речке, чтобы испить весенней ее живительной воды, – и ничего радостного, светлого в нем не пробуждалось. Наоборот, чем дольше он смотрел, тем горше и труднее ему становилось.
Николай отбросил далеко в сторону палку, которой время от времени по старой детской привычке шевелил костер, чтоб он не затух, и пошел во двор.
Там его уже ждали, сидя на лавочке под яблоней, Соня и Филот. Увидев Николая, Филот поднялся и трезво, спокойно заговорил:
– Корову хочу купить.
Николай посмотрел на Соню, словно спрашивал у нее, продавать или не продавать.
– Продай, Коля, – кажется, поняла она его взгляд.
– А может, вы заберете?
– Да зачем она мне?! Я и козу хочу продать. Тяжело.
– Хорошо, – решился Николай, – продам.
Филот, заметно волнуясь, снял фуражку, ударил ею по своей широкой прокуренной ладони и снова надел на самую макушку, так, что козырек воинственно задрался в гору.
– Сколько запросишь?
– Сколько дадите, – не стал торговаться Николай. Он даже приблизительно не знал, сколько могла стоить сейчас корова.
– Семьсот рублей, Филот Ильич, – пришла на помощь Николаю Соня. – Корова сам знаешь какая!
– Знаю, – пуще прежнего заволновался Филот. – Старая корова. Шестьсот пятьдесят и мой магарыч.
– Не надо магарыча, – едва сдержал улыбку Николай. – Забирайте.
Соня осуждающе покачала головой, но ничего не сказала, молча пошла вслед за Николаем и Филотом в сарай. Филот снял с жердочки повод, по-хозяйски оглядел его и накинул корове на рога.
– Потом занесу.
– Не надо, – отказался Николай. – Берите с поводом.
– Ну ладно, – повеселел Филот. – В хозяйстве пригодится.
Корова неожиданно заупрямилась. Вырывая у Филота из рук повод, она забилась в угол, угрожающе изогнув шею, замычала.
– Ишь ты, не хочет, – глазами стал искать какую-либо хворостинку Филот.
– Кому охота из дому, – почти заплакала Соня. – Ты поласковей с ней, поласковей. Она к мужчине непривычна.
– Счас я, счас, – Филот решительно подступился к корове, захлестнул ей часть повода за морду и прикрикнул: – Пошла, пошла!
Корова покорилась, побрела из сарая, почти касаясь Филотового плеча лбом, низкорослая, старая любимая материна корова.
Филот привязал ее за лавочку и, немного повозившись с булавкою, достал из нагрудного кармана темной железнодорожной гимнастерки деньги. Считал он их долго, путая рубли и трешки, наконец передал Николаю:
– Пользуйся.
Остальные рублей пятьдесят он ловко засунул за голенище и подмигнул Соне:
– Маше моей скажешь, что семьсот.
– Ох, Филот Ильич, – покачала головой Соня.
– Что Филот?! У меня свои расходы могут быть?..
– Оно конечно. Но ведь не сам живешь.
– Ну, заладила, – Филот отвязал корову и повел ее со двора. – Да не пропью я их, не пропью! Для дела.
– Дай-то бог, – вздохнула Соня.
Она проводила Филота до калитки, потом вернулась назад и стала научать Николая:
– Ты деньги эти на памятник потрать. Теперь все каменные ставят.
– Хорошо, – пообещал было Николай, но минуту спустя протянул деньги Соне. – Памятник я за свои поставлю. А эти пусть на поминки.
– Многовато, Коля.
– А вы сделайте все, как полагается, в девять дней, в шесть недель, в год.
– Сделаем, конечно. Отходную еще надо в церковь отнести, там тоже заплатить придется, хотя и немного. – Соня завернула деньги в платочек и повязала его на руке, чуть выше запястья.
Николаю стало легче от того, что он отдал ей эти неожиданные горестные деньги, которые, оставь при себе, не придумаешь, куда и зачем тратить.
Соня прикрыла платочек рукавом фуфайки и заговорила опять:
– Мать застрахована была, я знаю. Ты бы остался на день-другой, получил.
– Потом как-нибудь, потом, – поспешно ответил Николай. Ему вдруг захотелось все бросить и сейчас же уйти, уехать отсюда. Пусть все идет прахом, разрушается! Какое ему дело до этого дома, двора, до этого огорода, земли, раз не смогли они сберечь матери, забрали все ее силы и предали, оставшись жить, немые, бессловесные. А ее нет! И он, Николай, тоже предал, бросил мать одну, уехал и, случалось, месяцами, занятый работой, семьей, не вспоминал о ней. А она помнила всегда и даже о смерти своей, в которую не верила, которой не ждала, позаботилась – застраховала жизнь, чтоб было на что похоронить, чтоб Николай не тратился, не отрывал денег от семьи.
Соня, почувствовав недобрую минуту, заторопилась:
– Ты ключ под ступеньку положи.
– Положу, – пообещал Николай и, чтоб больше не обижать, не расстраивать Соню, спросил: – Окна забивать или пускай так?
– Лучше забей, а то вдруг ребятишки камнем расшибут. Я, конечно, присматривать буду, но все-таки…
– Сейчас забью, – глянул на дом, на окна Николай.
Соня постояла еще рядом с ним самую малость и начала прощаться:
– Ну, до свидания, Коля. И не серчай на нас, если что не так.
– За что же серчать?
– Да за все. Не уберегли мы ее. – Она заплакала и пошла к себе домой, не через калитку, а огородами по сырой, еще как следует не просохшей земле.
Расставшись с Соней, Николай вошел в дом, закрыл дверь на крючок и присел возле стены, где когда-то висели часы с кукушкой. Во время побелки мать часы никогда не снимала, чтоб не нарушить, не сбить ход, и за долгие годы на стене явственно обозначилось их место: белый квадратик с одной удлиненной и обрезанной по уголкам стороной. Смотреть на него было немного странно: часов нет, а кажется, они есть, невидимые, тикают, отсчитывают время. Так вот и мать, нет ее, умерла, а поверить в это трудно, раз на месте все принадлежавшие ей вещи: висит на вешалке темная искристая шуба, стоит на столе телевизор, ждут ее рук ухваты, лежит на каменке самодельный мешочек с семенами цветов – значит, мать где-то здесь, надо только подождать, пока она придет, явится в дом…
Но она не приходила, не являлась, сколько Николай ни сидел, ни ждал ее, облокотившись рукой о старенький расшатанный стол. Солнце, перевалившись через хату, уже глядело в маленькое дворовое окошко, играло на побеленной с крахмалом глянцевой стене. Луговой разгонистый ветер, соперничая с ним, иногда ударялся в стекло, словно просился в дом, чтобы остаться в нем, опустевшем и заброшенном, навсегда…
Николаю пора было собираться в дорогу. Он пошел в кладовку за инструментами, чтоб забить окна, и неожиданно задержался там минут на десять. В кладовке, как и раньше, пахло сушеными яблоками, грибами, вареньем. Мать всегда заготавливала его несколько банок, а то и ведер, не для себя, конечно, а для Николая, Валентины и Сашки. Оно и сейчас стояло на полках вдоль стены: клубничное, вишневое, смородиновое. Николай с детства почему-то больше всего любил вишневое, и мать всегда старалась запастись им вдоволь. Если не случалось ей приезжать к Николаю, то она умудрялась присылать ему варенье в посылках. Запеленает литровую банку в вату, в полиэтиленовый мешок, и, глядишь, оно благополучно доедет вместе со связкой грибов, с куском-другим домашнего сала, с тыквенными семечками, с сушеными яблоками, грушами и сливами. Вообще мать за свою жизнь отправила Николаю, наверное, несколько сот посылок. В районе на почте ее уже хорошо знали и обслуживали без очереди, знали наизусть и Николаев адрес, вначале армейский, потом институтский, а потом уже и нынешний, домашний. Зимой матери с посылками было легче. Поставит она ящик на саночки – и через час уже в городе. А вот летом приходилось тащить его, десятикилограммовый, на плечах. Сил и здоровья эти ящики отобрали у нее немало…
Кроме варенья Николай обнаружил в кладовке еще много всяких припасов. Мешок ржаной муки (берегла для поросенка, которого летом, конечно же, завела бы), почти полные закрома проса и кукурузы, бочонок засоленного нетронутого сала, множество банок и кувшинов с приправами и снадобьями. Надо было сказать Соне, чтоб забрала все это себе домой или раздала соседям, а то ведь пропадет, испортится. Но, может, она сама как-нибудь додумается.
В самом углу кладовки стоял старинный сундук, по рассказам, бабкино приданое. В последние годы, приезжая на каникулы и в отпуск, Николай в него не заглядывал, не было в том надобности. Теперь же он решил открыть этот старый, изъеденный шашелем сундук, в который когда-то в детстве не раз залезал, играя в прятки. В те годы в сундуке хранились рядна, бабкина саржевая юбка, оставшийся от отца шерстяной костюм, толстая кипа зеленых, редко выигрывавших облигаций и на самом верху патефон с пластинками. Осторожно отставив патефон, Николай всегда ложился на рядна и тихонько лежал в полной, но совсем не страшной темноте. Лежать было мягко и удобно, в сундуке чуть пахло табаком, которым был пересыпан от моли отцовский костюм, и еще какой-то целебной травой, хранимой в маленьком узелочке. Несколько раз Николай засыпал в сундуке, и его находили там уже не ребята, а встревоженная, обеспокоенная мать.
За годы, прошедшие с тех далеких дней, сундук совсем состарился: подгнили и развалились дубовые скрипучие колеса, на которых его удобно было перекатывать с места на место, облезла, вылиняла краска, куда-то исчезли украшавшие сундук чеканные медные уголки. Но все равно он был еще жив и в нем что-то еще хранилось, может быть, самое лучшее и самое необходимое…
Сняв с сундука две перевернутые вверх дном эмалированные миски, Николай открыл крышку. Сундук был почти пустым. Лишь на дне среди старых, не сношенных когда-то Николаем пиджаков и рубашек лежал небольшой, перевязанный веревочкой пакетик да вдоль стенки, прикрытые простынью, стояли какие-то коробки. Николай вначале взял в руки пакетик, развязал веревочку и с удивлением обнаружил, что это были письма. Он взял одно и при свете тускло горевшей в кладовке лампочки начал читать, но тут же свернул и положил назад. Судя по подписи, стоявшей в конце первого письма, писал их матери Иван Логвинов. Писал не очень часто, наверное, одно-два в год, потому что набралось их в пакете всего несколько десятков. Но раз мать берегла их, пряча от посторонних глаз на дне сундука, значит, были они ей желанны и дороги…
Николай перебрал письма одно за другим, надеясь найти конверт с Ивановым адресом. Но его не было. Мать конвертов почему-то не сохранила. Может, боялась, что в сундук заглянет кто-нибудь посторонний, кому не положено знать, от кого ей и зачем приходят письма.
Николай спрятал пакетик в карман, решив, что как-либо через Соню он узнает Иванов адрес и отправит их единственному теперь законному владельцу.
Потом Николай открыл старую простыню и удивился еще больше – под ней, повернутые стеклом друг к другу, стояли четыре иконы. Когда-то, еще в старом доме, они висели в красном углу. Николай-угодник, матерь божья с младенцем и еще две, названия которых Николай не знал. В новом же доме вместо них появилась вышивка – орел, широко раскинувший крылья. Бабка, помнится, долго обижалась на мать, но потом смирилась и, случалось, забывшись, торопливо крестилась на этого орла после обеда или ужина. Николай тогда думал, что мать иконы выбросила, а они, оказывается, до сих пор хранятся в сундуке, целые и невредимые. Он вытащил матерь божью, вытер рукавом пыль и невольно вздрогнул – так скорбно взглянула на него иконописная молчаливая женщина. Затянутая паутиной лампочка светила вполсилы, и при этом ее свете Николаю вдруг показалось, что эта женщина во многом похожа на его мать: такое же продолговатое, чуть потемневшее от времени лицо, такие же усталые большие глаза, так же печально изломлены губы, и лишь рука, которой женщина обнимает младенца, другая. У матери рука была не так изнежена, на ней всегда были видны следы крестьянской трудной работы. Николай перевел взгляд на младенца, стараясь различить, угадать его черты. Но ничего из этого не вышло. Время не пощадило младенца, оно затянуло его лицо темной непроницаемой пеленою.
Об этой иконе бабка рассказывала, что когда-то, еще в ее девичестве, она обновилась. Вдруг вспыхнула среди ночи и засияла, осветив весь дом обновленным серебром. Этой иконой в их роду очень дорожили. Бабка выходила с ней замуж, ею благословляли перед отправкой на первую мировую войну деда. В засушливые, голодные годы икону выносили на огород, и она будто бы помогала: вдруг начинался дождь, а вслед за ним, к осени, поспевал хороший урожай. Поверить всему этому было нельзя, но как иногда все-таки хочется поверить в то, что заведомо неправдиво, несбыточно…
Лишь мельком взглянув на остальные иконы, Николай забрал эту, обновленную, с чистым, словно только вчера вставленным окладом, и понес ее в дом. Немного повозившись с веревочками, он снял вышивку и, сам не зная зачем, повесил на ее место икону. В первые мгновения ему показалось, что в доме немного посветлело, но потом он понял, что свет этот обманчивый, что даже наоборот – какая-то тягостная тьма поселилась в комнате и теперь никому не вынести того укора, с которым смотрела с иконы так похожая на мать женщина.
Николай отвернулся от ее взгляда, намереваясь уйти, но неожиданно заметил на шифоньере ленточки, которыми были связаны у матери в гробу руки и ноги. Он достал их, узенькие темные ленточки, еще не успевшие расправиться, еще хранившие очертания материного тела, свернул в аккуратное колечко и положил за икону. Если увезти их домой, то они там со временем затеряются, для посторонних обычные, ничего не значащие, а Николаю хотелось, чтобы они сохранились. Вот и пусть лежат здесь, в материном доме, охраняемые скорбящей, исстрадавшейся женщиной…
На прощанье полагалось бы посидеть минуту-другую молча, но Николай не стал этого делать. Ему было теперь все равно, что случится с ним в дороге, не желал он себе добра, не хотел его, а большего горя уже ничто ему не сможет принести.
Доски, которые мать берегла для веранды, он отыскал на чердаке, вытащил их во двор и стал распиливать старой двуручной пилой. Он помнил эту пилу с самого детства, гибкую, умеющую петь, особенно в зимнем, морозном лесу, звонко и весело. Мать научила Николая пилить лет шести. Он до сих пор помнит, как ему было тяжело, как пила изгибалась, заваливаясь то в одну, то в другую сторону, как подхваченные ветром летели ему прямо в глаза мелкие, пахнущие смолою опилки. Но мать была терпелива. Придерживая одной рукой шатко лежащее на «козлах» бревно, она поучала его: «Ты не сжимай слишком ручку, не торопись и ровнее, Коля, ровней». А Николаю хотелось распилить это казавшееся ему слишком толстым бревно как можно скорее, и он изо всех сил тащил двумя руками пилу на себя. Но сил этих тогда было еще так мало…
Сейчас же он справился с досками за полчаса, хотя пила давно и не точилась. За зиму на ней появился ржавый светло-коричневый налет, и, наверное, от этого она не пела, как в прежние годы, а, казалось, стонала и плакала, с трудом врезаясь в сухое, чуть припорошенное чердачной пылью дерево.
Вначале Николай забил окна, выходившие на улицу. Забил торопливо, поспешно, пока не было на улице ни прохожих, ни проезжих. Не хотелось ему сейчас ни с кем разговаривать, не хотелось выслушивать чьи бы то ни было наставления и сочувствия. Дом сразу ослеп, стал умирать, в одну минуту какое-то опустошение, старость незримо навалились на него, и было похоже, что он вот-вот рухнет, не выдержав плотных, гулких ударов молотка.
Но он все же стоял, терпеливо принимая эти удары, чуть дребезжа стеклами, старый, не желающий умирать навсегда дом. Пока не было забито самое маленькое дворовое окошко, Николаю тоже мгновениями казалось, что жизнь здесь когда-либо еще возродится, что не все еще закончено. Но вот он забил последний гвоздь, и надежда эта угасла. Дом был мертвым, чужим и мертвым, словно закопанным глубоко в землю. Рядом у соседей, слева и справа, зажглись огни, и от этого темнота, медленно окружавшая дом, стала сразу по-осеннему непроглядной, пугающей.
Николай отнес в кладовку пилу, поставил ее в угол, где она всегда привычно стояла. Хотел было там же положить и молоток, но потом передумал и положил в карман. Почему-то стало жалко оставлять его здесь в бездействии, в безработице, показалось, что ему будет горько лежать в темноте кладовки, постоянно вспоминая свою последнюю, такую тяжелую и такую неблагодарную работу.
Мысль эта была, конечно, обманная, ничего уже не спасти в этом доме, ничем не соединить неожиданно и бесповоротно порвавшуюся связь времени минувшего и настоящего, жизнь матери и жизнь его, Николая…
Надо было уходить. Николай положил ключ под ступеньку, но вдруг вспомнил про кота, который со вчерашнего дня не появлялся ни в доме, ни во дворе. Он присел на крылечке и с полчаса сидел, ожидая кота, наблюдая, как вспыхивают на ночном небе звезды, маленькие и большие, как вслед за ними на земле зажигаются все новые и новые огни в соседских дальних и ближних домах, в клубе, в библиотеке, как они манят к себе теплом, уютом – жизнью. Кот, наверное, уже не вернется. Он сам определил свою судьбу, бросил этот пустынный, мертвый дом, без матери ставший чужим и ненужным… Теперь настала очередь бросать его и Николаю…
До районного центра можно было идти либо селом, горою, как говорилось у них, либо мокрым, покрытым еще кое-где талой пойменной водою лугом. Николай возле школы свернул на луг. Село жило своей обычной размеренной жизнью: после трудового дня отдыхало, готовилось ко сну, веселилось. Ему, Николаю, сегодня в этой жизни места не было. Он шагал по лугу в темноте и одиночестве, зачем-то сжимая в кармане холодный, уже отработавший свое молоток. Где-то возле клуба смеялась, веселилась молодежь, кто-то пробовал играть на гитаре, петь, девичий молодой голос вызывал на улицу подружек, окликая их всех по имени. Начинали цвести сады. Их легкий, еще не настоявшийся запах, гонимый ночным ветром, неожиданно настиг Николая на полдороге, остановил. Он повернулся лицом к селу, словно стараясь определить, где, у кого раньше всех зацвел сад, но в это время в лугах неожиданно закричал коростель, ночная любимая материна птица. Казалось, он зовет ее к себе, чтоб спросить, так ли хорошо ей лежать в темноте, так ли покойно и тихо, как мечталось, как думалось, или, может быть, ее что-то тревожит, беспокоит? Мгновениями, когда коростель умолкал, когда затихали его ночные рыдания, Николаю чудился какой-то странный звук, будто плотники возводят над невидимым домом сверкающие, светящиеся в темноте стропила…








