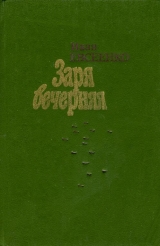
Текст книги "Заря вечерняя"
Автор книги: Иван Евсеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
Но все эти дела, все эти заботы нам не в тягость, мы привычны к ним с самых малых лет. Кроме нас помогать матери некому, и мы стараемся изо всех сил. День за днем; и вот уже ветреный, пыльный апрель проходит. На сельсовете, на школе и на клубе развешивают праздничные знамена – село готовится к Первомаю.
Готовимся к нему и мы с Тасей. Мать отпускает нас на Первое мая в Щорс посмотреть на демонстрацию и на гуляние, которое чаще всего бывает в лесу, за городом. Заранее, еще с зимы, собираем мы для этого похода деньги. Мать иногда дает нам мелочь на пряники или на ситро, которое хоть и редко, но все же завозят к нам в магазин, а мы ее не тратим, мы складываем ее в копилку – темно-красного глиняного кота с прорезью на шее. Этих котов продает на базаре единственный во всем городе китаец Шура.
Вскрываем мы копилку в канун Первого мая, делим наше сокровище пополам и с нетерпением ждем завтрашнего дня.
А он загорается необыкновенно солнечным и чистым. В воздухе пахнет начинающею цвести черемухой, первыми только что распустившимися листочками черной смородины и малины. Скворцы и ласточки носятся под самыми окнами, весело щебечут, словно у них тоже праздник, Первомай.
Мы на ногах едва ли не с шести часов – собираемся в дорогу. Я надеваю новый, специально купленный к Первомаю хлопчатобумажный костюм, голубую, чуть тесноватую кепку – восьмиклинку – и готов идти, хоть сейчас. А Тася собирается долго и основательно. Она несколько раз гладит угольным утюгом ленты, потом, наверное, целый час заплетает перед зеркалом свои длинные вьющиеся волосы, сердится, если банты получаются у нее не такими, как хочется. Много мучений у Таси обычно и с обувью: то ей жмут еще как следует не разношенные туфли, то никак не завязываются короткие шнурки, то вдруг окажется, что и доме нет нужного крема, а в нечищенных туфлях Тася в город ни за что не пойдет.
Но вот наконец готова и Тася. Мать выдает нам вдобавок к нашим накоплениям еще по пять рублей и, в последний раз наказав в городе не разлучаться, выводит на улицу. А там уже собрались все наши: Оля и Коля Павленко, Вани Смолячок, Галя Комиссаренко, Шура Крумкач. Возле клуба к нам присоединяются еще Петя Ушатый и Феня Ефименко, и мы идем через все село уже настоящей демонстрацией.
Ничто не может сравниться с этими походами, шумными, праздничными! Перебивая друг друга, мы загадываем, какой будет демонстрация, у кого будут лучшие транспаранты: у деповской колонны или у рабочих с мебельной фабрики «Тартак»; чем будут торговать в многочисленных ларьках, состоится ли вечером на выгоне за городом футбольная встреча с городнянскими летчиками? У девчонок есть еще и свои особые заботы. На Первое мая они обязательно фотографируются в районной фотографии у того самого однорукого фотографа, который часто приезжает к нам в село. Девчонки без устали обсуждают, как на этот раз лучше сфотографироваться – стоя или сидя, как держать руки, как улыбаться, как «не моргнуть» в самый последний момент, сколько заказать фотографий.
По дороге мы часто обгоняем взрослых ребят и девчонок, которые тоже идут на демонстрацию, иногда попарно, а иногда такими же веселыми сборищами, как наше. Хромовые сапоги у ребят начищены до солнечного блеска, брюки приспущены внизу над голенищами, пиджаки лихо накинуты на плечи. Девчата разнаряжены в праздничные выходные платья с высокими по городской моде плечиками. У каждой на запястье туго повязан носовой платочек, где хранятся деньги.
Мы все завидуем этим ребятам и девчонкам, их взрослости, самостоятельности и никак не дождемся, когда же наконец вырастем, когда нам дозволено будет завести хромовые сапоги и ходить с девчонками на демонстрацию, взявшись за руки.
А вот пожилых, семейных людей на дороге почти не видно. Конечно, они тоже не против бы сходить в город, посмотреть на гуляние, отдохнуть – но некогда. Время сейчас стоит в селе горячее – пахота. В колхозе на Первое мая пашут редко, а вот дома на огородах стараются не упустить момент. Тут уж не до гуляний. Заполучить лошадей в будний день трудновато: они ведь пашут на колхозных полях, а в праздник председателю даже выгодно, чтоб лошадей разбирали по домам. К началу пахоты корма в колхозе совсем уже на исходе, и часто приходится видеть, как лошади пристают прямо в борозде, худые, костистые, заморенные. Дома же для пахоты каждый хозяин приберегает пуда два сена, чтоб подкормить лошадей и для своей, и для колхозной работы.
Мы будем пахать огород завтра. Мать, чтоб не портить нам настроение, праздник, старается насчет пахоты на Первое мая никогда не договариваться. А без нас ей на огороде не обойтись. Вооружившись граблями, мы загребаем в борозду навоз, носим лошадям сено и воду, бегаем на посылках то к деду Игнату, то к деду Иваньке, когда бабка Марья начинает готовить для пахарей обед и у нее всегда чего-нибудь не хватает.
Чаще всего у нас пашет Макар Иванович, говорливый, неугомонный, любящий хорошо, основательно выпить. Макар Иванович доводится нам родственником. Вернувшись с войны, где служил вначале в кавалерии, а потом был артиллеристом, Макар Иванович женился на двоюродной материной сестре, тете Кате. В сорок седьмом году, в самое трудное несытое время у них родилась дочь Лида, и они еще больше породнились с нашей матерью – стали кумой и кумом.
Я помню, как праздновались крестины, как Макар Иванович сидел за столом в суконной, подпоясанной офицерским ремнем гимнастерке, с орденами и медалями на груди и как, привыкая к новым отношениям с матерью, кричал ей веселой, неуловимой скороговоркой:
– Кума, кума, веселенькое что-нибудь!
Мать стояла возле нашего, отцовского патефона, который специально принесла на праздник, и, стараясь угодить Макару Ивановичу, меняла пластинку за пластинкой, пока наконец не нашла то, что было ему особенно по душе, хотя и не «веселенькое».
Скакал казак через долину,
Через Маньчжурские поля,
Скакал он садиком зеленым,
Кольцо блестело на руке…
До самой своей, в общем-то ранней смерти где-то в начале семидесятых годов Макар Иванович был для нас незаменимым помощником, особенно по части сена и дров. Он часто забегал к нам рано поутру опохмелиться, выпить рюмку-другую, подымить самосадом на стульчике возле подполья. Подолгу беседовал Макар Иванович с бабкой Марьей о всяких житейских делах, а со мной о войне, рассказывал, как на Северном Кавказе, будучи старшиной, обрезал полы шинели молоденьким двадцать четвертого года рождения солдатам, которые не в силах были идти по размытой дождями дорого.
Я любил, когда к нам на пахоту приезжал Макар Иванович. Пройдя первые, самые трудные борозды, он подзывал меня к себе и отдавал в руки вожжи:
– Ну-ка, Иваня, попробуй!
Я брался за ручки плуга, которые достигали мне едва ли не до подбородка, и, прикрикнув на лошадей, с трепетом вступал босыми ногами в только что проторенную Макаром Ивановичем борозду. Плуг плясал в моих руках, то задираясь высоко вверх, то наоборот, зарываясь в землю так, что лошади начинали останавливаться. Борозда у меня получалась то очень широкой, такой, что пласт земли даже до конца не переворачивался лемехом, то очень узенькой, почти сходившейся на нет, словно краюха хлеба под остро отточенным ножом. Но Макар Иванович был терпелив в ученье. Кривоного, по-кавалерийски он шел рядом с лошадьми и, время от времени поправляя плуг, подбадривал меня:
– Ничего, ничего, пойдет помалу!
И вскоре действительно пошло. С каждым годом я вел борозду все уверенней и уверенней, уже сам закидывал на разворотах плуг, сам справлялся с лошадьми, если они заступали постромки, сам распахивал разору. А Макар Иванович в это время отдыхал в вишняке, покуривал свой любимый самосад.
Завтра, наверное, тоже к нам приедет Макар Иванович, и я опять пройду за плугом несколько гонов. Но пока мы, стараясь не опоздать на демонстрацию, быстрым, веселым шагом идем по селу мимо хат, мимо колодцев, мимо плетней и жердяных изгородей, за которыми то там, то здесь слышится фырканье лошадей, окрики пахарей, по-нашему – орачей.
За селом на гребле, по краям которой растут громадные в два обхвата вербы, нам становится еще вольней. Мы играем наперегонки, спускаемся к пойме, чтоб сорвать самые ранние водяные цветы – лютики. Они пахнут речкою, весною, их желто-горячие нежные лепестки быстро высыхают на солнце, но не увядают, а лишь, словно от обиды, чуть-чуть сворачиваются. Если вздумаешь к ним прикоснуться, то непременно вымажешь и пальцы, и нос, и щеки.
У кого-нибудь из ребят в кармане обязательно окажется перочинный ножик, и мы по очереди вырезаем им себе из молодых вербовых веток свистки. Они заливисто, по-соловьиному свистят от одного прикосновения губ. Мы соревнуемся, у кого свисток голосистей, звончей, свистим без устали, наперебой и явно мешаем девчонкам обсуждать свои серьезные дела.
А дорога бежит себе и бежит: неторопливо переваливается через мостик на гребле, потом сворачивает налево и мимо трех верб, где обычно в дуплах живут удоды, падает вниз под гору к Малощимельскому кладбищу. Место это самое опасное, тревожное, особенно когда идешь рано утром или поздно вечером. Темнота и прохлада пугающе окутывает сосновое кладбище, на котором похоронены наш прадед Логвин и незаконнорожденная прабабка Ксения. В ельнике, что начинается сразу от подножья горы, еще прохладней и таинственней, кажется, что там живут какие-нибудь сказочные чудовища: Баба Яга или Змей Горыныч. Собственно, ельник только называется ельником, а на самом деле это молодая ольховая роща – любимое соловьиное место. Ельник, который рос здесь до войны, срубили немцы, боясь партизан. Понизу ельник зарос непролазною крушиною, ежевикою и папоротником. В этих зарослях под косогором есть родничок, возле которого мы обязательно останавливаемся отдохнуть, попить из ковшика студеной весенней воды. Девчонки ополаскивают себе родниковой водой лица, и они становятся от этого еще румяней и еще белей. А может, нам так только кажется. О Малощимельском родничке рассказывают много всяких легенд и преданий. Например, о том, что именно возле него в ночь на Ивана Купала зацветает единственный цветок папоротника. Волей-неволей мы оглядываемся вокруг на еще только начинающие пробиваться из земли стебельки папоротника и загадываем, на каком из них может появиться цветок…
А до города между тем уже рукою подать. Уже слышно, как деповский оркестр играет нашу любимую первомайскую песню:
Май течет рекой нарядной
По широкой мостовой…
Мы расстаемся с родничком и, выстроившись друг за дружкой на тропинке, которая теперь бежит по самому краю обрыва, идем дальше.
Город начинается сразу за небольшим деревянным мосточком через безымянный ручеек. Мы прихорашиваемся, вытряхиваем из ботинок и туфель песок, прячем в карман свистки. Все-таки город, и по-деревенски озорничать в нем, свистеть в разные свистульки, наверное, не положено. Правда, здесь, на окраине, город мало чем отличается от нашего села: такие же рубленные из бревен, крытые по большей части соломою хаты, такие же дворы и палисадники, такие же за дворами и сараями огороды. Это туда, поближе к центру, к железнодорожной станции дома пойдут совсем иные: громадные, похожие на нашу школу, все сплошь ошелеванные, с резными многочисленными окнами и крылечками, с железными, тоже резными трубами. Кто жил в этих домах раньше, мы не знаем, но сейчас в них живут железнодорожники, машинисты паровозов, люди особенно уважаемые у нас в городе… Многие дома возле железнодорожной линии во время бомбежек пострадали, обгорели, но сейчас они почти полностью восстановлены, пахнут свежим тесом и краскою. Над каждым полощется на ветру знамя.
Чтобы попасть в город, на площадь, нам надо перейти через железнодорожные линии по мосту, который тоже только недавно отстроен заново. Дело это нелегкое. И не потому, что мы боимся подниматься так высоко или что нас может вдруг окутать дымом и паром из проходящего внизу паровоза. На мосту всегда полно нищих. Пред ними-то мы и робеем, их-то мы и боимся… Сегодня нищих на мосту будет, конечно, особенно много – все-таки праздник.
Мы подходим к мосту притихшие, заранее готовим медяки, чтобы опустить их в алюминиевые кружки, в протянутые руки, в брошенные прямо на землю фуражки.
На первой ступеньке стоит совсем еще не старый слепой мужчина с гармошкою в руках. Все лицо у него покрыто шрамами: и подбородок, и виски, и даже губы. Одет он в старенький заношенный пиджак, из-под которого виднеется тельняшка. Как и все слепые, подняв высоко к солнцу голову, мужчина играет на гармошке и поет одну из тех песен, которые есть в наших самодельных песенниках. Правда, она чуть-чуть иная, не про танкистов, а про моряков:
Над лесом пушки грохотали,
Матросы шли в последний бой,
А молодого краснофлотца
Несут с разбитой головой…
Совсем по-иному, не так, как мы, он и поет ее. У нас песня получается боевой, задорной, нам по душе бесстрашие молодого командира, – а у слепого песня печальная, грустная.
Молча и чуть торопливо мы бросаем ему в кружку свои медяки. Слепой обрывает песню на полуслове, говорит нам «спасибо» и тут же подхватывает ее снова. Песня слышна далеким-далеко, наверное, даже на другой стороне моста, где уже во всю мощь играет праздничный первомайский оркестр.
Мы начинаем подниматься по ступенькам вверх, рвемся скорее на площадь, к флагам и транспарантам, но наши ноги то и дело замедляются возле протянутых рук и кружек, возле молитвенного шепота, возле оборванных поводырей, таких же, как и мы, мальчишек и девчонок – детей войны.
Особенно трудно нам пройти мимо безногого солдата, который сидит на земле по другую сторону моста уже при выходе на площадь. Ног у него почти нет до колен, и мы часто видим, как он, опираясь на костыли, тяжело идет через площадь на деревянных самодельных протезах. Но сейчас протезы лежат под забором, прикрытые газеткой, а солдат греет на ярком первомайском солнышке обрубки худых, словно омертвелых ног. Видимо, не только нам, детям, но и взрослым трудно смотреть на эти его ноги, потому что все торопливо проходят мимо солдата, кто бросая, а кто и нет, копейки в лежащую перед ним пилотку.
Мы бросаем и, радуясь, что мост наконец-то преодолен, бежим в самую гущу праздничной многоликой толпы.
Демонстрация уже начинается. Из-за поворота на площадь выходит первая деповская колонна. Впереди знаменосцы несут красное бархатное знамя с вышитыми на нем профилями вождей: Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Потом идут начальник депо и однорукий парторг в железнодорожной форме со следами совсем еще недавно споротых погон, а вслед за ними важно и торжественно шествует деповский оркестр, оглашая всю округу праздничной весенней музыкой. Многие трубы у оркестрантов изогнуты, запаяны, должно быть, они тоже не раз побывали и под обстрелом, и под бомбежкой. Но зато как они начищены кирпичным порошком и мелом, как они ослепительно горят на солнце! В последней шеренге оркестра с барабаном за плечами идет принаряженный дурачок Мотя. В обычные дни он разносит афиши в железнодорожном клубе, а вот в такие, праздничные, обязательно просится понести барабан. Оркестранты ему не отказывают. Барабанщику так даже удобнее, налегке он идет сзади Моти и, отбивая такт, время от время ударяет колотушкой в старенький, видавший виды барабан. Мотя при каждом ударе вздрагивает, втягивает голову в плечи, но потом распрямляется и широко растягивает в улыбке свои по-еврейски пухлые губы.
Вслед за деповской колонной на площадь выходят колонны «Тартака», райпотребсоюза, МТС, потом показываются длинные и шумливые колонны школьников. Впереди по праву идет железнодорожная школа, за ней школа номер один имени Ленина и в самом конце семилетняя школа номер два. Нам тоже хотелось бы стать в эти колонны и подойти вместе с ними поближе к трибуне возле памятника Ленину, с которой уже всем приветственно машет рукой первый секретарь райкома Иван Егорович Пондыхнев. Но нам боязно, мы все-таки чужие, деревенские, и идти в колонне с городскими школьниками, наверное, не имеем никакого права.
Мы занимаем место на кирпичном тротуаре, возле самой кромки разбитой в войну и еще не до конца восстановленной булыжной мостовой, и начинаем обсуждать, чья колонна лучше: железнодорожной школы или школы номер один? Мы всегда «болеем» за школу номер один, потому что в ней учатся в восьмых-десятых классах многие ребята из окрестных деревень.
Оркестр неожиданно замолкает, и Иван Егорович Пондыхнев начинает держать речь. Он рассказывает о том, что восстановлено после войны в районе, а что еще осталось недоделанным, как справляются с заданиями по ремонту паровозов депо, какие выращены урожаи в колхозах. Иван Егорович говорит без микрофона (они тогда еще были редкостью), и не все его слова долетают до нас, но мы все равно внимательно и напряженно его слушаем. С детства мы приучены относиться к начальству с уважением.
После Ивана Егоровича выступают еще военком, секретарь райкома комсомола и обязательно кто-нибудь из школьников, чаще всего ученица железнодорожной школы.
А в самом конце демонстрации оркестр играет «Интернационал». На площади все застывают, а мы вскидываем ладони над головой в пионерском приветствии и неотрывно следим за голубями, которые реют над площадью, над старым, чудом сохранившимся в войну сквером. Голубей приносят в клетках городские мальчишки и выпускают высоко в небо в самый решительный и самый торжественный момент демонстрации.
Потом начинается гуляние. Открываются многочисленные ларьки и киоски, где торгуют ситром, конфетами и сказочным для нас мороженым. Нам хочется попробовать и того, и другого, и третьего. Мы терпеливо выстаиваем длиннющие очереди, с замиранием следим, как продавщица открывает штопором неподдающиеся резиновые пробки, как взвешивает в бумажных стаканчиках мороженое, как ловко заворачивает в кульки разноцветные конфеты-подушечки. Понять нас можно: подобные праздники и подобные лакомства бывают в нашей жизни не так уж часто.
Несмотря на запрет матери, мы с Тасей все-таки расстаемся. Она вместе с девчонками идет в фотографию, где тоже очередь, и немалая, а я, потолкавшись еще немного на площади и в сквере, отправляюсь с ребятами за город, чтоб не опоздать к началу футбольного матча.
Противники нашей деповской команды «Локомотив» – городнянские летчики – уже здесь. Они разминаются на футбольном поле. Собственно, назвать его футбольным полем нельзя. Это обыкновенный выгон, где в будние дни пасутся городские козы, но сегодня на нем сооружены ворота из вырубленных в болотистом ольшанике жердей. По краям поле обкопано небольшой канавкой. Такой же канавкой отмечены и вратарские площадки.
Наши тоже начинают потихоньку собираться. Первым, как всегда, приходит Бурштын. Мало того, что он главный организатор всей этой встречи, главный тренер нашей команды, так еще и главный судья на поле. Вообще Михаил Александрович Бурштын – фигура в нашем районном городке интересная и очень приметная. Вернувшись с фронта тяжело раненным в голову, он чем только не занимался: служил в райисполкоме, в райпотребсоюзе, во многочисленных мелких организациях, которых всегда вдосталь в районных центрах, занимал разные должности в депо, числился даже, кажется, литсотрудником в районной газете «Щорская правда». Но главной его страстью был футбол. И не просто футбол, а именно футбольное судейство. Надо было видеть, как он выходит на поле, непомерно худой и непомерно высокий, как свистит в обыкновенный милицейский свисток, если случается какое-либо нарушение во время игры, как недовольно топорщатся его рыжие густые усы, когда наша команда проигрывает. А как он подбрасывает вверх монету, разыгрывая ворота, как торжественно и важно здоровается с капитанами, как неотступно требует, чтоб команды приветствовали друг друга возгласами «Физкульт-привет!» и «Физкульт-ура!». Судейской формы в те годы у Бурштына еще не было, и он бегал по полю в офицерских галифе и клетчатой рубашке с закатанными рукавами. Но это нисколько не мешало ему судить по-милицейски строго и жестко. Его свисток то и дело раздавался на поле; он, ни на секунду не задумываясь, назначал штрафные и угловые удары, одним лишь движением высоко поднятой и загнутой кверху руки успокаивал не в меру разгорячившихся в споре игроков, терпеливо ожидал, поглядывая на карманные, выдаваемые железнодорожникам часы «Молнию», если мяч залетал слишком далеко в топкое, заросшее ольшаником болото. И вместе с тем Бурштын умудрялся хитро и необидно для противника подсуживать нашей команде. Об этом все знали, но уличить его в подсуживании было очень трудно. Обе команды: и победившая, и проигравшая уходили с поля одинаково довольные судьей. Вообще же командам только казалось, что они играют друг с другом, а на самом деле это Бурштын игрался с ними, по своему усмотрению определяя, кому сегодня надлежит выиграть, а кому – проиграть.
Вслед за Бурштыном приходил вратарь нашей команды Александр Лопицкий, по-футбольному – Лопика, в свитере, в кепке, надетой задом наперед, в кожаных, наверное, еще довоенных перчатках. Потом словно из-под земли появлялся в офицерском галифе и солдатских ботинках любимец команды Зиновий Холодняк, или попросту Зяма. Играл он левым полузащитником. Городские мальчишки, которые хорошо были знакомы с Зиновием, немного хвастая этим знакомством, начинали нам рассказывать всю его биографию. Но мы и без того давно уже знали, что Зяма двадцать третьего года рождения, что он воевал командиром минометного взвода на Первом Украинском фронте, что контужен и ранен в голову, что награжден многими медалями и орденом Красной Звезды. Работал он в то время председателем райкома физкультуры и, конечно же, не мог знать, что через многие годы фронтовые ранения напомнят о себе и ему, неутомимому футболисту, врачи вынуждены будут ампутировать ногу.
Спустя несколько минут степенно и важно подходили Алексей Мудрицкий и Михаил Подлесный. Важничать им было от чего. Оба они в то время работали машинистами паровозов.
К тому же Михаил Подлесный был капитаном команды, а про Мудрицкого среди нас, мальчишек, ходила легенда, что ему, как и знаменитому Боброву, не разрешается бить правой ногой, потому что «с правой» у него удар получается смертельным. В подтверждение этой легенды Мудрицкий во время одного матча так высоко и так сильно ударил мяч, что он лопнул и упал на землю сплющенным, похожим на пустую тарелку подсолнуха. Бурштын тут же остановил встречу и, пока игроки обеих команд заклеивали возле ворот камеру, долго и строго выговаривал Мудрицкому за такой нерасчетливый и, главное, бесполезный удар.
Пока Алексей и Михаил переобувались в солдатские ботинки, на поле не выбегал, а выкатывался правый крайний нападающий Карандаш. Так за маленький рост прозвали военрука железнодорожной школы, бывшего старшего лейтенанта Андрея Науменко. Под одобрительный гул болельщиков он начинал выделывать с мячом такие фокусы, что у нас просто дух захватывало.
Вскоре появлялись и остальные игроки нашей команды: мастер из электростанции Александр Куклин, бригадир слесарей из депо Давид Белозовский, шофер из автоколонны Михаил Тимоновский и несколько ребят помоложе, которые часто менялись и которых мы знали меньше.
Сегодня все было примерно так же, с той лишь разницей, что в такой праздничный, первомайский день и футболистам и болельщикам особенно хотелось победы для нашей команды. Все с тревогой посматривали на Бурштына – что он там нынче замыслил. А тот, зажав под мышкой только что накачанный велосипедным насосом и туго зашнурованный мяч, уже выбегает на поле. Команды дружно кричат «Физкульт-привет!» и «Физкульт-ура!», и игра начинается. Летчики все в футболках с крупно написанными на спине номерами, наши же кто в чем придется: в майках, в теннисках, в матросских тельняшках; кто в бутсах, а кто в солдатских ботинках или брезентовых голубых тапочках, которые у нас в то время называли «балетками». Но это не беда – «наши» и так хорошо видят друг друга, пасы отдают точно, не мешкая, как теперь принято говорить – в одно касание.
Болельщиков у нашей команды всегда вдосталь. Несмотря на трудности с транспортом и со временем, многие ухитряются сопровождать команду на всех выездах. Но есть среди них один особый болельщик. Это художник из железнодорожного клуба Михаил Маликов. Мы все его очень хорошо знаем, да и как не знать, когда он во время каждой игры сидит на самом видном месте и, волнуясь, сворачивает и без конца мусолит в пальцах одну и ту же цигарку. После игры под лавкой мы обнаруживаем глубоченную ямку, которую Маликов незаметно для себя вырывает носком сапога. Во время войны у него погибла вся семья, сам он вернулся с фронта тяжелораненым, без глаза, и теперь у него кроме футбольной команды да еще Моти, который разносит афиши, никого нет.
Куда бы ни отправлялась команда, Маликов всегда был с ней, всегда крутил свою знаменитую цигарку, всегда рыл под лавкой сапогом яму. А какие он писал афиши об играх нашего «Локомотива»! Мотя развешивал их всегда на самых видных местах: на площади возле железнодорожной столовой, возле райкома партии, на специальном стенде возле железнодорожного клуба и, конечно же, возле базара. На футбольные афиши Маликов не жалел ни дефицитных по тем временам красок, ни полуватманских листов бумаги. Глянув на стремительно написанные без всяких предварительных расчетов и линеек буквы, на грозный восклицательный знак, хочешь не хочешь, а на матч пойдешь. Казалось, что уже в одних этих призывных буквах, в одном этом восклицательном знаке заложена будущая победа нашей команды.
Умер Маликов в конце шестидесятых годов. Над его одинокою солдатскою могилою отыграл деповский оркестр, а бывшие футболисты, к тому времени тоже уже изрядно постаревшие, сложились по двадцатке, поставили памятник.
Но все это случится еще почти через двадцать лет, а пока Маликов крутит свою цигарку, неотрывно следит за игрой, что-то кричит футболистам.
В перерыве он первый заводит разговор о новом стадионе, который методом народной стройки уже сооружается в другом конце города возле леса. Это будет один из первых, построенных после войны на Украине районных стадионов. Летом следующего года мы всей деревенской компанией прибежим на его открытие. Это будет из праздников праздник. Стадион откроет небольшой, но всем запомнившейся речью Иван Егорович Пондыхнев, который был одним из главных организаторов стройки. Потом будет концерт. На специально выстроенном посреди футбольного поля помосте выступят приехавшие из Киева Белла Руденко, Николай Гнатюк, Константин Огневой. А вечером состоится футбольный матч между деповским «Локомотивом» и киевским «Динамо». Наши выйдут на поле в новенькой форме, которую где-то раздобудет секретарь райкома комсомола, Герой Советского Союза Саша Плющ. Конечно, на победу никто не рассчитывал, даже Маликов и Бурштын. Слишком уж неравными были силы. Так оно и случилось – наши проиграли со счетом 8:1. Но все равно все были очень довольны: все-таки один гол в ворота знаменитого киевского «Динамо» наши ребята забили!
А вот кто выиграл в матче на Первое мая, я теперь уже не помню. Да это, наверное, и не важно. Главное, запомнилась сама игра, запомнился Маликов, Бурштын, запомнились многочисленные болельщики. Постепенно из города сюда, на выгон, стянулись все гуляющие. Шли поодиночке, парами, шли шумными, подвыпившими компаниями под гармошку или трофейный аккордеон. К нашей радости, появились буфеты с мороженым и ситром, и мы тут же растратили все остатки своих денег. Отыграв в городском сквере, приехал на попутной подводе оркестр, и, когда в конце игры Бурштын решительно поднял вверх обе руки, победно и торжественно грянул туш.
После футбола гуляние только начинало разгораться. Все направились к речке, еще по-весеннему холодной, как следует не вошедшей в берега. Парни, отвязав только что просмоленные лодки, пригласили девчат и отправились кататься на середину реки под железнодорожный мост, по которому время от времени проходили поезда: то легкие – пассажирские, то длинные – грузовые – с двойной тягой. Старые железнодорожники, оставшиеся на берегу, с особым вниманием и пристрастием смотрели на эти поезда, определяя даже на слух, что ладно в паровозах, а что требует ремонта и поправки.
Каждый год на Первое мая среди молодых невоевавших ребят обязательно находились смельчаки, которые пробовали купаться в студеной, едва-едва прогретой речке. Глядя на них, старые железнодорожники осуждающе качали головами, а девчата одобрительно визжали и похохатывали.
Конечно, нам хотелось посмотреть на все это: на костры, которые поздно вечером зажгут на берегу речки веселые праздничные компании, на поезда, неостановимо проносящиеся в ночи по мосту, на город, освещенный все еще сказочным для нас электричеством. Но пора было возвращаться домой…
Девчонки нас ожидали за городом на песчаной, заросшей красноталом горе. Мы тоже туда забирались и, прощаясь с городом, с праздником, в последний раз смотрели на опустевшее футбольное поле, на городскую водокачку, на трехэтажное, самое высокое в городе здание железнодорожной школы; в последний раз слушали, как играет на выгоне оркестр, как, приближаясь к станции, протяжно и гулко гудит паровоз, как перекликаются на лодках ребята и девчонки чуть-чуть постарше нас.
Сейчас той горы нет. Лет десять тому назад, когда начали строить в районе первые асфальтированные дороги и понадобилось много песку, ее разрыли экскаваторами до основания. Конечно, тому, кто не взбирался на нее, возвращаясь из города, кто не отдыхал на самой ее вершине под кустом краснотала, кто не слушал долетающие из ельника соловьиные трели, все равно, есть она или нет. А нам ее жалко…
Всего неделя отделяет Первомайские праздники от дня Победы. За это время мы успеваем дома вспахать огород, посадить картошку, посеять во дворе на клумбах цветы.
Флаги на сельсовете и на школе в ожидании Девятого мая никто не снимает. Они победно и торжественно реют над селом, словно приветствуя весну, пахоту, возвращение из дальних странствий птиц, первый выгон на луга стада.
В школе накануне дня Победы мы готовим венки, чтоб отнести их на братскую могилу погибших у нас в селе солдат. Ребята ломают в лесу для венков лапник, собирают по низинам бледно-зеленую длинную траву, которую у нас зовут дерезой, а девчонки делают из разноцветной бумаги и стружек цветы.
Девятого мая в перерыве между сменами мы всей школой несем венки к братской могиле.
Братской она стала называться всего два года тому назад, а до этого все семь солдат, погибших возле нашего села в конце августа сорок первого года, были захоронены кто где: двое около церкви на цвинторе, двое в Малом Щимле, один на хуторе в лесу и два лейтенанта на кладбище. Мать нам часто рассказывала, как солдаты погибли. Одного застрелил из-за речки немецкий снайпер, когда наши отступавшие части остановились передохнуть неподалеку от клуба. Другой, тяжелораненый, умер в школе. Третий, которого похоронили в лесу наши односельчане Мирон Головач и Мина Литвиненко, лежал, вывалившись из кабины гусеничного трактора. Наверное, он был водителем. А двух лейтенантов, выходивших из окружения, немцы застрелили почти в самом центре села. Лейтенанты, узнав, что немцев пока в селе нет, попросили у крестьян поесть и довольно беспечно расположились возле одной из хат. Но тут неожиданно нагрянула на велосипедах немецкая разведка. Лейтенантов арестовали и повели расстреливать на огороды. Один из них, перепрыгнув через изгородь, попробовал скрыться в кукурузе, но добежать туда не успел – немцы убили его из автоматов. Второго лейтенанта они расстреляли прямо на улице. Крестьяне прикрыли убитых рядном, не зная, как теперь при новых властях поступать: то ли хоронить самим, то ли ждать каких особых распоряжений. Наша будущая учительница истории Феня Константиновна, тогда совсем еще молодая восемнадцатилетняя девчонка, вынула из карманов погибших документы и хотела забрать их. Но взрослые, боясь, что немцы за это могут ее расстрелять, не дали этого сделать. Она лишь запомнила, что один лейтенант по фамилии Мещеряков родом из Саратова, а другой из Смоленска, но вот как его фамилия, она разобрать не успела: то ли Стрельцов, то ли Столетов?








