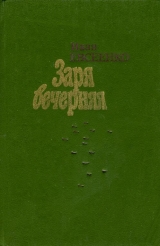
Текст книги "Заря вечерняя"
Автор книги: Иван Евсеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
Мать тоже отнесет одну простыню, и она потом долго будет храниться у нас, разукрашенная веселыми голубыми полумесяцами.
По воскресеньям и церковным праздникам в летнюю пору приезжает к нам из Щорса на трофейном велосипеде однорукий фотограф. Для нас, ребятишек, это настоящее событие. Нам интересно не столько сфотографироваться, сколько понаблюдать за колдовством фотографа, как он устанавливает треногу, как таинственно прячется под черной накидкой, как щелкает заслонками кассет и как, наконец, попросив не шевелиться и не моргать, на мгновение открывает крышечку объектива.
В те послевоенные годы редко кто фотографировался в одиночку. Все больше семьями или большими группами товарищей по фронту, по тяжким временам подневольной жизни в Германии. Видно, истосковавшись за войну в разлуке, люди хотели остаться на фотографиях все вместе, в единстве, в родстве. Однажды на Петров день к нам в гости приехала бабка Дуня, и мы тоже сфотографировались всем семейством. Сейчас, разглядывая эту фотографию, я вижу на ней часть нашего старого дома, березку, посаженную отцом в день Тасиного рожденья, и еще даже не поднявшуюся над забором, двух принаряженных бабок, нас с Тасей, настороженных, по-детски важных, и мать, как-то одиноко и грустно стоящую позади всех. Как не хватает на этой фотографии отца или хотя бы деда! Семья наша без них какая-то неполная, разрушенная, но что поделаешь – такие фотографии есть почти в каждом доме…
Потихоньку, мечтая о лете, о длинных трехмесячных каникулах, я заканчиваю колоть дрова. Две большие охапки по-хозяйски заношу в дом и кладу возле порога, чтоб бабка закинула их перед сном в печь, где они к утру как следует просохнут, – а остальные складываю в сарае.
Теперь можно браться за уроки. Первым делом, конечно, арифметика, потом русский язык, потом чтение. Задачку мне помогает решить Тася, с упражнениями кое-как справляюсь сам, а чтение оставляю на вечер. Как раз время юркнуть из дома и покататься на санках или на самодельных осиновых лыжах, которые для нас с Тасей смастерил веселый, всегда подвыпивший плотник по кличке Хала-бала. Но опять незадача: бабка просит принести воды. Хватаю ведра и бегу к Елисеевому колодцу. Его так зовут потому, что он стоит возле дома деда Елисея. А еще на нашей улице есть Хомин колодец, который стоит возле дома деда Хомы. Через несколько лет, когда дед Хома умрет, его незаметно станут называть Кузьминым, по имени Хоминого сына Кузьмы.
Осторожно, стараясь не поскользнуться, я набираю ведро воды и вдруг вижу, как из-за поворота выезжает подвода, груженная кинопередвижкой. Вот это да – кино! Расплескивая воду, почти бегом тороплюсь домой, сообщаю радостную весть Тасе. Вдвоем мы выскакиваем на улицу, чтоб посмотреть на передвижку. Старый медлительный вол, тяжело налегая на ярмо, степенно и важно приближается к нам. Дорога у него из соседнего села Новых Млинов не близкая, да и поклажа не из легких – движок, кинопроектор, коробки с лентами, два большущих динамика, экран, канистра с бензином. В самом передке саней на охапке сена сидит возница, веселый новомлинский старичок. Радость его и веселье мы понимаем. Отвезти передвижку считается работой выгодной. Во-первых, в колхозе за это запишут два трудодня, а во-вторых, по дороге назад можно в лесу тайком нарубить дров.
Вслед за санями, о чем-то переговариваясь, идут киномеханик Федя и моторист Иван.
– Какое кино? – набравшись смелости, спрашиваем мы.
– «Небесный тихоход», – отвечает Иван, наш всеобщий любимец.
– Детский сеанс будет?
– Будет, – рассеивает Иван наши опасения. – Готовьтесь!
Мы готовы, мы согласны бежать в клуб хоть сейчас, занять там место на холодной длинной лавке и сидеть, коченея, до вечера. Кино у нас пока что редкость. В лучшем случае передвижка приезжает раз в месяц. К тому же детский сеанс бывает не всегда. А на взрослый нас ни за что не пустят. В школе это считается очень большим проступком. Правда, кое-кто из ребят все-таки умудряется проскользнуть мимо киномеханика и спрятаться за громадной, обитой железом печкой. Но если его там обнаружит кто-либо из учителей или (что совсем уж худо) новый директор школы Сергей Гаврилович, то ему несдобровать. Мы же с Тасей на такие проступки не способны. И не потому, что боимся, а потому, что не смеем огорчать мать. Мы ходим только на детский сеанс.
В ожидании вечера мы вытаскиваем из сарая санки и идем к речке на горку. Там уже полным-полно ребят с нашей улицы. Кто катается на санках, кто на лыжах, собственноручно сделанных из старых бочоночных клепок, а кто и просто так на подошвах. Настоящих фабричных лыж ни у кого нет. Толя Коропец, правда, иногда приезжает к речке на широких охотничьих лыжах, которые дает ему на время дед Полевик. Они тоже самодельные, кленовые, но с желобком по всей длине и с кожаными, продетыми в отверстия креплениями. Их почти не отличишь от фабричных. Конечно, каждому из нас хотелось бы иметь такие лыжи. Но где их возьмешь? Хала-бала подобные лыжи не сделает. Вот Серпик, тот, наверное, смог бы, но разве он станет заниматься такими мелочами…
С завистью понаблюдав, как скатывается с самого крутого места Толя Коропец, мы усаживаемся на санки. Они у нас с железными полозьями, легенькие, скользкие. Если хорошо разогнаться, то на них можно доехать почти до самой середины речки. Эти санки еще до войны привез откуда-то из города дед Сашок, словно он заранее знал, что в войну обязательно родимся мы с Тасей, такие большие охотники до всяких катаний.
Своими санками мы очень дорожим, но не жадничаем. Даем покататься на них и другим ребятам. А сами на это время пересаживаемся на чьи-нибудь деревянные, с билами, с жестким, плетенным из лозы днищем. На таких санках ни за что не перевернешься, даже если скатываешься не на речку, а по крутому отвесу в копанку, которая образовалась у нас в войну от упавшей бомбы.
Веселья и смеху у нас хоть отбавляй. Женщины, которые невдалеке стирают в прорубях белье, время от времени отрываются от работы и с завистью смотрят на нас, наверное, вспоминая свое детство, как они тоже были маленькими и как любили кататься на этой же самой горке. Завидуют нам и мужчины, возвращаясь из-за речки с обозом сена. Они тоже, конечно, не прочь бы скатиться на санках или на лыжах, но оставить без присмотра лошадей и волов никак нельзя. Нет, плохо все-таки быть взрослым.
А день между тем незаметно клонится к вечеру. Пора и домой, а то мать вдруг рассердится на нас и не пустит в кино.
Кое-как отряхнувшись от снега, мы с Тасей выбираемся на дорогу. Вслед за нами тянутся домой и остальные ребята – в кино охота всем. Получается настоящий обоз. Впереди Шура Крумкач, потом Ваня Смолячок, потом мы с Тасей, потом Коля и Оля Павленко, потом Маруся и Галя Комиссаренко, потом…
Совсем еще недавно ездил с нами кататься на горку Марусин брат Володя. Но в прошлом году он умер, и мы его похоронили на сосновом, занесенном снегом кладбище. Перед смертью Володя долго болел, кашлял и нигде не показывался. Изредка мы видели его в маленьком перекосившемся окошке их старого, самого худшего на нашей улице дома. Со всех сторон этот дом был взят в «лисицы», внутри подперт несколькими столбами, но ничто его уже не держало – он разрушался прямо на глазах. Солома на крыше у него разъехалась, поросла мхом, углы и подоконники прогнили, стекла на окнах во многих местах потрескались и были заделаны самодельной замазкой. Строился он давным-давно, может быть, даже раньше нашего дома, и, судя по всему, строился в больших недостатках, потому что над крышей у него вместо обыкновенной кирпичной трубы торчал деревянный почерневший дымарь. А это в наших местах считалось верхом бедности…
Конечно, если бы у Володи с Марусей не погиб на фронте отец, он, наверное, собрался бы с силами и построил новый дом. А у их матери, тети Вали, сил этих нет. Вот и жили они в старом, совсем развалившемся доме, вот и умирал в нем от туберкулеза наш школьный, самый тихий товарищ Володя Комиссаренко.
Сейчас, когда со дня его смерти прошел не один десяток лет, я с грустью обнаруживаю, что в моей памяти не сохранилось ни его лица, ни голоса, ни его жестов. Помню только, что Володя носил старенькую шапку с всегда опущенными ушами и что был он левшой…
Матери дома еще нет, и это начинает нас тревожить. Вдруг она не придет к началу детского сеанса. Тогда нам придется бежать в школу, вызывать ее с урока и просить денег на кино. А делаем это мы в самых редких случаях – мать не любит, когда ее отвлекают от занятий.
Часто поглядывая на часы, мы терпеливо ждем. Тася берется за книжку, а я, вооружившись ножом, иду на кухню помогать бабке Марье чистить картошку для крахмала. Чутким ухом я улавливаю каждый шорох, каждое движение за окном. Вот звякнула щеколда на калитке, и кто-то медленно, тяжело бредет к нашему дому. Это, конечно, не мать – она так не ходит. Бабка Марья тоже настораживается в ожидании гостя. По вечерам к нам часто заглядывают соседи: дед Иванька с грузною, тяжелою на подъем бабкою Евдохою, говорливая, не старая еще вдова Федосья, дед Игнат, жена деда Елисея бабка Прося. Разговоры у них всегда одни и те же – о войне. У каждого кто-нибудь погиб на фронте. У деда Игната четыре сына: Андрей, Василий, Алексей и Дмитрий; у Иваньки с Евдохой – сын Иван; у Федосьи – муж Василий. Но хуже всех бабке Просе. Старший ее сын, Николай, вернулся с фронта весь израненный и стал у нас председателем сельсовета. Но председательствовал он недолго. Рано утром его убили выстрелом в окно за то, что он пытался отправить на восстановление Донбасса кое-кого из бывших полицейских. Младший же сын бабки Проси Андрей сам служил в полиции и сейчас сидит в тюрьме. Семья у них раскололась надвое. Надвое раскололась и душа у бабки Проси. Чаще других Прося горько и безысходно плачет при разговорах о войне.
– Что-то рано сегодня гулянники, – говорит бабка Марья, хотя и чувствуется, что она рада гостям, и уже озабоченно поглядывает на наш старинный, переживший не одну войну, самовар, который, конечно же, придется разжигать.
Но на этот раз бабка ошибается. В дом опять заходят нищие. Первым тяжело, на ощупь придерживаясь за косяк, появляется слепой седобородый старик в холщовых некрашеных штанах и в лаптях, а следом за ним мальчишка, примерно мой ровесник – поводырь. На нем тоже лапти, разношенные, почерневшие, кое-как подвязанные бечевкой, старая, солдатская шапка с вмятиной от звездочки и такая же старая, видавшая виды солдатская фуфайка защитного цвета.
Сняв шапки, оба они – и старик, и мальчик – молча, терпеливо крестятся. Старик, высоко запрокинув крупную облысевшую голову, а мальчик, повернувшись к иконе бледным, исхудавшим личиком.
На мгновение наши взгляды встречаются. Я не выдерживаю и прячусь в другую комнату. Через щелку в двери мне видно все, что происходит на кухне. Вот бабка Марья отрезала краюху хлеба и отдала мальчику. Он взял ее тоненькою, еще не успевшей отогреться от мороза рукою, положил в мешок к деду, перекрестился и сказал охрипшим, едва слышным голосом:
– Спасибо.
– Дай бог вам счастья, – тоже перекрестился вслед за мальчиком старик.
Бабка Марья проговорила в ответ свое обычное, не раз говоренное нищим: «Чем богаты, тем и рады», но потом вдруг засуетилась, взяла в руки кувшин:
– Может, молочка попьете?
Нищие чуть настороженно застыли, замешкались возле двери. Мальчишка вопросительно посмотрел на старика. Тот, кажется, ощутил, понял его взгляд, дрожащею старческою рукою он нащупал плечо поводыря и легонько подтолкнул его к бабке:
– Попей, Гриша, попей!
Бабка налила мальчику молока в мою любимую высокую чашку с тремя вишенками посередине, положила сверху кусочек хлеба. Гриша сел на табуретку возле порога и начал бесшумно и тихо пить молоко.
– А мне бы водички, – попросил вдруг старик, хотя бабка и ему уже несла чашку.
– А чего же молочка? – остановилась она на полдороге.
– Нот, лучше водички, – настоял все-таки на своем старик.
Бабка поставила чашку на лавку рядом с кувшином и набрала воды. Старик отпил ее самую малость, всего три-четыре глотка и начал вдруг пальцами, на ощупь обследовать кружку:
– Снарядная? – спросил он бабку.
– А бог ее знает, – ответила та, не очень разбираясь в подобных делах.
– Снарядная, – понимающе вздохнул старик. – Теперь во многих такие…
Это правда. На нашей улице кружки, сделанные из снарядных гильз, есть едва ли не в каждом доме. Нам ее подарил Иван Логвинович. Кружки его считаются самыми лучшими. Он не просто вставляет в обрезок снарядной гильзы донышко и приделывает ручку. Вдоль ободка Иван Логвинович обязательно пускает какой-нибудь узор из веточек или звездочек, а то и вообще нарисует деревенский домик со штакетником и деревом возле крылечка. Внутри кружки Ивана Логвиновича всегда луженые, блестящие. Когда такую кружку начистишь желтым речным песком, то пить из нее одно удовольствие.
Нищие начинают прощаться. Старик гладит мальчика по голове и, обращаясь к бабке, сокрушается:
– Сирота он. Отец на фронте погиб, а мать здесь…
– Наши тоже сироты, – вздыхает, печалится бабка Марья.
Они еще о чем-то там говорят, но я уже не слушаю. Ну какие мы с Тасей сироты! У нас есть дом, есть мать, есть бабка, а у мальчишки вон только один дед, да и тот слепой…
Проводив нищих, мы с бабкой опять принимаемся за картошку. Ее к вечеру надо начистить полный двухведерный чугун. У нас с бабкой самое настоящее соревнование. Пока она своей искалеченной рукой очистит одну картошку, я бросаю в чугун две. Правда, иногда мне приходится брать их назад, потому что второпях я обязательно оставлю где-нибудь кусочек кожуры или плохо повыковыриваю глазки. Бабка посмеивается надо мной:
– Хочешь есть крахмальные блины – старайся!
Я стараюсь. Но мне уже, по правде признаться, не до картошки. На часах шестой час, а мать никак не приходит. Все-таки, наверное, придется нам идти в школу.
– Ладно, собирайтесь, – видя мое нетерпение, говорит бабка. – Я сама.
Собраться – дело недолгое. Через минуту мы с Тасей уже готовы.
На улице мороз еще сильней, чем утром. В клубе, наверное, холодюга из холодюг. Разве натопишь такое громадное помещение двумя печками, пусть даже они обиты железом? Но это не беда, надышим – согреемся. Главное, чтоб движок завелся, а то, бывает, в такой мороз он и не заводится.
Мать мы встречаем возле Хоминого колодца. Она тут же вручает нам заветный рубль, улыбается:
– Заждались небось?
– Заждались, – признаемся мы.
– А я дежурная сегодня, раньше никак нельзя было.
Мы не обижаемся. На нашу мать обижаться просто нельзя. Она всегда помнит о наших делах. Вот и сегодня, хоть и дежурила в школе, хоть и было у нее целых четыре урока во вторую смену, а к началу кино все-таки успела, зная, что мы дома волнуемся.
Сама мать пойдет в кино на взрослый сеанс, если, конечно, договорятся они с бабкой Марьей. Бабка бывает иногда вредной, ворчливой. Чуть мать начинает собираться в кино, она тут же о какой-нибудь работе вспомнит. Сегодня обязательно, наверное, скажет:
– Картошку надо тереть, а не по кинам расхаживать.
Просто беда нам с этой бабкой. Да мы с Тасей после кино полчугуна картошки запросто даже сотрем! Все равно ведь, пока мать не вернется, спать не ляжем. Но, может, мать как-нибудь подманет бабку. Скажет, например, что вечером у нее педсовет. Иногда матери приходится идти на такую хитрость. На педсовет или на политзанятия бабка всегда отпускает ее безропотно, мол, это работа, дело, а кино – пустая забава, без нее и обойтись можно…
Нам очень хочется, чтоб мать сегодняшнее кино обязательно посмотрела. Оно ведь самое интересное – про войну. Так и на афише написано, которую мы прочитали, возвращаясь с горки. После мы бы с матерью часто вспоминали его, как вспоминаем самый первый, увиденный нами несколько лет тому назад фильм «Золушка».
Еще издалека мы слышим, как гудит движок. Значит, завелся, значит, кино теперь уже точно будет.
У входной двери стоит киномеханик Федя, продает билеты. Мы торжественно вручаем ему рубль и скорее бежим в зал занимать место на длинных расшатанных лавках. Ребята с нашей улицы почти все уже здесь. Один лишь Ваня Смолячок бегает в коридоре, шумит, то и дело заглядывая через Федину руку в зал. Скорее всего, у него нет денег на кино. Возможно, их принесут старшие братья, которые пока что в школе во второй смене, а возможно, Ваня в кино сегодня и совсем не попадет. Ему всегда приходится намного тяжелее, чем остальным ребятам с нашей улицы. Мы с Тасей, например, просим у матери на кино один рубль, а братьям Смолякам, если они соберутся идти в кино все четверо, надо просить сразу два. Деньги для их многодетной семьи, где каждая копейка на учете, немалые.
Ваня, правда, не унывает. Парень он стойкий, привычный ко всем тяготам жизни. В летнее время вообще Ваня ухитряется попадать в кино без денег. То он спрячется задолго до начала сеанса где-нибудь на сцене, то заберется в зал сквозь разбитое окно, то, воспользовавшись заминкой и толкотней возле двери, прошмыгнет незамеченным мимо Феди и, пока не погаснет свет, терпеливо сидит под лавкой. Иногда ему за такие проделки достается. Киномеханик или завклубша Галя выводят его из зала за ухо. Но на что не пойдешь ради кино, тем более если оно бывает так редко… Мы Ване, чем только можно, стараемся помочь. Денег, конечно, ни у кого лишних нет, но зато во всем остальном он может на нас положиться. Мы дружно втаскиваем его в окошко, прячем под лавкой, прикрывая ногами и никогда не выдаем киномеханику, хотя за подобное укрывательство нам тоже может попасть. До самого последнего момента мы всегда держим для Вани место на лавке. Вот и сегодня у нас такое местечко для него припасено…
Проходит еще десять-пятнадцать томительных минут. За это время мы узнаем у Феди, сколько в «Небесном тихоходе» частей, какой будет журнал и даже кто играет главную роль. Зная, что просто так от нас не отвяжешься, Федя терпеливо обо всем рассказывает.
Но вот наконец-то со стороны школы слышится многоголосый шум, крики, топот бегущих к клубу учеников второй смены. С ходу, без передышки они атакуют Федю, суют ему свои медяки и рвутся поскорее в зал. Последним, прихрамывая, появляется старший Ванин брат Володя. Несколько лет тому назад у него что-то случилось с ногой. Он долгие месяцы ходил на костылях весь закованный в гипс, отстал от своих ровесников в школе. Но сейчас у Володи нога немного поправилась, и он даже играет с нами летом в футбол и лапту. Деньги у Володи есть на всех четырех братьев. Он степенно, не торопясь, как и полагается самому старшему из нас, уже почти взрослому парню, берет билеты и, пропустив вперед братьев, занимает место на самой последней лавке, чтоб не мешать остальным маленьким зрителям. А Ваня уже рядом с нами. Мы, радуясь за него, сдвигаемся на лавке, и вот он уже сидит между мной и Колей Павленко, плечом к плечу, веселый, юркий, чем-то похожий в своей неизменной буденовке на Мальчиша-Кибальчиша.
Кино мы смотрим, не отрывая глаз. Мало того, что оно про войну, так оно еще и про летчиков. Я сразу вспоминаю свою заветную мечту о самолете, на котором прилетит наш с Тасей отец. Пусть это даже будет не настоящий боевой самолет, а обыкновенная «стрекоза». На ней, оказывается, тоже можно воевать, да еще как!
Отец выйдет из самолета у нас на лугу и споет ничуть не хуже артиста Крючкова:
Потому, потому, что мы пилоты,
Небо наш, небо наш родимый дом.
Первым делом, первым делом самолеты…
Ну а девушки? А девушки потом…
Я тоже, конечно, буду летчиком. Скорее бы только отец прилетал…
Во время частых, почти десятиминутных перерывов между частями мы, обсуждая только что увиденное и загадывая, что же будет дальше, стучим ногами, толкаем друг дружку – греемся. И вдруг я вспоминаю о Грише. О том, как он пил молоко на табурете возле двери, как молча и по-взрослому спокойно смотрел на меня. От этого воспоминания мне становится как-то не по себе, грустно и тяжело, будто я опять заболел гриппом или дифтеритом, которым мы с Тасей почти одновременно болели в самом раннем детстве…
Но вот проектор снова застрекотал, и я забываю о Грише. Очень уж интересно поскорее узнать, обнаружат наши летчики секретное немецкое оружие или нет. Но, оказывается, забываю не совсем. Поздно вечером, когда я ложу на печке, укрытый теплым льняным рядном, Гриша опять будто наяву является ко мне, пьет молоко и все смотрит на меня из темного, холодного угла… А я не знаю, что мне делать. Возле стенки похрапывает бабка Марья, шуршит подвешенным на жердочке луком кот Мурчик, с левой стороны сонной горячей рукой обнимает меня Тася, а с правой – устало, тяжело придерживает за плечо мать. Хорошо мне так лежать между ними на еще не остывшем черене. Глаза мои слипаются сами собой, я уже почти засыпаю, но вдруг метельный холодный ветер залетает в трубу, будит меня, и я снова вижу Гришу, который сидит возле двери и пьет молоко…
Ночью я сплю плохо, часто просыпаюсь, сбрасываю рядно, толкаю Тасю. Утром бабка Марья трогает меня за голову, осуждающе вздыхает:
– А все ваши кина. Надо к Борисихе сходить, чтоб пошептала от испугу.
Я помалкиваю. К Борисихе я готов идти хоть сейчас. Она мне нравится. Посадит на табуретку и все шепчет что-то, шепчет, кричит тихонько на ухо: «Ваня, гу!» А в конце обязательно что-нибудь подарит: конфету, домашний коржик или горсть хорошо поджаренных тыквенных семечек.
Но сейчас, конечно, бабка Марья меня к Борисихе не поведет. Это она просто так – пугает. Сейчас мы с Тасей опять пойдем в школу по занесенной снегом тропинке, будем сидеть на уроках, писать всякие контрольные и диктанты, потому что уже конец второй четверти и до Нового года, до каникул осталось совсем немного…








