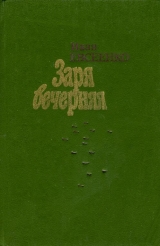
Текст книги "Заря вечерняя"
Автор книги: Иван Евсеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
* * *
Все реже и реже, занятый то работой, то какими-либо иными, как будто неотложными делами, приезжаю я в свое родное село. Но когда приезжаю, обязательно прихожу на кладбище. Посидев немного на лавочке возле могил деда Сашка, бабки Марьи и умершей совсем недавно, раньше положенного срока, матери, я всегда перехожу к могиле деда Игната. Сняв шапку, я долго стою возле нее и молчу…
ЗИМНИМИ ВЕЧЕРАМИЗимними холодными вечерами собирались мы в нашем совсем уже обветшавшем доме, зажигали керосиновую лампу-восьмилииейку и начинали записывать в тетрадки песни, которые слышали от взрослых, недавно переживших войну людей. Песни эти, чаще всего переделанные из ранее уже известных, были то тяжелыми, горькими – о смертях, о страданиях:
По полю танки грохотали,
Танкисты шли в последний бой,
А молодого командира
Несут с разбитой головой, —
то грустными – о любви, о молодости, на долю которой выпали нелегкие фронтовые испытания:
Есть мука, которой и смерть не страшна,
Она мне на долю досталась, —
Над гордой и смелой любовью моей
Немецкие псы надсмеялись, —
то озорными, веселыми – о Победе, о скором возвращении домой, о долгожданных встречах:
Делу время, а потехе только час,
Распрощаемся, красавицы, сейчас:
Наше дело – до Победы воевать,
Отвоюемся – вернемся танцевать.
Экономя керосин, мы подкручивали фитилек лампы, – лишь бы он немного освещал старинный, рассчитанный на большую семью стол. Чернильница у нас была одна, и поэтому мы садились поплотнее друг к дружке, чтоб удобнее доставать до нее тоненькими деревянными ручками. Собирались за этим столом почти все дети из нашей улицы: Оля Полевик, Феня Ефименко, двоюродные сестры Маруся и Галя Комиссаренко, двоюродные брат и сестра Ваня и Маруся Смоляк, Шура Крумкач, Петя Ушатый.
Иногда, отложив в стороны ручки, мы начинали пробовать свои голоса, петь только что записанные песни. Во всем мы подражали нашим матерям, пели грустно и печально о разлуке, о невозвратимых потерях. Было нам тогда по десять-двенадцать лет. С фронта отцы вернулись только у четырех ребят: Пети Ушатого, Гали Комиссаренко, Вани Смоляк и Маруси Смоляк. Остальные отцов своих не знали и не помнили, в том числе и мы с Тасей. У Оли же Полевик, самой старшей из всех собиравшихся, не было и матери. Она не так давно умерла, и теперь Оля жила в доме возле речки у дяди Гриши.
Над моей головой висела фотография отца, который в войну оставался на оккупированной территории и был арестован немцами в один день с отцом Оли Полевик за связь с партизанами. Оба они до сих пор числятся пропавшими без вести.
Желтенький, похожий на летнюю ночную бабочку язычок пламени колышется, трепещет от нашего дыхания, от наших голосов. Кажется, он вот-вот погаснет, и в доме тогда станет совсем темно и страшно. Но он держится, горит, неярко освещая наши взволнованные лица.
Я пою плохо, потому что от природы у меня нет ни голоса, ни слуха, но стараюсь, во всем подражая моему ровеснику и лучшему товарищу Коле Павленко, который поет чисто и звонко, звончей даже многих девчонок. Я во многом завидую Коле: его пению, его ловкости и смелости в детских играх, его умению хорошо рисовать, но больше всего я завидую тому, что Коля очень похож на своего отца. Об этом все говорят, да я это и сам вижу, сравнивая Колю с портретом его отца, который висит у них в маленькой с недостроенными сенцами хате, всегда аккуратно обрамленный вышитым рушником.
Я же на своего отца совершенно не похож. Во-первых, волосы. У отца волосы вьющиеся – и вьющиеся не какими-нибудь кудряшками, а настоящими, будто морскими, волнами. У меня же волосы прямые, гладенькие, летом выгорающие на солнце добела. Есть, правда, у меня на этот счет одно утешение: отцова мать бабка Дуня говорит, что у отца до тринадцати лет волосы тоже были прямые, а потом вдруг закучерявились, как у деда Дениса. Я с нетерпением жду тринадцати лет, часто заглядываюсь на фотографии отца и деда Дениса, тоже погибшего на войне. Но ждать мне еще целых четыре года…
Во-вторых, брови и веснушки. У отца брови темно-русые, густые – у меня же белесые, едва-едва заметные. А вот с веснушками дело обстоит наоборот. На фотографиях у отца веснушек что-то не видно, а у меня и нос, и щеки, и подбородок усеяны ими вдосталь. Я от этого часто расстраиваюсь. Глядя на меня, расстраивается и мать, мажет мне лицо сметаною, каким-то кремом, отваром из трав, но ничто не помогает. Надежда у меня опять-таки на возраст. Бабка Дуня, которая иногда приезжает к нам в гости из поселка Мосты под Гомелем, утешает меня, мол, у отца веснушки тоже были до тринадцати лет, а после исчезли. Но время в детстве тянется удивительно медленно, и заветные тринадцать лет никак не исполняются.
В-третьих, у отца почти квадратные скулы и мощный красивый подбородок с ямочкой посередине, но то что у меня – остренький, худой, на котором никакой ямочки, конечно, не предвидится.
На всех фотографиях отец очень строгий, серьезный, хотя в общем-то совсем еще молодой, всего двадцатилетний. Я его немного побаиваюсь и никак не могу представить, как бы с ним разговаривал, если бы он остался жив. А поразговаривать хочется, и я никак не верю, что отец погиб. Раз он всего лишь пропал без вести, значит, может еще где-нибудь отыскаться и прийти к нам домой. Например, в Америке или в Аргентине, откуда, по рассказам взрослых, иногда возвращаются пропавшие на войне люди.
В тайне от остальных ребят я закрываю глаза и загадываю, что вот сейчас отец постучится в дверь и зайдет в дом. Одет он будет точно так, как на одной из фотографий: в тяжелом зимнем пальто, в фетровой шляпе, в руках отец обязательно будет держать свой учительский портфель, с которым сейчас ходит в школу Тася. Что тогда начнется – трудно себе даже представить.
В дверь действительно кто-то стучится. Я вздрагиваю, весь сжимаюсь внутри, сердце мое колотится, как мячик… А вдруг…
Ребята тоже настораживаются. Но совсем, конечно, по другому поводу. Они, наверное, думают, что это возвращается из школы наша мать, которая учит нас всех географии, ботанике и химии и которая часто по вечерам бывает на всевозможных педсоветах, политзанятиях или на сессиях сельсовета, поскольку ее все время избирают депутатом.
Но ошибаются и ребята, и я… В дом заходит с гармошкою через плечо Толя Коропец. На нем старенькая латаная фуфайка, холщовые крашенные бузиною штаны, ватные бурки с калошами-бахилами. Одежда для гармониста не очень, конечно, завидная, но все мы одеваемся не лучше, поэтому никто особого внимания на Толины крашенные бузиною штаны не обращает. Все рады, что он пришел и что сейчас будут танцы под гармошку. Толя ровесник Оли Полевик, но ходит в один класс с Тасей, потому что из-за войны поступил в школу позже. Учится Толя не очень хорошо, но зато парень он веселый, покладистый и на гармошке играет просто здорово…
Девчонки встречают гармониста как самого желанного гостя. Они прекращают пение, усаживают Толю возле окошка и с нетерпением ожидают, пока он развернет гармошку. Одна лишь Галя Комиссаренко, на которую Толя засматривается, кажется, больше, чем на других девчонок, не преминет пропеть ему шуточную, чуть переделанную частушку:
Ой, чего ты, Коропец,
Ой, чего ты бедный?..
Толя на это, правда, не обижается. Он не спеша, с достоинством отстегивает на гармошке пуговку, пробегает пальцами по голосам, словно пробуя, не очень ли она застыла на морозе. А потом растягивает гармошку пошире и начинает играть, улыбаясь и подмигивая сразу всем девчонкам. На щеках у него от этой улыбки образуются две веселые ямочки, которые, как нам кажется, смущают не одну только Галю Комиссаренко…
Для начала Толя играет вальс. Девчонки сразу разбиваются на пары и кружат вокруг столба, которым у нас в доме подперта лопнувшая во время бомбежки перекладина. Ребята же не танцуют. Во-первых, мы не умеем, а во-вторых, девчонки, наверное бы, с нами не пошли. Так уж получилось, что все они старше нас на год-два, а это в детском возрасте очень заметно. Зато мы можем сколько хочешь сидеть рядом с гармонистом, слушать музыку, смотреть, как ловко бегают его пальцы. А это, может быть, даже лучше, чем кружиться вокруг столба по глиняному полу…
Чинно и важно, стараясь ничем не выдать своей обиды на девчонок за их невнимание, мы рассаживаемся рядом с Толей, справа – Коля Павленко и я, а слева – Петя Ушатый и Ваня Смоляк, которого мы между собой ласково зовем Смолячком. Ваня меньше всех нас и возрастом, и ростом, но по характеру он бойкий и шустрый. Мы с ним тезки по всем статьям: он Иван Иванович, и я Иван Иванович. Среди наших школьных товарищей вообще много ребят, которые носят отцовские имена. Вот и Петя Ушатый не просто Петя, а Петр Петрович. Когда мы родились, наши отцы были либо на фронте, как у Вани и Пети, либо уже успели погибнуть, как, например, у меня. А вот Коля Павленко родился хоть и в сорок третьем году, но еще при отце, которого в начало войны не взяли в армию по здоровью. Поэтому Колю и назвали Колей, а не Алексеем, как отца. На фронт Колин отец ушел осенью сорок третьего года. Ушел и не вернулся, погибнув совсем недалеко от наших мест. Коле в это время не было еще и года… От отца у Колиной матери осталось три письма, написанные на небольших листочках из записной книжки. Чаще других Коля показывает нам последнее:
«Здравствуй, моя дорогая жена Дуня!
Здравствуйте все мои родные: отец, мать, сестра Ольга, сестра Настя, Галя, Шура, Маруся, моя дорогая дочка Олька и сын Колька! Передаю вам свой горячий красноармейский привет и желаю всего наилучшего в вашей жизни.
Моя красноармейская жизнь проходит пока хорошо. Со мной займищанских ребят никого нет. Три дня назад видел Василия Рыбальченко и Андрея Игнатовича, но где они сейчас, я не знаю.
Вы переживаете, что у меня из дому были плохие лапти, но я их уже давно выбросил, так как получил новое обмундирование, зимнее, теплое.
В настоящий день стоим у Днепра и рвемся душой как можно скорее громить проклятого немецкого паразита, который нагло напал на нашу землю и нарушил нашу счастливую жизнь. Но врет он, ему будет конец, он будет разбит.
Дуня, закончила ты копать картошку или нет и вообще как ты приготовилась к зиме? За сапоги, которые мы купили с тобой, ты теперь расплатись сама, чем тебе будет лучше. Может быть, ячменем или еще чем. Одним словом, ты сейчас хозяйствуй сама, но во всем советуйся с Ольгой и отцом. Передай отцу и Ольге, что я очень прошу их не оставлять моей семьи в беде. И тебя очень прошу, как можешь, жалей моих детей. Я очень-очень скучаю по Олечке и Кольке. Как только вспоминаю, как Олечка говорила «тата», то не могу без слез забыть.
На этом я свое коротенькое письмо кончаю. Жму всем вам руку и крепко целую. Скорее пишите ответ. Хотя скучать и нет времени, но все же скучаю.
20/X. 43 г.
Ваш Алеша.
Адрес. Действующая Красная Армия. Полевая почта 01113 Т. Павленко А.».
Многие из нас родились во время оккупации, родились, как в старину – дома. У меня повитухой была сестра деда Сашка, бабка Борисиха, дожившая после почти до столетнего возраста. Мать рассказывала, что она для начала хорошенько нашлепала меня, поскольку я никак не хотел кричать, а потом перевязала пуповину шелковой ниткой, выдернутой из обыкновенного платка. С тем и живу…
Всем нам выдали метрики на немецком языке. Я их даже чуть-чуть помню. Они ведь были у меня до сорок шестого года, пока мать не принесла из районного загса новенькие, русские, на которых стоит пометка: «Запись восстановлена». Немецкие метрики, к сожалению, не сохранились, а то интересно было бы посмотреть, что там писали о нас немцы. Но зато сохранился материн паспорт времен войны, в котором на всю страничку стоит немецкий штамп. Тася, уже умеющая читать по-немецки, иногда переводит мне слова, написанные печатными и самописными буквами.
Der Die Uschataja Galina
geb. am 1921 ist von
der Passstelle Snowsk unter Nr. 182
Registriert worden Seimischtsche
Größe 158
Statur mittel
Augen grau
Haar dunkelblond
Bes. Kennzeichen keine
Gültig bis 31.3.1944
Bürgermeister
Все это означает: «Ушатая Галина, родилась в 1921 году, зарегистрирована в паспортном пункте города Сновска под номером 182, как жительница села Займище. Рост – 158 сантиметров, сложение среднее, глаза серые, волосы темно-русые, особых примет не имеет. Действительно до 31 марта 1944 года. Бургомистр».
Я слушаю Тасю, и мне совершенно непонятно, зачем это немцам надо было знать, какие у нашей матери глаза, какой у нее рост, какие волосы? Наверное, то же самое немцы писали в наших свидетельствах и о нас. У меня, например, глаза серые, волосы светло-русые, а у Таси – глаза карие, волосы темные и, главное, вьющиеся, – она больше похожа на отца. А вот рост… С ростом я не знаю как быть. Ведь мы еще растем…
Иногда я завожу разговор об этих метриках с бабкой Марьей, которая сейчас, несмотря на шум и музыку, основательно похрапывает в кухне на печке. У нее обо всем свое суждение. Подперев голову больной, искалеченною когда-то в молодости рукою, она говорит:
– Главное, чтоб веры вы были нашей.
Это точно – мы все крещеные по нашим, русским обычаям. Во время войны у нас в Займище церковь не работала, и меня крестили в соседнем селе Носовке. Крестной была материна подружка, тетя Маня, а крестным дядя Миша, Михаил Дмитриевич, племянник бабки Марьи. Но ни крестной, ни крестного во время моего крещения в церкви не было. Дядя Миша воевал на фронте, а тетю Маню угнали в Германию. Мою мать, когда она уже была беременна мною, тоже хотели угнать, но ей кто-то подсказал, и она спряталась на лугу. Иначе не миновать бы мне родиться где-нибудь в Германии.
Крестил меня дед Митька, отец дяди Миши, и бабка Евдоха, мать тети Мани. Крестную свою, которую мы с Тасей все время зовем матерью, я впервые увидел в конце сорок пятого года, когда она вернулась из Германии и привезла мне в подарок шелковую майку и трусы. В этом немецком наряде я долго щеголял летом на улице на зависть всем окрестным ребятишкам. Дядя Миша появился в Займище и того позже. Он еще несколько лет после войны служил в армии.
Толя Коропец между тем все растягивает и растягивает гармошку, кажется, не зная никакой устали. Вслед за вальсом он сыграл фокстрот, польку, падеспань и, наконец, добрался до своей коронной – сербиянки. Лихо развернув мехи, Толя сыпанул такой дробью, что я никак не могу уследить за его пальцами, мне чудится, что их у него штук по десять, не меньше, на каждой руке.
Опережая всех, первой в круг выскакивает Галя, худая, большеротая и проворная донельзя. Она мчится вприпрыжку вокруг столба и начинает петь знакомые нам, только что записанные в тетрадку частушки. Вслед за Галей в круг выскакивает либо Феня, либо Оля Павленко, тоже голосистые, веселые девчата. И начинается у них частушечный разговор, взрослый и серьезный, начинаются девичьи откровения о том, как вернулся с фронта солдат и как девчонке ни за что не удается завладеть его вниманием. Частушки эти длинные-предлинные, но мы терпеливо их слушаем, наперед зная, что закончатся они хорошо и весело.
Подружка моя,
Что глядишь невесело? —
Твой герой вернулся с фронта,
А ты нос повесила! —
поет Галя. А Феня ей отвечает:
Подружка моя,
Гордо он себя ведет,
Орденами грудь увешал
И меня не узнает.
И опять вступает Галя:
Подружка моя,
Я скажу по совести,
Он тебя, как прежде, любит,
Но молчит от гордости.
А Феня свое:
Ох, подруга моя Галя,
Посоветуй, как мне быть,
Как вернуть свое мне счастье
Его сердце покорить?
И так без конца:
Подружка моя,
Как останешься вдвоем,
Обстреляй его глазами,
Истребительным огнем.
Подружка моя,
Ты не тот совет даешь —
Он обстрелянный на фронте,
Его пушкой не пробьешь!
Подружка моя,
Ты получше погляди,
Если с фронта взять не можешь,
Надо с фланга обойти.
Подружка моя,
Не о том ты речь ведешь,
Он ведь тактику усвоил,
Его с фланга не возьмешь!
Подружка моя,
Нужен натиск боевой,
Ты возьми его штурмовкой,
С подготовкой огневой.
Подружка моя,
Снова поражение
Я попала целиком —
К нему в окружение.
Ничего не остается,
Милая Маруся —
Поклонись ему пониже
И скажи: «Сдаюся…»
Вам советую, девчата,
Лучше не ломайтесь,
Если любите героя —
Сами признавайтесь!
Наконец выдыхаются и гармонист, и танцоры. Запыхавшиеся девчонки в изнеможении падают на лавки. Толя Коропец, тоже изрядно запыхавшийся, на минуту откладывает гармошку в сторону. Но веселье продолжается. Немного отдохнув от танцев, все рассаживаются рядком на самой длинной лавке, которая идет от красного угла (по-нашему покутя) до порога, и начинаются у нас веселые, смешные игры «в садовника», «в кольцо» и еще в «барыню», где мне особенно нравятся слова ведущего: «В черном, в белом не ходить, «да» и «нет» не говорить».
Мы шумим, балуемся, строго судим фантики, заставляя провинившегося то выскакивать на улицу, чтоб узнать погоду, то кукарекать петухом в трубу, то лазить в подпечье, темное и страшное, где зимой у нас всегда хранятся тыквы.
Бабка Марья на наше баловство никак не откликается. Она все так же спит на печке, а может, только делает вид, что спит. Может, слушая наши затейливые разговоры, смех, она вспоминает свое детство и свою юность. Родилась бабка Марья в Малом Щимле, небольшом хуторе, мимо которого мы всегда проходим по дороге в районный центр, город Щорс. У нее было семь сестер и два брата. Прокормить такое семейство нашему прадеду Логвину Ильичу было, конечно, нелегко, хотя он, как говорит бабка, считался крестьянином вполне справным. Все дети с самого раннего возраста работали и дома, помогая матери, и в поле. Ходили они также на заработки, особенно во время жатвы. Рожь у нас с давних пор жнут серпами, поскольку ценится не только зерно, но и немятая, кулевая по-нашему, солома, которой кроют дома и сараи. Работа эта считается женской, хотя она и очень трудная. Я ее уже знаю. У себя на огороде мы тоже рожь жнем серпами.
Логвин Ильич выдавал замуж своих дочерей рано. Наделял клочком земли, приданым: скрынею, подушками, льняными, вышитыми самой невестой рушниками – и с богом. Все дома легче – одним едоком меньше.
Бабка Марья вышла замуж тоже рано, лет восемнадцати-девятнадцати. В приданое ей досталась скрыня, которая стоит у нас посреди хаты и в которой мать вместе с простынями, ряднами, другими нехитрыми деревенскими пожитками хранит отцовский шерстяной костюм, несколько рубашек с отстегивающимися воротничками и темно-красный, в полоску галстук. Несколько лет тому назад там еще лежали байковые, ни разу не надеванные отцом нижние штаны, но мать у нашей деревенской портнихи Артюшевской пошила мне из них настоящий летний костюм: небольшие брючки на одной подтяжке и курточку с множеством пуговиц. Одеждой этой я, пятилетний, гордился не меньше, чем немецкими трусами и майкой, хотя бегать и валяться но песку в костюме было очень уж неудобно – слишком быстро он грязнился.
Чуть позже я в бабкиной скрыне обнаружил еще кое-какие отцовские вещи: фетровую шляпу, которую после у нас брали в клуб для художественной самодеятельности, поскольку она была, кажется, единственной шляпой на всю деревню; безопасную бритву производства Московского завода «Красная звезда», небольшой зажим для галстука с голубеньким в крапинку камушком, всевозможные книги по истории и даже отцовские тетради по математике, когда он учился в Городнянской педшколе. Отцовскою бритвою, повзрослев, я начинал бриться и бреюсь ею до сих пор, до сих пор ношу на галстуке его зажим, часто заглядываю в отцовские тетрадки, дивясь, каким он аккуратным и серьезным был человеком, несмотря на свой юношеский возраст.
Когда мы были совсем маленькими, то, играя в прятки, часто залезали в бабкину скрыню. За это нам, конечно, попадало. Но как заманчиво было лежать в полной темноте на ряднах, на вышитых крестом и цепочкой рушниках, на отцовском костюме, который мать никак не хотела продавать, все еще, наверное, надеясь на возвращение отца. Костюм этот я сносил классе в восьмом-девятом, когда он мне стал почти впору. Помню, как мы с матерью долго примеряли его, как мать что-то в нем подшивала, укорачивала, а бабка Марья, по своему обыкновению, сидела на стуле под часами, строго поджав губы. Но когда я наконец-то надел костюм, чтоб идти на улицу, она не выдержала и разволновалась:
– Я думала, не доживу.
Вообще волноваться и плакать бабке Марье в жизни пришлось много. Едва успела она выйти замуж и перебраться из Малого Щимля в Займище, как деда Сашка призвали в армию. Собственно, призывали не его, а старшего брата Ивана. Но Иван к тому времени был человеком уже ученым, работал помощником машиниста в депо города Сновска, как тогда назывался Щорс. Успел он обзавестись семьею, детьми. Отрывать его от дома и от такой редкой по тем временам для деревенского человека работы не было никакого резону. Поэтому на семейном совете решили, что в армию пойдет Сашок. На всякий случай нажарили ему ноги крапивою – вдруг врачи подумают, что у новобранца рожа и дадут ему отставку. Но ничего из этого обмана не получилось. Попал дед в кавалерию и прослужил в ней семь лет, включая и всю первую мировую войну. Солдатом он был хорошим и дослужился даже до унтер-офицерского звания. По бабкиным рассказам, в армии деда любили за легкий, отзывчивый характер, за пение, которым он очень славился, за храбрость. Жаль, дед умер слишком рано, когда мне было всего три года, а то бы я сам у него обо всем этом порасспросил. За семь лет службы не раз дед был ранен, не раз падал с лошадей и на фронте, и в запасном полку, где обучал верховой езде новобранцев. От этого, наверное, и умер раньше положенного срока, всего в пятьдесят семь лет…
Бабка все ждала его, растила дочь Таню (старшую сестру нашей матери) и все надеялась, что вернется дед Сашок живым. Сейчас, правда, бабка Марья вспоминать об этих годах не очень-то любит. Если зайдет о них разговор, она лишь тяжело вздохнет и надолго замолчит…
Вернулся дед с войны, засунул саблю в стреху и принялся крестьянствовать. Однако крестьянствовал он своеобразно: больше помогал солдатским вдовам, сиротам, чем работал дома. А вдов этих и сирот после первой мировой войны было в селе тоже вдосталь. Бабка из-за этого иногда сердилась на деда, ворчала, но ничего поделать не могла.
Дедову саблю я обнаружил в стрехе, когда мы уже после его смерти переделывали сарай. Не дав нам ею вдоволь наиграться, бабка отнесла саблю к деревенскому мастеру на все руки Серпову, или, как его все звали в селе, Серпику, чтоб он наделал из нее ножей. Но даже Серпик не смог вынуть из ножен дедову саблю, так заржавела она в стрехе почти за тридцать лет. Мы надеялись, что теперь бабка отдаст нам безопасную саблю навсегда, но она благоразумно выбросила ее в нашу древнюю речку Сновь, где и без того всякого оружия, наверное, полным-полно, начиная от времени Новгород-Северского князя Игоря Святославича и заканчивая последней войной…
Когда началась эта война, деда на фронт не взяли уже по возрасту. Но все равно горя и слез бабке хватило. Погиб наш отец, погиб дед Денис, погиб сын деда Ивана, ни разу не виденный нами с Тасей дядя Коля, погибло еще много близких и дальних наших родственников…
У всех ребят, которые сейчас играют в нашем доме «в садовника», «в колечко», почти такие же судьбы, почти такие же родословные. И у Шуры Крумкача, и у Пети Ушатого, и у Коли Павленко деды тоже были солдатами и воевали в первую мировую войну. Рассказы их об этой войне грустные и печальные, но они как-то заслонились еще более грустными и тяжелыми рассказами о войне Отечественной, в которой принимали участие и на которой погибли наши отцы.
Веселье наше в самом разгаре. Мы разделились на две партии: одна играет «в колечко», другая – «в садовника». То и дело слышны крики ребят, которые водят:
Кольцо-кольцо,
Выйди на крыльцо.
Или:
Я садовником родился,
Не на шутку рассердился:
Все цветы мне надоели,
Кроме… розы.
И только «роза» хотела отозваться, как на крылечке, обивая веником ноги, застучала наша мать.
Мы с Тасей сразу узнаем ее по особым, твердым и решительным шагам, по негромкому покашливанию и даже по тому, как мать обметает веником сапоги – быстро и основательно, чтоб не нести снег в дом.
Ребята на минуту затихают и, кажется, впервые за весь вечер смотрят на часы. Времени уже порядочно, без малого девять. Пора собираться домой…
Мать, правда, их не торопит, не ругает нас за «разгром» в доме. Она понимает, что если играешь «в садовника» или «в колечко», то обязательно что-либо сдвинешь с места, затопчешь глиняный, еще утром чистый-пречистый пол. Мать сама в детстве очень любила играть в эти игры и нас научила…
Но ребята все равно начинают потихоньку собирать со стола свои тетрадки, складывают их кто за пазуху, а кто в холщовые или в противогазные, оставшиеся от войны сумки, которые служат теперь нам вместо портфелей. Время действительно уже позднее, да и мать… Она для ребят все-таки учительница, и они чуть-чуть стесняются. Мы с Тасей знаем, что наша мать учительница очень хорошая. Она никогда не кричит на учеников, не ругает их, не выгоняет из класса, как, случается, делают другие учителя. Она очень справедливая, и за это ее любят. Нам с Тасей в школе мать поблажек не дает. На уроках мы зовем ее, как и все ученики, Галиной Александровной, но зато дома… Дома мы с матерью в большой дружбе…
Возле вешалки, за дверью, ребята шумят и толпятся, разбирают свои одежки, в основном фуфайки или перешитые из солдатских шинелей пиджаки на вате. Оля Полевик аккуратно снимает с крючка свое байковое с плюшевым воротничком пальто, которое ей как сироте и примерной ученице подарили на Седьмое ноября в школе. Ваня Смоляк, самый проворный и ловкий, быстрее других находит в общей куче и напяливает на голову буденовку. Она досталась ему от отца, который служил срочную службу в армии еще до войны. Правда, Ваня носит ее не первый. До этого буденовку носили по очереди его старшие братья: Володя, Коля и Шура, которые тоже иногда заходят к нам на вечеринки. Ваня парень нежадный и часто дает нам примерять буденовку – затейливую шапку с множеством пуговиц и острым верхом. В такой шапке да еще с собственноручно выстроганной деревянной саблей и руках нетрудно представить себя героем и победителем по всех войнах.
Мать помогает ребятам одеваться, наказывает им поплотнее кутаться в платки и шайки, потому что на улице морозно и ветрено. Особое беспокойство у нее за Толю Коропца, у которого и одежонка послабее, чем у других ребят, и идти ему далековато.
Никто из нас не избалован роскошью и достатком, но Коропцам приходится хуже всех. Отец их пасет в колхозе волов. Должность эта не очень доходная, а семья у них большая. Кроме Толи, еще трое детей: Галя, Рая и Маруся. Галя, правда, недавно вышла замуж и теперь живет отдельно, а вот Рая и Маруся, меньшие Толины сестры, пока при родителях. Но главная беда Коропцов не в большой семье (есть у нас в селе семьи и побольше) и даже не в должности отца, а в огороде. Земля на приусадебном участке у Коропцов, считай, одна из самых непригодных в селе. Песок, гора, как принято у нас говорить. Ничего толком на этой горе не растет: ни картошка, ни рожь. Налоги же Коропцам приходится платить наравне со всеми, никто скидки на плохую землю, на то, что у Коропцов нет даже грядок, не делает. Вот и случается, что зимою им бывает и холодно, и голодно…
Но Коропцы не унывают. Девчата у них бойкие, занозистые, а Толя, хоть и помягче сестер, поспокойнее, но зато гармонист и танцор отменный…
Мать закрывает за ребятами дверь, подметает на скорую руку затоптанный пол, и мы садимся ужинать. Я в основном налегаю на хлеб и молоко. Хлеба кусаю побольше, а молока пью поменьше, чтоб было посытней. Так меня всегда учили бабка и мать. Лишь однажды они нарушили это требование. Несколько лет тому назад зимою мать вдруг начала мне говорить: «Хлеба кусай поменьше, а молока пей побольше». Я начал делать так, как приказала мне мать, но у меня ничего не получилось: маленький темно-коричневый кусочек хлеба мгновенно исчез во рту. Раньше мать обязательно похвалила бы меня за такое рвение, а теперь лишь вздохнула и покачала головой. Когда тебе всего четыре года, очень трудно понять, что летом была засуха, что год выдался неурожайным и что сейчас самый настоящий голод…
Но все это, к счастью, уже миновало, все это мы уже пережили и даже чуть-чуть успели забыть…
После молока я требую у матери своего любимого лакомства: горку сахару-песку и кусок хлеба. С хлебом я расправляюсь быстро, потому что мне охота поскорее приняться за смешную, совсем еще ребячью забаву. Я наклоняюсь низко к столу и, потихоньку слизывая сахар языком, делаю из горки разные фигуры: то треугольники, то квадраты, то кружочки, и так до тех пор, пока весь сахар не исчезнет. Мать иногда меня поругивает за это баловство, мол, уже не маленький, а я ничего не могу поделать с собой – мне так нравится, я привык к этому с самого раннего детства. Правда, мать насыпала мне тогда горку вдвое меньше, чем сейчас. С сахаром после войны было совсем плохо. Мать изредка приносила из города вместо него сахарин или темно-бурый самодельный сахар, от которого никакого проку не было… А сейчас с сахаром дела обстоят получше. На базаре его продают приезжающие откуда-то из Курской и Воронежской областей тетки по четыре рубля стакан. Цена, конечно, немалая, но, главное, сахар бывает. Мать хранит его в шкафу, в плотно завязанном мешочке. Мы сами туда без спросу не заглядываем. Мать, конечно, никогда нам не откажет, но и тратить сахар как попало не разрешит. Он потому и лакомство, что редкий и дорогой…
После ужина, по-нашему, – вечери, мы забираемся на печку к бабке Марье. Мать ставит на коменок лампу, и мы принимаемся читать книжки. Мать, готовясь к завтрашним урокам, читает географию и ботанику, Тася – какую-нибудь толстую, взятую из библиотеки книжку, а я свои любимые сказки про Покатигорошка, про подземное царство, про царевну-лягушку. Раньше мне их читали мать или Тася, а теперь я уже сам человек грамотный и ученый, как-никак второклассник.
Зимний, холодный ветер злится и воет в трубе, бросает в окна колючий, метельный снег. Зима стоит лютая, тяжелая. Иногда слышно, как на улице трескается от сильного мороза земля. В доме у нас холодно, старые, взятые в «лисицы» стены совсем не держат тепла. За день печка уже остыла, да и протоплена она была не бог весть как. Вокруг нашего села, куда ни глянешь по горизонту – все леса и леса, а с дровами дело обстоит худо. Выписать их очень трудно и в колхозном, и в государственном, казенном, лесе. Нам-то еще ничего, нас кое-как выручает торф, который дают матери в школе как учительнице, а вот другим приходится совсем трудно.








