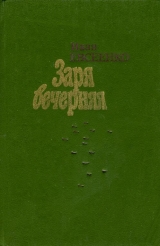
Текст книги "Заря вечерняя"
Автор книги: Иван Евсеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
Но Николай ошибся: сон пришел почти мгновенно, тяжелый, не сон, а забытье. Вначале ему приснился плачущий, не похожий на себя Борис, потом мать девчонкой с тряпичными куклами. Она тоже плачет, качая куклу, похожую на него, Николая, и все время приговаривает: «Как же ты будешь без меня, Коленька, как будешь?» А он отвечает ей тонким детским голосом: «Я тоже умру, мама».
Проснулся Николай от крика. В коридоре кричал Сашка, только что вернувшийся из садика. Он просился на улицу, но не хотел надевать куртку.
Николай вышел в коридор еще весь во власти сна и обещания, данного во сне матери. Сашка перестал плакать, подбежал к нему и неожиданно спросил:
– А мы пойдем сегодня к бабушке?
– Нет.
– Почему?
– Она умерла, – помимо своей воли, помимо своего желания вдруг сказал ему всю правду Николай.
– Совсем умерла? – затих на мгновение Сашка.
– Совсем.
Сашка вопросительно посмотрел на Валентину, как бы желая услышать от нее подтверждение отцовских слов. Та прижала его к своим коленям и, осуждающе покачав головой в адрес Николая, принялась гладить жесткие, чуть-чуть вьющиеся Сашкины волосы. Николай ожидал, что Сашка сейчас заплачет, по тот, проворно высвободившись от матери, самостоятельно, без уговоров натянул куртку и объявил:
– Тогда я пойду гулять.
– Иди, – отпустила его Валентина и, вздохнув, еще раз покачала головой.
Впервые за эти дни в душе у Николая шевельнулась радость. И не за себя, конечно, а за сына. Он, кажется, еще не пережил тех минут отчаяния, которые когда-то в детстве пережил он, Николай, на зимнем заснеженном пустыре. Сашка живет еще в том счастливом возрасте, когда человеку неведомы ни тайна рождения, ни тайна умирания. Он живет пока жизнью природы: деревьев, трав, птиц и зверей, которые, наверное, во сто крат счастливее человека, потому что им не дано бояться последнего своего дня… Хотя кто знает, может, все наоборот, может, истинное человеческое счастье заключается именно в том, чтобы знать конец своей жизни, знать и не бояться его, как никогда не боялась его мать…
В половине седьмого возле их подъезда остановился ярко-зеленый новенький «рафик». Николай, увидев его, стал прощаться с Валентиной.
– Ты здесь не плачь без меня.
– Не буду, – пообещала она и тут же заплакала.
– Ну вот, – вздохнул Николай. Он постоял еще несколько минут рядом с Валентиной, которая, хотя и старалась, но все равно никак не могла сдержать слезы, и вышел из квартиры. Ему вдруг показалось, что Валентина сейчас плачет не столько по матери, сколько но нему, Николаю, жалеет его, хочет чем-либо помочь и не знает чем…
Шофер оказался Николаю знакомым. Раза два или три они ездили с ним в недальние командировки. Человек он был пожилой и неразговорчивый, но тут вдруг разговорился:
– День у меня выпал сегодня какой-то похоронный.
– Почему так? – думая о своем, спросил Николай.
– С утра соседскую дочку хоронили, Таньку. Восемнадцать лет всего девчонке. Мой Славик за ней ухаживать пробовал, но она не согласилась. Теперь закрылся в комнате и плачет. Прямо не знаю, что делать!
– Пусть поплачет, – посоветовал Николай. – Пусть.
Он вспомнил девчонку, которая лежала рядом с матерью, маленький ненадежный насосик, помогавший ей жить, белые простыни и хотел было рассказать шоферу о последних ее минутах, почему-то уверенный, что это и была именно Танька, неудавшаяся Славикова любовь. Конечно, Танька. Не так много умирает в городе в один и тот же день восемнадцатилетних. Но потом промолчал. Зачем? Может, и не она. Скорее всего, что не она…
Возле холодильной камеры их встретил Борис, прежний, чуть-чуть суховатый, жесткий, молча открыл дверь.
С матерью за эти полдня ничего не случилось. Она тихо и спокойно лежала в гробу, казалось, думая уже не о земном, телесном мире, а о том, неизведанном, где обитают одни души, который для живых, конечно, не существует, а для мертвых вечное пристанище, родина. Лежа здесь в темноте и одиночестве, мать, наверное, готовилась ко скорой встрече с отцом, со своей не так давно умершей матерью, немного капризной, почти девяностолетней старухой.
Николай вспомнил материн рассказ о том, как умерла бабушка. Мать ушла на работу, а бабушка осталась дома. Закутавшись в кожух, она, как всегда, сидела на своем излюбленном месте под часами с кукушкой и зорко наблюдала через полузамерзшее окно за всем, что делалось на улице. Потом к ней пришла соседка одолжить полбуханки хлеба. Бабушка поднялась, достала из буфета хлеб, сама отрезала и, опять усевшись под часами, долго расспрашивала соседку о деревенских новостях, о погоде, о том, завезли в магазин или нет ситро, которое бабушка в последние дни очень любила. Вдоволь наговорившись, соседка ушла, оставив бабушку в добром здравии и хорошем настроении, а когда через полчаса вернулась мать, бабушка лежала на полу мертвой. Умерла она от минутного сердечного приступа.
Незадолго перед смертью, захворав простудой, бабушка но раз говорила матери: «Умереть бы нам с тобой, Галя, вместе». Мать прощала ей эти больные старческие слова, понимая, как страшно пожилому беспомощному человеку остаться одному не только при жизни, но и после смерти.
Николаю стало жалко мать. Он представил, как она встретится с бабушкой, как та обрадуется, что мать не задержалась долго на земле, что пришла к пей, чтобы опять обихаживать и беречь ее. И хотя матери эта работа никогда не была в тягость, Николаю захотелось не пустить ее туда, оставить рядом с собой…
Шофер подогнал машину почти вплотную к двери, достал из-под сиденья молоток и вошел в камеру. Не торопясь, по-деловому, осмотрев гроб, крышку и прислоненный к стене еловый венок, он неудовлетворенно покачал головой:
– Тесновато ей здесь.
Николай промолчал, не зная, что отвечать на это немного странное замечание. Он начал поправлять у матери на груди покрывало и вдруг заметил, что руки у нее немного припухли и ленточка больно врезается в запястья.
– Может, развяжем? – почти физически ощутил оп эту материну боль и неудобство.
– Не надо, – остановил его шофер. – Дорога предстоит дальняя, потом не сведешь.
– Действительно не надо, – поддержал шофера Борис.
Николай отошел в сторону, стал наблюдать, как шофер, негромко стуча, забивает коротенькими, случайно попавшими ему под руку гвоздями крышку гроба.
– Поехали, что ли? – наконец бросил он в кабину молоток.
– Поехали, – ответил Николай и первым взялся за гроб.
Втроем они установили его в машине между узенькими, расположенными вдоль кузова сиденьями. Шофер сел за руль, закурил сигарету. Пора было садиться и Николаю, но он все медлил, ожидая, что Борис подойдет к нему и скажет что-либо на прощанье. Тот действительно подошел, но ничего не сказал, а лишь пожал Николаю руку холодными немыми пальцами, словно прощаясь навсегда…
Машина потихоньку начала выбираться из городской сутолоки. Уже замелькали по обеим сторонам частные домики, по-деревенски огороженные заборами, закончились троллейбусные и трамвайные линии. Шоссе, сузившись, вытянулось в одну длинную бесконечную линию. Гроб изредка постукивал на выбоинах и ухабах, образовавшихся на трассе за долгую зиму. Николай вначале старался не обращать на это внимания, но чем дальше, тем ему становилось все больней и обидней. Он представил, как мать при каждом ударе содрогается всем телом, как тяжело бьется о жесткую подушку ее голова, но, мертвая, мать все терпит, не в состоянии никому пожаловаться.
– Давайте привяжем, – попросил Николай шофера.
– Что привяжем? – вначале не понял тот.
– Гроб, стучит все время.
Шофер, не говоря ни слова, свернул к обочине и остановился. В багажнике он отыскал кусок крепкой капроновой веревки и моток проволоки. Придерживая и приподнимая гроб, они привязали его в изголовье и в ногах к ножкам сидений. Ехать сразу стало спокойнее, только почему-то в голову настойчиво, не к месту и не ко времени лезли слова:
Там за речкой тихоструйной
Есть высокая гора,
В ней глубокая нора;
В той поре, во тьме печальной
Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов.
Строчки эти Николай запомнил еще с раннего детства. Зимними вечерами они с матерью расстилали на печи чистое, вываренное в жлукте рядно, зажигали лампу-восьмилинейку и мать начинала читать Николаю сказки. Он слушал с замиранием сердца ее тихий неторопливый голос, боясь, что сказка вдруг закончится плохо. Но они всегда заканчивались хорошо, зло гибло, а добро торжествовало. Несправедливо, нечестно погубленные невесты, королевичи и рыцари оживали, кто окропленный живою водой, кто разысканный верным товарищем, а кто и просто так, сам по себе. Но это в сказках, а в жизни все не так. Уж сколько мать вынесла за свои недолгие годы, сколько сделала добра, а нет для нее нигде ни живой воды, ни верного товарища…
На дорогу, на лесопосадки, на озера талой снеговой воды неприметно начала опускаться ночь. В небе одна за другой вспыхнули бледные весенние звезды. Николаю с детства почему-то всегда казалось, что каждая звездочка – это кем-то из мальчишек высоко-высоко запущенный воздушный змей и если потянуть за невидимую ниточку-паутинку, то звездочка обязательно начнет опускаться на землю и вскоре обнаружится, что сделана она из самой обыкновенной бумаги, крест-накрест оклеенной картоном.
Николай до сих пор помнит, как мать сделала ему первого воздушного змея. Она была тогда еще совсем молодой, наверное, всего двадцатипятилетней. Они вышли с ней за огороды на луг. Мать подбросила змея вверх, разбежалась, и он начал подниматься все выше и выше, играя на ветру ярко-красным длинным хвостом. Запрокинув голову, мать смотрела на него и совсем по-детски радовалась, что он не падает. Потом она передала катушку Николаю, и он, потихоньку разматывая нитку, побежал но лугу вслед за змеем, который потянул его вначале к ольшанику, а после к берегу речки. Когда он долетел до середины Снови, Николай начал сматывать нитку назад, но она вдруг лопнула, и змей, на минуту задержавшись над водой, унесся на тот берег и вскоре вообще скрылся за Милоградовским лесом. У Николая на глазах навернулись слезы, но мать утешила его: «Не плачь, Коля, он вернется». Сколько раз потом и в детстве, и уже в зрелые годы смотрел Николай на небо, надеясь, что улетевший змей опустится назад на землю, стоит только отыскать ниточку и потянуть за нее. Но, видно, она где-то запуталась между облаками, и теперь его змею вечно гореть на небе звездочкой…
– Вы не засыпайте, – окликнул его шофер.
– Я не засыпаю, – ответил тот.
– Вот и хорошо. А то меня, глядя на вас, тоже в сон клонит.
Николай повернулся к шоферу лицом и опять начал вспоминать бог знает что: детские счастливые годы при матери, первое расставание с ней, институтские каникулы, по шофер вдруг перебил его, затеял длинный житейский разговор:
– С домом что делать будете?
– Не знаю, – пожал плечами Николай.
– Продайте, – посоветовал шофер.
Николай на мгновение представил, что в их доме, который они с матерью вскоре после войны построили с такими трудами, будет распоряжаться кто-то другой, чужой и равнодушный человек, что он все переделает, переиначит, и ему стало до боли жалко дома, словно он был живым, чувствующим существом. Николаю даже показалось, что такой измены, такого предательства дом не вынесет, что он согласится скорее разрушиться, сгореть, чем впустить в свои стены чужих людей. Ведь никто лучше матери не сможет побелить в доме стены, помыть полы и окна, жарко натопить зимою печку, чтоб дом не мерз на стылом вотру и морозе, никто не сможет так любить его и так заботиться о нем.
– Пусть постоит пока, – вздохнул Николай.
– Может, и правда, – согласился шофер.
Он обогнал тихо плетущийся самосвал и продолжил:
– Только без людей дом быстро разрушится.
– Мы будем приезжать.
– Много не наездишь, Николай Николаевич. Он ведь не под боком.
– Постараемся, – не захотел сдаваться Николай, хотя и чувствовал, что шофер, конечно, во многом прав. Мать была жива – и то ездили раз в году, в отпуск, а теперь кто его знает, как еще все сложится.
Звездное яркое небо неожиданно померкло, откуда-то из-за курганов, уже несколько километров тянувшихся вдоль дороги, наползла туча, и вскоре крупные, по-весеннему тяжелые капли дождя застучали по крыше машины.
– Это уж совсем ни к чему, – забеспокоился шофер, включая «дворники».
Дорога сразу намокла, стала глянцево-синей, неприветливой. Хотелось тут же свернуть с нее куда-нибудь на проселок, где то по одну, то по другую сторону мерцали в темноте, манили к себе теплом и уютом неяркие огни. Люди, которые зажгли эти огни, наверное, уже поужинали и теперь смотрят телевизор, обсуждают день сегодняшний, строят планы на завтрашний. Хотелось посидеть рядом с ними в покое и теплоте, думая и мечтая о простых, повседневных делах, из которых в основном и складывается жизнь человеческая.
Но Николаю думать сейчас об этом не полагалось. Машина, омываемая дождем, неслась в темноте навстречу самому печальному, что случается переносить человеку, навстречу страданию и плачу. Гроб, кажется, тоже отсыревший, промокший, покачивался, поскрипывал на растяжках. Лежать в таком гробу, наверное, особенно одиноко и страшно.
– Я посижу возле нее, – предупредил Николай шофера и, придерживаясь за спинку сиденья, перебрался в кузов.
Никем не видимый в темноте, он положил руки на гроб, погладил ладонью дешевый, кое-где неровно прибитый материал и вдруг подумал, что, может быть, гроб пуст, что, может, там никого нет и что все это: и материна болезнь, и дождливая весенняя ночь, и шуршащая по мокрому асфальту машина – просто приснились, причудились ему, а завтра, когда встанет солнце и они приедут в село, мать, как всегда, выйдет на крыльцо встречать их, обнимет и поцелует Николая.
– Вы подремлите там немного, – окликнул его шофер, – я в такой дождь не усну.
– Хорошо, – согласился Николай и действительно прикрыл глаза, но вовсе не для того, чтоб задремать, уснуть. О сне теперь не могло быть и речи: все тело у него напряглось, сжалось в один-единственный комок, но с закрытыми глазами Николаю лучше, покойней было думать о матери, об их совместной, такой недолгой, промелькнувшей, как один день, жизни. Вспоминалось все, и все казалось важным и неповторимым.
Вот Николай болеет скарлатиной, и мать, укутав его тулупом, везет в районный центр, в больницу. Он уже знает, что его оставят там, и плачет, потому что до этого ему ни разу не приходилось разлучаться с матерью.
А вот они на утренней заре боронуют только что засеянный клинышек проса. Боронуют вручную, «на себе», старенькой, одолженной у деда Иваньки бороной с дубовыми, отполированными до лакового блеска зубьями. Работа эта тяжелая, «лошадиная», и, чтоб как-то облегчить ее, мать вдруг начинает петь хороводную шуточную песню:
А мы просо сеяли, сеяли,
Ой, ди-лада, сеяли, сеяли.
Николай, посильнее налегая на веревку, тоже в шутку отвечает ей:
А мы просо вытопчем, вытопчем,
Ой, ди-лада, вытопчем, вытопчем.
И уж веселей и легче им работать. Борона, кажется, сама бежит по полю, разрыхляя влажные от утренней росы комья земли, оставляя за собой ровные неглубокие борозды.
Потом вспомнилась ему первая поездка на родину отца, в маленький, затерянный среди лесов поселок Мосты. Все пять километров от села до районного центра мать несла Николая на плечах, изредка лишь опуская на землю, чтоб он пробежался по травке, размял ноги. Хорошо было Николаю держаться за материны плечи, смотреть вдаль на только что восстановленный железнодорожный мост через речку Сновь, на чудом уцелевшую водокачку, на районную двухэтажную школу, которую Николай принимал за поезд.
Вокзал был разрушен, и они с матерью долго сидели на длинных, построенных на скорую руку под тополями скамейках рядом с солдатами, по большей части ранеными, безногими, безрукими, слепыми. Потом они ехали на поезде, который оказался совсем не похожим на школу. Запомнилась Николаю печка-буржуйка, холодная, заржавевшая в летнюю пору, квадратные окна с тугими ремнями и еще дым от паровоза, то черный, страшный, вьющийся, словно какое-то чудовище, вдоль поезда, то легкий, белесый, рвущийся в прозрачно-голубое высокое небо.
Вышли они с матерью на коротком полустанке Деревины, где поезд стоял всего две минуты. Попив воды из глубокого каменного колодца, они пошли по широкой песчаной дороге, вдоль которой тянулись, волновались на жарком ветру уже начавшие дозревать ржаные поля. Мать изредка наклоняла колосок, выбивала из него на ладонь зерна и отдавала Николаю. Он высыпал зерна в рот, еще совсем мягкие, не успевшие как следует затвердеть, долго жевал их, ощущая во рту хлебный, чуть-чуть терпкий запах. Мать улыбалась, брала Николая опять на руки, и они шли дальше, разговаривая и мечтая о том, как их встретят в Мостах.
Вскоре по правую сторону от дороги показалось село Кусеи, окруженное садами и длинными полосами цветущих подсолнухов. Николай думал, что они зайдут сейчас в село, так манившее их высокими журавлями колодцев, рясно уродившим белым наливом, прохладой верб и осокорей, которые почти смыкались кронами над неширокими улицами. Но дорога повела их по околице, мимо кузницы и конной молотилки, мимо плетней и канав, разъединяющих огороды и луг. Раза два она нырнула в небольшие овражки, заросшие полынью, и уперлась в ручей, за которым начинался громадный темно-зеленый лес. Но добраться до этого леса было не так-то просто. Вначале надо было перейти через ручей по узенькой шаткой кладке, а потом через луг, сплошь заполоненный гусиными стаями. Николаю стало страшно, потому что гуси, завидев их, начали подниматься с насиженных мест, вытягивать длинные шеи, гоготать и шипеть. Он крепче прижался к матери, готовый заплакать, но она успокоила его, сломала лозовый прутик и смело шагнула на кладку. Та пошатнулась раз-другой, прогнулась, почти касаясь воды, но все-таки выдержала и мать, и Николая и перенесла их на другой берег. На гусей, которые заволновались, загоготали еще сильней, мать замахнулась прутиком, и они расступились, пропустили их к лесу. Николай осмелел, обрадовался и, оборачиваясь к ручью, стал дразнить гусей: «Гуси, гуси! Га-га-га!» Мать тоже чему-то радовалась и целовала Николая в щеку.
Дальше дорога шла лесом: то сосновым бором, то густым, непролазным орешником, то дубравой, где каждый дуб был такой толщины, что Николай с матерью, сколько ни силились, но так и не смогли его обнять.
В лесу было сумрачно, прохладно. Николай все чаще просился у матери на землю и бежал рядом, весело шлепая босыми ногами по травянистой тропинке. Время от времени Николай вспоминал гусей и принимался объяснять матери, что сидели они там, на лугу, не просто так, что это злой-презлой волшебник заставил их стеречь лес, и чтобы освободить гусей, надо сделать какое-либо доброе дело. Мать соглашалась с ним, говорила, что вот Николай вырастет и совершит много-много хороших дел.
Неожиданно дорога раздвоилась. Одна, обогнув небольшой осиновый кустарник, побежала влево, а другая, прячась в густой нетронутой траве, – вправо. Мать на минуту остановилась, припоминая, куда идти. И припомнила: отец, с которым она за недолгие годы замужества всего несколько раз ездила в Мосты, всегда останавливался здесь, на раздорожье, и шутя говорил: «Налево дорога в Карповку, туда не ходи, там леса дремучие, люди злые, а направо – в Мосты, там и люди веселее, и леса прозрачнее». Смешной, наверное, был у Николая отец… Они свернули направо. Леса действительно вскоре закончились, и их встретил рокотанием ветряной мельницы маленький, в две улицы, поселок.
Потом в годы детства и юности Николай часто ездил в Мосты, где все признавали в нем отцовскую кровь, хотя он больше походил на мать. Но все-таки та самая первая поездка запомнилась ему больше остальных и не выходит из памяти до сегодняшнего тяжелого, горестного дня.
– Я вот еду и все думаю, – опять заговорил шофер, – может, согласись Танька на дружбу с моим Славиком, все бы и обошлось…
– Почему вы так думаете? – отвлекся от своих воспоминаний Николай.
– Да не любил ее никто сильнее…
Николай перебрался назад к шоферу, но ничего не ответил. Любовь, конечно, есть любовь, но жизнь сильнее и суровей ее…
Грозовая лиловая туча потихоньку отстала от них, переместилась куда-то на запад, но вместо нее нависли над ночной дорогой низкие лохматые тучи обложного дождя. Он мелко, убористо застучал по ветровому стеклу, по крыше; со всех сторон машину окутал густой туман. Лучи фар едва отнимали у него несколько метров мутного кирпично-сизого пространства.
Вскоре они заблудились. В кромешной мокрой темноте шофер не заметил указателя, и они километров десять ехали по какому-то заброшенному, изрытому трещинами и выбоинами асфальту. Но вот и он закончился, истаял в грязной черноземной дороге. Шофер, ругая погоду, дорожников и самого себя, начал разворачиваться. Николай попробовал его успокаивать, но потом замолк и даже как будто задремал. Ему вдруг представилось, что во всем этом пустынном ночном пространстве нет нигде ни единого живого существа, ни единой деревеньки или хуторка и что теперь им ни за что не выбраться на дорогу. В какую бы сторону они ни поехали, везде их ожидает одно и то же: тоскливая, безмолвная темень, нескончаемый, надоедливый дождь, низкие, почти соприкасающиеся с землей тучи. И среди этих туч, темноты и дождя им теперь предстоит странствовать вечно на утлой, дребезжащей машине, и мать останется так и не захороненной…
– Кажется, выбрались, – облегченно вздохнул шофер, разгоняя машину.
Николай открыл окно, набрал в горсть воды и плеснул себе в лицо. Но она нисколько не взбодрила его, не освежила, почему-то показалась затхлой и неживой. Он устало откинулся на спинку сиденья и, наверное, больше часа ехал в полудреме, в полузабытьи, ни капли не веря словам шофера и не желая им верить. Ему захотелось навечно остаться в этой ночи с матерью, блуждать и кружить по бесконечным дорогам, лишь бы потом, в будущем, не возвращаться к жизни, не радоваться ее светлым непреходящим дням…
Пробудился, пришел в себя он уже на рассвете. Дождь постепенно затих. Небо на востоке начало сереть, еще мутное, глухое, но уже готовое принять в свои объятия возвращающееся с ночлега солнце. Мокрые деревья по обе стороны дороги проступили резче, определенней, дрожа на утреннем ветру чистыми клейкими почками…
При выезде из Чернигова они остановились возле заправочной станции. В это раннее время было здесь пустынно, голо, лишь на бугорке, опершись на палочку, стояла крохотного, почти игрушечного роста старушка. Завидев машину, она проворно подошла поближе и принялась просить шофера:
– Довези, сынок, до Березанки.
– Не могу, – отказался тот.
– Почему же? Машина, чай, пустая?
– Груженая, – стоял на своем шофер.
Старушка обиженно замолчала, но потом принялась просить снова:
– Мне только до церкви. Чистый четверг сегодня.
– Ну ладно, садись, – сжалился шофер.
Старушка быстренько, заученно (видно, ездила не первый раз) открыла дверцу, глянула на привязанный к ножкам сидений, словно распятый гроб, на чуть привявший хвойный венок и отшатнулась:
– Что ж ты сразу не сказал?
– Я говорил. Груженая машина.
Старушка склонила голову, тихонько перекрестилась и вдруг спросила Николая, неизвестно как почувствовав, что кто-то умер именно у него, а не у шофера:
– Отец или мать?
– Мать, – ответил Николай.
– Старая?
– Нет.
Неожиданно старушка заплакала. Слезы навернулись ей на глаза, сделав их какими-то зеркальными, ледяными, потом упали на щеки, но никуда не потекли, застыв в глубоких темно-коричневых морщинах.
– Как звали-то? – опять спросила она Николая.
– Галиной, – ответил он. – А зачем вам, бабушка?
– Помяну в церкви, свечечку поставлю, если, конечно, позволите.
– Позволим.
Старушка поправила за плечами узелок, взяла в правую руку палочку и, намереваясь идти, пожелала им:
– Ну, езжайте с богом.
– А вы? – спросил Николай.
– Я пешочком. Тут ведь недалече.
– Да чего там, садитесь, – стал упрашивать ее шофер.
– Нет, сынок, нельзя с таким грузом. Не к месту я здесь.
Еще раз перекрестив Николая и низко, до пояса поклонившись гробу, она бойко, упрямо застучала по обочине палочкой.
– Горе с этими старушками, – вздохнул шофер. – Нет им покоя.
Николай хотел было заступиться за старушку, но не успел. Яркое утреннее солнце, выкатившись из-за холма, ослепило ему глаза, ласково пробежало по лицу, но рукам, потом упало на асфальт к колесам машины, словно вслед за старушкой тоже кланялось умершей матери.
– Поехали, – предложил он.
– Поехали, – завел мотор и хлопнул дверцей шофер.
Старушку они обогнали на повороте дороги. Шаркая по асфальту стоптанными ботинками, она шла как-то не по-стариковски легко и споро. Услышав, как гудит машина, она на минуту остановилась и, заслонившись от встречного солнца рукой, проводила ее долгим прощальным взглядом. Николай не выдержал и отвернулся, хотя, казалось бы, что ему до этой старухи и что ей до его еще не до конца оплаканного горя…
Вскоре начались его родные, знакомые с детства места. Справа бежали рассеченные кое-где перелесками, оттаявшие после зимы зеленя, а слева тянулись бурые Кучиновские торфяники. Когда-то, после войны, здесь были торфяные разработки, и Николай с матерью не раз приезжал сюда на волах.
Где-нибудь в июле месяце, когда торф, сложенный в высокие, похожие на крыши штабеля, просыхал, мать договаривалась с председателем насчет волов, созывала учеников, и рано поутру обоз подвод на двадцать отправлялся в дорогу. Первым всегда ехал безногий Андрей Кислый, единственный во всем обозе мужчина. Потом ученики, которые постарше, потом школьная уборщица Христя, а в самом конце Николай с матерью. Поутру волы, только что вернувшиеся с луга, шли бойко, напористо; обильно смазанные дегтем возы весело покачивались над дорогой, заросшей по обочинам нехворощью и полынью. Но вот солнце припекало все сильней и сильней, утренняя роса высыхала, и колеса уже по самую ступицу проваливались в хлипкий разгоряченный песок. Волы замедляли ход, не торопясь, словно нехотя, переставляли ноги, поднимая за собой длинную, белесую тучу пыли. К полудню обоз потихоньку втягивался в хвойный, пропитанный смоляным запахом лес. И тут начиналось, самое страшное. Сотни оводов и мух нападали на волов, лезли им в глаза, в ноздри, густо облепляли спины. Волы вначале, казалось, довольно равнодушно отмахивались, но вскоре их беспокойство все росло и росло, и вот уже какой-нибудь молодой, не привыкший еще к тяготам дальних дорог вол кидался в лес, надеясь укрыться там в тени сосен. Вслед за ним, ломая оглобли и выворачивая колеса, неслось в лес еще несколько подвод. Поймать и вернуть в обоз разъяренных быков было не так-то просто. Случалось, один или два из них убегали даже назад на колхозный двор.
Но как бы там ни было, а часам к двум обоз все-таки добирался до болота. Стреножив и отпустив пастись волов, ученики принимались нагружать возы торфом. Дело это тоже не простое. Торфяные кирпичики надо уложить на возу штабельком, туго прижав друг к дружке, так, чтобы этот штабелек выдержал шаткую песчаную дорогу. Иногда выносить торф к возу приходилось корзинами по топкому болоту, проваливаясь по колени, а то и выше в воду. Тяжелая эта погрузка часто затягивалась почти до вечера.
Николай во всем обозе был самым меньшим. Грузить торф у него силы еще не хватало, и мать поручала ему пасти волов. Стреноженные, они далеко разбрестись не могли, но он все равно зорко следил за ними, бегая вдоль болота с длинным сыромятным кнутиком в руках, который у них в деревне назывался «пугою». Насытившись, волы ложились где-нибудь на взгорке отдыхать, а Николай стремглав бежал в небольшой лесок, что начинался сразу за болотом, набрать черники. Попадалась она редко, потому что на болота за торфом ежедневно приезжали со всей округи и уж, конечно, в каждом обозе находился свой подпасок.
Пока он бродил по лесу, погрузка заканчивалась, и все садились обедать. Николай, перемазанный черникою, тоже примащивался рядом с матерью. Она доставала из льняного платочка хлеб, кусочек поджаренного утром сала, бутылку молока. Слежавшийся хлеб был как-то по-особому вкусен и по-особому пах лесом, травою и почему-то черникою. Николай, изредка поглядывая на учеников, на мать, запорошенных черной торфяной пылью, уплетал его за обе щеки и был доволен всем на свете…
Потом начиналась трудная, тяжелая дорога домой. Волы, туго натягивая ярма, шли совсем уже медленно, груженые возы скрипели, кривились на ухабах то в одну, то в другую сторону, грозясь растрясти торфяные пирамиды. Мать время от времени обходила весь обоз, подбадривала притомившихся учеников, смотрела, не случилось ли где чего. А случалось на обратной дороге всякое. То вдруг спадет с колеса шина, то сломается и выпадет загвоздка, то предательски затрещит где-нибудь на повороте оглобля. Но самое страшное, когда лопнет дубовая, рассчитанная на долгую службу ось. Тогда весь обоз останавливался, Андрей Кислый, опираясь на палки, осматривал поломку, что-то стягивал проволокой, куда-то забивал гвозди, в надежде, что ось потихоньку дотянет до ближайшего села – Лосевой Слободы. Так оно чаще всего и случалось. А в Лосевой Слободе, пока волы пили возле колодца воду из длинного долбленого корыта, мать с Николаем шли к председателю договариваться насчет воза. Переговоры эти часто бывали длинными и затяжными. Председатель не хотел верить, что завтра же воз вернут в целости и сохранности. Но мать наступала, требовала, и председатель в конце концов сдавался, улыбаясь неожиданно весело и чисто: «Откуда ты взялась такая настырная?!»
Торф быстро перегружали на новый воз, и подводы двигались дальше. Мать, чувствуя, что Николай совсем уже устал, иногда сажала его на штабель торфа, и он с полчаса ехал так, отдыхая и оглядывая все с высоты. А видно ему было многое: вон стоят возле норок любопытные суслики, вон далеко, почти на горизонте, машет мотовилом, словно крыльями, жатка, вон возле глинища кто-то таскает из глубоких пещер красную тяжелую глину.
Домой обоз приезжал только к вечеру. Быстро разгрузив торф и отогнав на луг волов, ученики шли купаться. Мать тоже вела Николая к речке, и он почти до самой темноты плескался в теплой, настоявшейся за день воде.
После, зимою, они с матерью, греясь возле жарко натопленной торфом печки, не раз вспоминали эту поездку. Мать обещала Николаю, что в следующем году он будет уже наравне с другими учениками сам управлять волом. Николай радовался этому, и так хорошо, так неповторимо хорошо было сидеть ему рядом с матерью вечером возле раскаленной печки…
Никогда этого уже не будет, никогда, до конца его торопливых дней…








