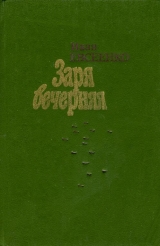
Текст книги "Заря вечерняя"
Автор книги: Иван Евсеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 30 страниц)
На базаре народу заметно прибавилось. Сейчас начинаются самые бойкие часы. Я занимаю место возле прилавка, а Тася бежит в магазин, чтоб взять еще буханку хлеба. Семья у нас все-таки из четырех человек, и если мы завтра на базар не пойдем, то одной буханки нам, конечно, на два дня не хватит.
Тася уже кое-что продала: несколько пучков редиски, литр молока, баночку сметаны. Но основная торговля еще впереди. Ревниво поглядывая на Рубанок, я начинаю зазывать покупателей. Они подходят, хотя и редко: редиски на базаре полным-полно, молока тоже. Сейчас ведь самое удойное время. Коровы во всех пригородных селах: и у нас в Займище, и в Гвоздиковке, и в Носовке пасутся на заливных лугах, где травы вдоволь.
Городок наш небольшой, и многих покупателей я хорошо знаю. Вот медленно идет между рядами старый сухощавый мельник, весь пропахший мукою и рожью. В прошлом году, когда мы с матерью мололи у него свое жито, он здорово подшутил надо мной. Я стоял возле мельничного рукава и наблюдал, как теплая и даже чуть-чуть липкая мука сыплется в зацепленный за гвоздик мешок. Мельник подошел ко мне, набрал горсть муки, помял ее пальцами, как бы проверяя помол, а потом вдруг попросил:
– Понюхай, не прелая?
Я доверчиво склонился над его ладонью, втянул в себя горячий мучной запах, и тут мельник легонько ткнул меня в муку носом. У меня перехватило дыхание, я закашлялся, зачихал, на глазах сами собой навернулись слезы. Мужчины и женщины, которые сидели на мешках, дружно засмеялись, глядя, как я отряхиваюсь от муки. Засмеялся и мельник. Шутка эта считается необидной. Ее проделывают с каждым, кто впервые попадает на мельницу. Но я обиделся. И не столько на мельника, сколько на самого себя. Мне ведь об этой шутке рассказывала и мать, и дед Игнат, да и на мельнице я был не первый раз – а вот все-таки попался…
Купив у Рубанок два пучка редиски, мельник прошел мимо и даже не глянул в мою сторону. Конечно, он меня не помнит. Мало ли каких мальчишек не бывает на мельнице и мало ли с кем он не проделывает свою излюбленную мучную шутку!
Вслед за мельником появляется под ручку со своей женой Саррой Зяма, но не тот, который футболист, а тот, который собирает тряпки. Тяжело постанывая, он наклоняется над моим платком и начинает выбирать редиску. Нет никакой силы смотреть, как он это делает. Каждую редисину Зяма долго и мучительно давит пальцами, проверяя, не пустая ли, вертит в руках пучок и так, и этак и даже дует на ботву, словно на куриное перье. Наконец, о чем-то посоветовавшись с Саррой на непонятном нам еврейском языке, он достает деньги и бросает редиску в авоську, где уже копошится связанная по ногам курица.
Через минуту-другую после Зямы проходит по базару, ласково и приветливо всем улыбаясь, учитель математики Бидулин. Говорят, в войну у него погибла вся семья, а сам он чудом остался в живых – спасся от расстрела у нас в Займище. Теперь Бидулин живет один-одинешенек. На базар он ходит чаще всего за молоком. Покупает всего поллитра и никогда не торгуется.
Изредка возле нас останавливается бабкина сестра Дуня, которая живет в городе, на самой его окраине. Она совсем еще не старая, всего пятидесятилетняя, и мы зовем ее тетей, хотя полагалось бы звать бабкой. Тетя Дуня расспрашивает нас о здоровье бабки Марьи, о материной работе, передает приветы от своего мужа, старого, всегда заросшего седою щетиною деда Хоменко. У нас тетя Дуня ничего никогда не покупает. Вокруг дома у нее громадный сад, где, кроме яблонь и груш, растет и редиска, и лук, и морковка. Корову тетя Дуня тоже держит, так что молока у нее вдоволь своего.
Но разговоры разговорами, а дело – делом. Оставив редиску под присмотром кого-нибудь из соседей, я бегу на другой конец базара выполнять бабкино поручение – купить дрожжей и лаврового листа. Ими торгует высокий, чуть-чуть обрюзгший мужчина без рук. Вернее, руки у него есть, но кисти на них то ли обморожены, то ли обгоревшие. Смотреть на этого мужчину немного страшно, и я стараюсь, если нет надобности, обходить его стороной. Но сегодня никуда не денешься – бабкин наказ выполнять надо, а дрожжами и лавровым листом на базаре больше никто не торгует. Товар этот очень редкий, ни в одном магазине его не купишь. Безрукий достает его где-то в Гомеле или даже в самом Минске, а потом продает у нас на базаре втридорога. Но никто его за это особенно не осуждает. Пусть даже втридорога, но дрожжи у него все-таки можно купить. Это во-первых, а во-вторых, все понимают, что другим способом с такими руками, как у этого мужчины, на хлеб не очень-то заработаешь.
Осторожно, стараясь не поднимать глаз, я подхожу к нему и прошу отрезать ломтик дрожжей. Обычно он справляется с этим сам. На гвоздике у него зацеплена толстая, суровая нитка. Он подсовывает под нее пачку дрожжей и, присев на корточки, тянет на себя зубами. Но сегодня он поручает отрезать дрожжи мне.
Немного робея, я беру в руки нитку, кладу ее на развернутую пачку дрожжей, стараясь угодить точно посередине, и спрашиваю:
– Вот здесь?
– Здесь, – отвечает мужчина и командует. – Режь!
Я отрезаю, а он смотрит на мои руки. Смотрит и молчит. Вообще он человек молчаливый. Разговаривает лишь после того, как хорошо выпьет. А пьет он часто. Я не раз видел его за столиком в станционном буфете. Зажав в культях полный стакан водки, он медленно, безотрывно выпивает его, потом склоняется над столом и откусывает кусок хлеба. Пьяный, он бывает очень буйным и опасным. С ним не могут справиться даже несколько взрослых мужчин.
Завернув дрожжи и лавровый лист в клочок газеты, я бегу на свое место, прячу покупку в кошелку и, радуясь, что бабкино поручение выполнено, громко и звонко кричу на весь базар:
– Берите редиску! Берите редиску!
Но ее не очень-то берут – на базаре от редиски красным-красно.
С буханкой хлеба в платке возвращается из магазина Тася. Вдвоем торговать и легче, и веселей. Забыв о предостережениях бабки Марьи, мы сбавляем цену, начинаем продавать редиску по три пучка на рубль и часам к десяти вытряхиваем из платков на землю остатки подсохшей порыжевшей ботвы.
Теперь можно и домой: товар распродан, две буханки хлеба, аккуратно завернутые в чистый платок, лежат в кошелке, деньги посчитаны. Но сколько соблазнов таится для нас и на базаре, и в городских магазинах!
Как ни старайся, но ни за что не пройдешь на базаре мимо опрятной ласковой старушки, торгующей медовыми пряниками. На прилавке перед ней разложены и «лошадки», и «рыбки», и «барышни». Все они темно-коричневые, чуть-чуть приторно пахнущие медом, все искусно разукрашены кремом трех цветов: белым, розовым и голубым. Старушка по этой части большая выдумщица. На «рыбках» она делает чешую, «лошадкам» подрисовывает гриву и копытца, а у «барышень» разукрашивает кофты и передники настоящими цветами. Тут уж хочешь не хочешь, а доставай деньги… Есть у старушки и особые, «лечебные» пряники. Они лежат всегда чуть в стороне и видны еще издалека. Сверху эти пряники густо посыпаны продолговатыми горькими на вкус семенами. Когда мы были совсем маленькими, бабка Марья часто нам их покупала. Говорят, от них у детей перестают болеть животы. Ели мы эти пряники не очень охотно, старались незаметно повыковыривать семена. Но бабка следила за нами зорко и, случалось, грозилась:
– Вот я вам!..
Но теперь нам эти пряники совсем ни к чему. Животы у нас привычны к любой еде и болят очень редко.
Переглядываясь друг с другом, мы стоим возле старушки и минуту, и другую, и третью – шепчемся. Старушка замечает нашу нерешительность, приглашает подойти поближе, ласково уговаривает что-нибудь купить. Мы подходим. Тася уже достает деньги, но в самое последнее мгновение мы все-таки сворачиваем в сторону и прячемся от старушки в толпе. Конечно, купить по прянику очень уж соблазнительно, но есть тут у нас свои небольшие хитрости, свои соображения и расчеты. Тася собирает деньги на ленты, а я на перочинный ножик. Просить на это денег у матери нам немного совестно. Лент у Таси и без того вдосталь, а перочинные ножики я теряю по три штуки на год. Вот мы и пускаемся на всякие уловки. Говорим бабке, что купили себе по «лечебному» прянику, а на самом деле откладываем деньги для своих заветных покупок. Матери же после можно будет во всем признаться. Она лишь посмеется над нами:
– Ох уж мне хитрецы!
Перебежав через дорогу, мы идем в городской сквер, садимся на лавочку возле фонтана и съедаем по довеску хлеба, запивая водой из глубокого каменного колодца, что стоит неподалеку от школы номер два. Ничего нет вкуснее этого хлеба, этой воды, холодной и чистой, ничего нет отрадней, как сидеть вот так вдвоем на лавочке после стольких переживаний и тревог…
Дома мы отчитываемся перед бабкой за торговлю, выкладываем из кошелки хлеб и бежим изо всех ног на речку – искупаться.
Хорошо после долгой утомительной дороги лежать на горячем прибрежном песке, выкладывать из камушков и ракушек всякие города и крепости, хорошо плавать и нырять вместе с другими ребятами в неглубокой речной заводи…
Но на все это времени нам отведено совсем мало. Дома ведь каждого из нас ждет работа. Сестры Коропец, немного передохнув, поедут в луга за щавелем, Ваня Смоляк в три часа пойдет занимать стадо, чтоб пасти его до самой темноты на выгоне, Петя Ушатый будет возиться с Людой, а у нас с Тасей своя ежедневная забота. Вооружившись серпами, мы отправляемся в березняк по траву для коровы и теленка.
Чистое наказание нам эта трава! Была у нас раньше старая покладистая корова, которая доилась без всякой травы. Но несколько лет тому назад она выколола себе на пастбище глаз, и мать продала ее. Себе мы оставили телку. Когда она была маленькой, мы в ней души не чаяли, целый день таскали траву, подкармливали хлебом, поили молоком. Вот она и выросла такой избалованной и норовистой. Молоко Мурка отдает лишь тогда, когда в ковше у нее лежит трава, и не какая-нибудь, а обязательно чтоб из березняка. Есть у нее и еще одна причуда. Она очень боится, когда молоко стучит о доенку. Поэтому мать доит ее вначале в черепяную миску, которую специально для этого завела, а потом уж сливает молоко в доенку. Тоже большое неудобство. Мать несколько раз заговаривала о том, чтоб корову эту продать, но бабка Марья всегда противится. Довод у нее один и тот же:
– Еще неизвестно, какую купишь!
Вот и мучаемся мы со своей Муркой.
Когда подходишь к березняку, то издали кажется, что травы в нем полным-полно, что стоит она на полянах прямо-таки стеною и нажать нам с Тасей две попоны легче легкого. По это только издали. А подойдешь поближе и видишь, что трава на полянах реденькая-пререденькая. Попону здесь не нажнешь даже за целый день. Поэтому мы лезем сразу в кусты. Жать там, конечно, неудобно: все оцарапаешься о ежевику и крушину, в кровь исколешь себе ноги об острые, оставшиеся от прошлогодней чистки березняка пеньки. Да и от комаров, которые в дневное жаркое время прячутся здесь в зарослях, тебе вдоволь достанется. Но деваться некуда! Хочешь пить молоко – собирай траву!
И мы собираем. Вначале жнем траву в корзины, а потом сваливаем ее в попоны, расстеленные где-нибудь на поляне. Чтоб было интересней и легче, мы придумываем себе немудреную забаву – начинаем соревноваться, кто скорее выполнит норму. Счет идет на корзины. Надо нажать шесть или семь корзин, тогда получится плотная увесистая попона. Чаще всего побеждает Тася. И не потому, что она старшая, а потому, что не суетится, как я, не бегает без толку от куста к кусту, а, стоя на одном месте, жнет траву горсть за горстью размеренно и терпеливо. Но в конце, если я слишком уж отстану, Тася обязательно мне поможет. Она у меня настоящая старшая сестра…
Дома мы сваливаем траву в темном, прохладном уголке сарая, прикрываем сверху попонами, чтоб ее не разгребли куры, и присаживаемся на крылечке немного отдохнуть. Тася тут же выносит книжку (она не теряет нигде ни минуты), а я сижу просто так, наблюдаю, как носятся высоко в небе мои любимые птицы – ласточки, как летит из Чернигова на Гомель почтовый самолет «стрекоза», как Шура Крумкач, помогая деду Елисею, плетет новый плетень. Я по-хорошему завидую Шуре. Вот был бы жив мой дед Сашок, я бы тоже помогал ему плести плетень, подносил бы остро заточенные колья, раскладывал бы на кучки лозовые прутья, чтоб деду было сподручней их брать. А еще лучше, если бы был жив отец. Уж с ним бы мы любой плетень построили вмиг…
Опять я начинаю думать о том, что отец еще, может быть, вернется, строю всякие планы и надежды. Надеждам этим и планам нет конца, как, наверное, нет конца и моим ожиданиям…
А время между тем бежит. Чутким ухом я улавливаю, как в городе протяжно и устало гудит деповский гудок. Значит, пять часов, закончилась дневная смена. Решительно, хотя и не очень бодро, я поднимаюсь с крылечка. Вечер уже не за горами, а мы с Тасей еще не наносили в бочку воды. Это тоже наша забота. Вода нужна, во-первых, для того, чтоб не рассыхалась бочка, в которой мать в августе будет солить огурцы, а во-вторых, для того, чтоб корова, вернувшись с пастбища, могла как следует напиться. Воду мы носим из Елисеевого колодца. Иногда его еще зовут Смоляковым, потому что больше всего за колодцем следит отец Вани Смоляка Иван Николаевич. Он часто меняет на журавле ведро, чинит дубовую ограду, раз или два в году созывает всю улицу чистить колодец и, когда вычерпывают воду, первый спускается по шаткой лестнице на дно, чтоб выбрать ил и подновить нижние, поросшие мхом венцы сруба. Иван Николаевич приучил нас относиться к колодцу бережно, без дела вокруг него не бегать. Оно и правильно. Обрушится наш колодец, что тогда делать?! Придется ходить всем селом по воду к Хоминому колодцу, а это намного дальше, да и вода там похуже.
Поставив ведра на лавочку, мы начинаем набирать воду. Самое тяжелое – это опустить журавль с пустым ведром на дно колодца. Ведь на другом конце свода крепко прибиты Иваном Николаевичем несколько траков от танковой гусеницы. Они, словно соревнуясь с нами, словно испытывая нашу силу и терпение, не пускают ведро к воде, норовят поднять нас на журавле высоко вверх. Но мы хитрее их. Вдвоем взявшись за отполированный до коричневого лакового цвета крюк, мы опускаем его в пугающую темень колодца в четыре руки. Потом кто-нибудь один (чаще всего Тася) поворачивает ведро набок и ловким резким движением топит его в воду. Крюк сразу напрягается, тяжелеет, теперь надо лишь легонько придерживать его, а танковые траки сами вынесут ведро на поверхность. Мы часто с ребятами спорим, от какого танка эти гусеницы: от нашего или от немецкого. Нам хочется, чтоб были от немецкого. Раз гусеницы сняты с танка, значит, он был подбит…
Наносив полную бочку воды, мы ведра не бросаем. Жара уже немного спала, и можно поливать Тасины клумбы, а заодно и отцовскую березку, которая никак не может вырасти выше забора. Цветы Тася поливает всегда очень тщательно и даже чуть-чуть смешно. Вначале из кружки, а потом набирает воду в рот и брызгает, низко склонившись к земле. Я же больше тружусь возле березы: делаю вокруг ствола желобок из песка и выливаю туда целых два ведра воды. Пока вода пенится и входит в землю, я смотрю на березу и никак не могу понять, почему она растет так медленно. Ведь уже прошло целых десять лет, как отец посадил ее, а она толщиной всего в палец…
Неожиданно на крылечке появляется мать и окликает нас:
– Пойдемте по аир!
– Пойдем, – быстро соглашаемся мы, приносим последние два ведра воды, ставим их в доме на лавке и бежим во двор, где мать уже готовит косу и грабли.
Ранней весной мы ходим с матерью по аир, чтоб полакомиться первой майской зеленью, а сейчас, летом, он пригоден лишь на подстилку корове. Можно еще, правда, сдавать корни аира в аптеку, но дело это кропотливое, нескорое. Корни надо вырыть из земли, почистить, просушить, а после этого их на килограмм идет очень много – за целый день не насобираешь. Стоят же в аптеке корни очень дешево, так что никто этим делом, даже мы, ребятишки, заниматься по-настоящему не хочет.
Осторожно раздвигая руками подсолнухи, мы пробираемся разорою вначале в грядки, а потом через небольшое болотце на пастольник. Я бегу впереди, несу в кармане монтачку, следом идет Тася с попонами и поводком под мышкой и в самом конце мать с косою и граблями на плече. Коса у нас старая, еще дедовская. Вернее, даже не коса, а скосок. За долгие годы полотно у косы источилось почти до основания, клепать и монтачить его очень трудно. Но все равно многие мужики не прочь поменять свою косу на наш скосок, потому что он сделан из какой-то особой, редко теперь встречающейся стали. Мать это знает и меняться не хочет. Обыкновенную косу мы можем купить в любом магазине, а такую, как у нас, попробуй достань…
Аир на пастольнике стоит густой темно-зеленой стеной почти до самого леса, до речной едва виднеющейся излучины. Мать говорит, что раньше, в ее детстве, здесь росла настоящая трава, а аир ютился лишь небольшими островками на болоте вдоль огородов. Но потом он разросся и заполонил весь пастольник. Председатель нашего колхоза Василь Трофимович не раз заговаривает о том, что пастольник надо бы перепахать и заново засеять травою. Но сил в колхозе на это пока что нет. Польза колхозу от пастольника одна-единственная. Летом, когда траву на правобережных лугах хранят для сенокоса, сюда гоняют колхозное стадо. Аир ведь понизу кое-где зарастает негустым гусятником. Вот коровы понемногу и выбирают его. Насытиться этим гусятником они, конечно, как следует не могут, но зато здесь река, водопой, свежий луговой воздух.
Выбрав делянку аира поближе к нашему огороду, мы готовимся к косьбе. Мать монтачит косу. Делает это она по-мужски умело и ловко. Когда она монтачит пятку косы и держится лишь за косье, звук получается чистый, звонкий, далеко слышимый. Когда же мать перехватывает косье под мышку и кладет левую руку на полотно косы, звук гаснет, вырывается из-под монтачки глухим, сиплым.
Но вот мать просит нас отойти в сторону, широко размахивается и начинает первый покос. Мышцы на ее руках то напрягаются, поднимаясь высокими тугими буграми, то опадают, готовые к новому замаху. Босыми ногами мать шаг за шагом ступает по колкой травяной стерне, вдавливает ее в топкую болотную землю двумя бороздками. Если быть внимательным, то можно расслышать, как эти бороздки совсем по-живому дышат, наполняются прохладной торфяной водой. Каждый раз, когда мы приходим косить аир, я прошу у матери:
– Можно попробовать?
Мать останавливается, вытирает косу пучком аира, начинает монтачить ее и отвечает:
– Рано еще… накосишься.
Но я все равно не отстаю. Вот и сегодня, подождав, пока мать пройдет первый покос, принимаюсь просить ее:
– Я чуть-чуть.
Мать неожиданно вздыхает, как-то по-особому смотрит на меня, на мою стриженую голову, и босые ноги в коротковатых с двумя латками на коленях штанах и вдруг разрешает:
– Попробуй.
Я принимаю от матери косу, беру ее по всем правилам: левой рукой за косье, запястьем вверх, правой – за гнутую лозовую ручку. Расставив пошире ноги, так чтоб они попали в проложенный матерью след, я делаю первый взмах. Коса пляшет в моих руках, дрожит. Как легко наблюдать за косьбой со стороны и как, оказывается, трудно привыкать к ней самому. У матери прокос получаемся полукруглым, чистым, без единой оставленной травинки, «чуба», а у меня ни то ни се. Пяткой косы я лишь посбивал верхушки аира, а остальное волей-неволей притаптываю ногами. Мать останавливает меня, принимается поучать:
– Ты на пятку не нажимай, носок заводи в прокос.
Слушаясь ее, я еще при замахе прижимаю косу к земле и завожу в прокос носок, но он предательски врезается в торфяник и застревает в нем. Я едва не плачу, поглядываю из-за плеча на Тасю – не смеется ли она надо мной? Но она не смеется, понимает, что косьба – дело мужское, трудное и за один раз ему не обучишься.
Мать же в учении терпеливая, внимательная. Она становится у меня сзади, кладет свои руки рядом с моими, и мы делаем несколько замахов вдвоем. Я улавливаю, понимаю материно движение, и, когда она оставляет меня одного, коса уже не так сильно дрожит у меня в руках, не пляшет из стороны в сторону. Почти как у настоящего косаря она плавно, с размеренным вжиканьем входит в аир, лишь кое-где оставляя невысокие лохматые «чубы».
– Вот и молодец, – радуется за меня мать.
Я смущаюсь, краснею, хотя тоже до беспамяти рад, что прошел этот первый в своей жизни покос.
До сегодняшнего дня я умел рубить дрова, молотить цепом, пахать, а теперь вот попробовал еще и косить, одолел эту самую тяжелую в крестьянской жизни мужскую работу.
Увязав накошенный аир в попоны и вязанку, мы отправляемся домой. Теперь впереди, прокладывая дорогу, идет мать, а мы с Тасей семеним следом. Монтачка основательно тяжелит мне карман, стучит за каждым шагом по ноге, но я не обращаю на это никакого внимания, думаю о том, как вскоре буду ходить на пастольник с косою на плече сам.
Так оно и случается. Еще несколько раз попробовав косить под наблюдением и присмотром матери, я начинаю ходить по аир один, заготавливать на зиму подстилку для коровы.
Закинув косу на плечо, подпоясавшись поводком с дубовой дужечкой на конце, который специально для меня сплел дед Игнат, я почти каждый вечер отправляюсь на пастольник. Первый покос прохожу быстро и напористо, а потом начинаю приуставать: на руках, особенно на левой, вдруг вскакивают волдыри, под ремешком возле пупка прорезается острая, ноющая боль. Она растекается по всему телу, застревает где-то в ногах и в спине. Не детское это, конечно, занятие – косьба. Мать каждый раз, когда я выношу из сарая косу, останавливает меня, говорит, что накосит аиру сама, но я все равно иду на пастольник. Матери одной везде не справиться…
Чтоб перехитрить усталость и боль, я всегда пускаюсь на небольшую хитрость: намечаю себе далеко впереди травинку, возле которой отдохну и помонтачу косу. Так вроде бы легче. До этой травинки я «тяну» покос изо всей силы, подбадриваю себя на выдохе негромким уханьем, которое перенял от деда Елисея. Тот если косит, то обязательно ухает и даже постанывает, облегчая себе работу. Дотянув до заветной травинки, я не останавливаюсь, а кошу дальше до какой-нибудь новой отметинки. Но зато какая радость, когда, одолев себя, дойдешь до нее, зато как хорошо после посидеть, отдыхая, на болотной кочке, расслабить натруженные руки и спину!
Особенно рассиживаться, правда, некогда. Из-за речной излучины уже показалось колхозное стадо. Через какие-нибудь полчаса оно будет возле огородов, и мне надо поторапливаться. Воткнув косу в землю, я начинаю собирать аир для первой вязанки. Связать ее так, чтоб она по дороге не разъехалась, чтоб не тянула в какую-нибудь одну сторону – дело тоже нелегкое. Я накладываю аир на разостланный на бугорке поводок, ровняю, придавливаю коленкой и все прикидываю на глаз – хватит или нет. Тут у меня частенько случаются промашки. Ходить по много раз за накошенным аиром мне неохота, и я прибавляю к уже наложенной вязанке еще одну охапку, потом еще и еще. Ничего – донесу как-нибудь, главное, увязать и поднять на плечи. Увязывать попоны и вязанки я тоже научился от матери. Вначале я захлестываю оба конца поводка за петлю, потом, чуть наживив один конец, другой пропускаю между большим и средним пальцем ноги и начинаю тянуть на себя. Аир под поводком похрустывает, приминается, я время от времени трогаю вязанку рукой – туго ли? Вроде бы туго, поводок совсем уже заклинило между пальцами, он дальше ни в какую не идет – можно завязывать. Справившись с одним концом, я точно таким же манером затягиваю и другой. Теперь надо вязанку обсмыкать со всех сторон, чтоб аир нигде не висел и не падал по дороге. Но вот все готово – вязанка получилась крепкой и ладной – можно и в дорогу. Поплевав на руки, я решительно берусь за поводок и, конечно же, обнаруживаю, что вязанка совершенно неподъемная. Но еще не было такого случая, чтоб я развязал ее назад. Поднатужившись, вскидываю вязанку на колено, а оттуда резким заученным движением за спину. От толчка меня ведет вначале в одну, потом в другую сторону, качает, но я все-таки удерживаю равновесие, тянусь за косой. Кое-как мне удается выдернуть ее из земли и просунуть в заранее сделанную на поводке петлю так, чтоб концом косья можно было поддерживать вязанку сзади. Сразу становится легче, хотя поводок больно врезается в плечо. Но это ничего. Это терпимо. Болотце я прохожу без особых приключений, а вот в грядках меня подстерегают всякие опасности. Во-первых, надо перебраться через канаву, которую когда-то выкопал дед Сашок, чтоб в нее собиралась из огуречных рядов лишняя вода; а во-вторых, надо пройти сквозь строй ольховых тычек, по которым вьется фасоль и горох, миновать настоящий заслон кукурузы, не порушить подпорки на высадках. Иногда мне удается пройти вполне даже благополучно, а иногда, глядишь, треснет где-нибудь тычка, попадет под косу початок кукурузы или тарелка подсолнуха, повалятся на свеклу и морковку подпорки. Тогда не миновать объяснений с бабкой да и поправлять все надо будет самому же.
Но сегодня я прохожу, ничего не порушив, ничего не повалив, успеваю даже свободной рукой сорвать зеленоватый еще стручок сахарного гороху и, вытерев его о штаны, бросить в рот. С таким подкреплением идти полегче.
Ранним летом, когда рожь еще не убрана, я ношу вязанки к самому дому, а с середины июля раструшиваю их на стерне возле грядок. Здесь аир сохнет, здесь я его ворошу граблями, здесь же складываю в копну. Все по-хозяйски, все совсем как у деда Игната или деда Елисея.
Бабка Марья, завидев меня со здоровенною вязанкою на плечах, обычно ругается:
– Надорвешься! Понемногу бы набирал!
– Не надорвусь, – отговариваюсь я.
Бабка незлобиво ворчит, вздыхает:
– Грыжу наживешь, что потом делать?
Но грыжей меня не запугаешь. Вон дед Елисей живет с грыжей, носит какие-то хитроумные бандажи и ничего с ним не случается. Он и косит, и молотит, и вязанки таскает с пастольника такие, что мне к ним даже не подступиться. Есть эта самая грыжа и у других знакомых мне мужчин и стариков. Видно, в крестьянской жизни без нее не обойтись. А коль не обойтись, так чего ее бояться, чего делать все с оглядкой. Тут других забот хватает…
Вот, например, надо выучиться самому клепать косу. Без такого умения мне прямо горе. Чуть призатупилась коса, сразу беги к деду Игнату, к деду Елисею или даже на Галерку к Макару Ивановичу. А у них своих забот полон двор. Глядишь, моя коса лежит неклепаной и день, и два, и три, а дело стоит, аир не косится, подстилка на зиму не заготовляется.
Все это мне порядком надоело, и я решил купить себе «бабку» – приспособление для клепки косы, которую обычно делают из старого слесарного напильника.
В базарные дни рядом с бондарями и кошелочниками всегда занимал место высокий однорукий кузнец. На чистой мешковине он раскладывал свой товар: любых размеров ухваты, дверные запоры и клямки, сковородки, топоры и эти самые «бабки». Я долго стоял перед ним, не зная, на какой остановить свой выбор, прислушивался к разговорам мужчин, которые тоже интересовались «бабками». Кузнец, видимо, заметил мою нерешительность, порылся в кошелке, прикрытой газеткой, и, выждав, когда мужчины отойдут в сторону, вручил мне тяжелую, чуть отливающую синевой «бабку», наверное, самую лучшую из тех, какие он принес сегодня на продажу:
– Бери, косарь!
Я немного растерялся, но потом спрятал «бабку» в карман и, расплатившись с кузнецом, который, весело улыбаясь, сбавил мне цену почти вдвое, побежал к Тасе хвастаться покупкой.
Вернувшись домой, я тут же забил «бабку» в колодку, достал старый дедовский молоток и принялся клепать косу, вспоминая, как это делали дед Игнат или Макар Иванович. Все у них получалось просто и понятно. Придерживают они одной рукой косу на краешке «бабки» и стучат потихоньку молотком, оттягивая полотно. Дед Игнат обычно во время работы разговаривает со мной о всяких домашних заботах, а Макар Иванович покуривает цигарку, пыхтит ею, не выпуская изо рта. Звук от каждого удара у Макара Ивановича и у деда Игната летит звонкий, высокий, на отклепанном полотне ни единой зазубрины, оно острое, как бритва. А я, как ни старался, но зазубрин навыбивал таких, что моя коса стала больше похожа на пилу.
По-настоящему я научился клепать косу лишь к концу лета и с тех пор уже ни к кому за помощью не ходил…








