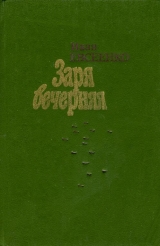
Текст книги "Заря вечерняя"
Автор книги: Иван Евсеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц)
В сосновом лесу, в еловых борах весна начиналась по-своему. Хвоя с наступлением тепла помолодела, налилась свежей зеленью, иголки на ней заострились и при малейшем прикосновении грозно, по-боевому топорщились, словно не хотели никого к себе подпускать. Худенькие вылинявшие белки потеряли свою прежнюю осторожность и иногда выбегали на дорогу, едва не попадая под копыта Горбунку. Несколько раз Афанасий слышал, как совы и филины, должно быть путая день с ночью, ухают, пугают своим криком лесных обитателей. На высоких тополях у подножья Великих гор Афанасия всегда встречали два лесных голубя – горлицы. Он останавливал Горбунка, чтобы послушать, как они по-человечьи разговаривают друг с дружкой, перекликаются.
Земля уже везде оттаяла, вдоволь напиталась талой водой, весенними обильными дождями. На старых сосновых вырубках, быть может, даже чуть раньше положенного срока начала пробиваться крапива; то там, то здесь под кустами боярышника зазеленели крохотные листочки земляники; в низинах, освобождаясь от снега, набухли белесые подушечки мха. Но больше всего Афанасия радовали березы и клены на вершине Великих гор. Они еще месяц назад почуяли приход весны, пробудились от зимней спячки, наполнились терпким прозрачным соком. В одной из берез Афанасий проделал небольшую дырочку, вставил туда вишневый желобок, и тяжелые капельки начали медленно стекать по нему в алюминиевую фляжку, которую Афанасий всегда носил с собой в лесу.
Возвращался домой Афанасий всегда уже в сумерках, вез для Екатерины Матвеевны лесные подарки: то фляжку березового сока, то вязанку сушняка для растопки печи, а то и ветку начинающей распускаться черемухи. Екатерина Матвеевна встречала его возле калитки, забирала подарки и звала в дом. Радостно было Афанасию идти следом за ней, вести в поводу Горбунка, вдыхать запах черемухи – и совсем не думать про море. Но оно тут же напоминало о себе криками чаек, гудками прогулочных пароходов; плескалось о песчаный берег, шумело настоящим морским прибоем. И не думать о нем было нельзя…
Настроение у Афанасия начинало портиться, он мрачнел, обидно покрикивал на Горбунка, долго путался с седлом и уздечкой, по-стариковски утомленно вздыхал, огорчая Екатерину Матвеевну.
Успокаивался Афанасий лишь в доме, когда садился ужинать возле распахнутого окошка. Свежий вечерний воздух дышал ему в лицо, заполнял всю комнату, тихо шевелил белые ситцевые занавески. Натужное морское рокотание сюда не долетало, и Афанасию временами казалось, что за окном простирается не море, а широкое луговое половодье. Все, как и раньше, как при реке…
Но вот однажды вместе с ветром в комнату залетел вначале один, а потом и второй, и третий комар. Ничего, конечно, особенного в этом не было. И в прежние годы с наступлением тепла комары залетали в комнату, суетливо кружились вокруг лампочки. Но то были обыкновенные луговые комары, к которым все давным-давно привыкли и не очень-то обращали на них внимание. А эти удивляли своими размерами, размахом крыльев, окраской. Были они, наверное, величиной с палец, ядовито-зеленые, длиннохвостые. Екатерина Матвеевна поймала одного на ладонь, показала Афанасию:
– Гляди, какие гости.
– Да уж гости, – вначале улыбнулся было Афанасий, а потом призадумался: – Что-то не нравится мне все это.
Екатерина Матвеевна отпустила пленника и поторопилась закрыть окошко, потому что комары ринулись на свет зажженной лампочки настоящими полчищами.
Всю ночь они не давали Афанасию и Екатерине Матвеевне покоя, шуршали на потолке, бились в оконное стекло, забирались даже на кровать. Афанасий не выдержал и среди ночи ушел досыпать на печку, но комары доставали его и там.
Утром Екатерина Матвеевна, кое-как выгнав непрошеных гостей веником, занавесила окошко марлей, но это не помогло. Комары тут же густо облепили ткань, пробирались в щели и опять кружили под потолком. Афанасий с досады плюнул и, толком не позавтракав, повел к морю поить Горбунка. В эти утренние часы море было, как всегда, нежно-голубым, просторным. Афанасий немного успокоился, пошел поровней, потише. Но вскоре его смутила прибрежная волна, какая-то подозрительно темная, будто гнилая. Афанасий вначале никак не мог разобраться, что это такое, но когда подошел поближе – все понял. За ночь неисчислимые сонмища комаров утонули в море, и теперь их гнало волною на берег, выбрасывало на песок, почерневших и слипшихся. Горбунок опустил было морду к воде, потянул ее раз и другой, жадно вздрагивая ноздрями, но потом отпрянул и с удивлением посмотрел на Афанасия.
– Что, брат, не по душе? – вздохнул тот.
В ответ Горбунок вздрогнул всей кожей, переступил с ноги на ногу, а потом, словно чувствуя какую-то свою вину, опять послушно припал губами к воде. Афанасий пришел ему на помощь. Он поднял с земли оброненную кем-то ветку краснотала и начал отгонять ею комаров от того места, где Горбунок пил. Помогало это не очень, но Горбунок был терпелив и непривередлив. Отфыркиваясь и поминутно вздыхая, он пил и пил морскую воду, хотя и чувствовалось, что сегодня она ему не всласть. Афанасий похвалил его, почесал холку, но, когда они выбрались на тропинку, дал себе зарок больше Горбунка в море не поить. По крайней мере, пока оно не очистится и не просветлеет.
Комариное нашествие повторялось теперь каждый вечер, едва зажигались в домах огни. Староозерцы пробовали было вначале с комарьем бороться, затянули окна всевозможными сетками и марлями, понакупали даже липучек. Только комар не муха, на липучки не садится, не липнет, гудит и вьется под самым потолком, пугает своих грозным видом.
Одно хорошо – зеленый этот комар не кусался, не жалил. Староозерцы оценили такое его поведение по справедливости и вскоре просто-напросто перестали обращать на него внимание, привыкли. Крестьянин, он спокон веку любую невзгоду переносил терпеливо и даже иной раз, облегчая себе жизнь, посмеивался над своею бедою. Староозерцы, следуя этому правилу, нарекли морского комара за зеленую окраску селезнем и на этом окончательно успокоились. Тем более что и без комаров забот у них хватало. И главная теперь, конечно, была связана с пастбищем для скота. В прошлом году, когда море только заполнялось, староозерцы кое-как перебивались, гоняли коров в леса, перетерпели зиму кто на старых запасах, а кто покупая сено в верховьях реки. А в этом году выдохлись. Леса вокруг Старых Озер в основном хвойные – травы в них кот наплакал. Летом еще, куда ни шло, коровы за день наедались, а вот чтобы заготовить лесного сена на зиму – об этом не могло быть и речи. Один за другим начали староозерцы сбывать коров и потихоньку приспосабливаться к магазинному молоку, за которым ездили теперь в город. Но его там тоже было в обрез, своим городским жителям не хватало, и староозерцы частенько возвращались домой с пустыми руками. С весны, правда, Иван Алексеевич дал команду выписывать колхозникам молоко на ферме. Но потом эту затею пришлось оставить: планы по молоку из месяца в месяц не выполнялись. Оно и понятно: жиденькая лесная трава – это тебе не луга. Староозерцы начали роптать, выговаривать Ивану Алексеевичу на каждом собрании, хотя и понимали, что он тут ни при чем, море – не его затея. Но ропот этот, видимо, подействовал, потому что в одно из воскресений вдруг завезли в староозерский магазин целую машину голландского сгущенного молока в блескучих пузатеньких банках. Мужики, нахваливая Ивана Алексеевича, тут же приспособились закусывать им вино, а женщины распивали со сгущенкой чай, наловчились даже варить рисовый молочный суп. Получалось, конечно, не так, как на домашнем молоке, но вполне терпимо, съедобно. Встречая Ивана Алексеевича где-нибудь на колхозном дворе, женщины ехидно посмеивались, задевали его:
– Не жизнь у нас пошла, Иван Алексеевич, а малина. Коров не доим, а молочко едим!
В ответ Иван Алексеевич вроде бы шутливо грозил пальцем, но на самом деле мрачнел и отходил в сторону. Понять его нетрудно. Только начал было колхоз как следует вставать на ноги, и вот на тебе – подрубили под корень, завели море. Обретенные же леса, судя по всему, Ивана Алексеевича особенно не радовали. Строевой лес заготавливать в них для нужд колхоза не разрешали, а гонять туда стадо в пятьсот голов и далековато и не за чем. Ни травы там стоящей, ни водопоя. Море ведь совсем в другой стороне. А без воды, известно, для скотины не жизнь. К тому же пасти такое стадо в лесу трудно. Разбредутся коровы по кустам и оврагам, после попробуй собери их, ни один пастух не справится.
Прошлую зиму Афанасий выкормил Красавку еще луговым, заготовленным впрок сеном, а нынче, как только началось лето, завел разговор с Екатериной Матвеевной:
– С коровой что будем делать? Продавать?
Екатерина Матвеевна сразу пригорюнилась, поникла, а потом начала уговаривать Афанасия:
– А может, как-либо прокормим?
– Как? – уже строже спросил ее Афанасий.
– Ну, по кустам травы насобираем, по оврагам. Как люди, так и мы.
– Много ли насобираешь ее по оврагам, – вздохнул Афанасий, но разговор прекратил, молча соглашаясь с Екатериной Матвеевной.
Расстаться с Красавкой ему было еще обидней, еще горше, чем Екатерине Матвеевне. И не столько потому, что Красавка – корова на редкость хорошая, молока дает по двадцать литров в день, сколько потому, что не может теперь Афанасий, человек еще при здоровье и силе, заготовить какие-то сто пятьдесят – двести пудов сена, накосить его, как в прежние годы, в лугах.
Но коль решили корову оставить, то пришлось Афанасию и Екатерине Матвеевне купить в магазине пару новых серпов, от которых признаться, они уже успели порядком отвыкнуть, и собирать ими траву по непролазным ежевичным кустам.
Николай, приехав в Старые Озера в одно из воскресений, сразу обратил на это внимание, поворошил во дворе подсохшую траву, но ничего не сказал, затаился. Афанасий тоже смолчал, не желая расстраивать Екатерину Матвеевну, хотя сказать Николаю кое-что хотелось…
К июлю Афанасий и Екатерина Матвеевна заготовили маленький, хилый стожок сена, поставили его на огороде под навесом и опять загоревали. Погода стояла жаркая, трава везде повыгорела, да и где ее напасешься на всех? Теперь ведь каждый, у кого осталась корова, как только выпадет свободная минута, сразу идет с попоною и серпом в леса, жнет траву по таким кустам и оврагам, куда раньше никто и не заглядывал.
А Николай, оказалось, таился не зря. Недели через две перед Афанасиевым двором вдруг остановилась громадная машина, груженная доверху сеном. Из кабины выскочил Николай и, давая какие-то распоряжения шоферу, тут же кинулся открывать ворота.
– Подожди немного! – придержал его Афанасий.
– Почему?
– Да потому…
Николай едва заметно усмехнулся и, обойдя Афанасия, широко распахнул одну створку ворот. Она громко вскрипнула, ударилась об угол сарая. Афанасий перехватил ее на лету, легонько толкнул назад и встал в проеме ворот:
– А я сказал – подожди!
– Перестань, отец, – уже не на шутку взорвался Николай. – Соседи же смотрят.
– Вот именно – смотрят, – ответил Афанасий, давно заметив, что из ближайших домов вышли мужики и наблюдали за ними. – И что о нас с тобой подумают?
– Что?
– А то! Скажут: вот у Афанасьева сына в руках транспорт, деньги, так он всем и обеспечивает отца, а нам помощи ждать неоткуда!
– Но не могу же я снабжать сеном всех! Сам подумай!
– Конечно, не можешь! Но вот иди и объясни мужикам, что луга ты отнял у всех, а сено привозишь только мне!
Желваки у Николая на лице заходили ходуном, он кинул взгляд исподлобья на соседние дворы, а потом резко скомандовал шоферу:
– Разворачивай!
Тот недоуменно начал дергать машину с места на место, с трудом разворачивая ее в узенькой улочке, пробуксовывая в песке и обдавая Афанасия разгоряченной июльской пылью. Николай уже на ходу вскочил на подножку и с такой силой хлопнул дверцей, что Афанасий невольно вздрогнул, словно от неурочного близкого выстрела.
Когда машина скрылась за деревьями, Афанасий закрыл ворота на засов и устало присел на порожке. К нему вышла Екатерина Матвеевна, наблюдавшая за всем этим происшествием из окошка, минуту постояла молча и тихо, а потом вдруг не выдержала и заплакала. Афанасий не утешал ее, потому как и сам готов был сейчас заплакать, несмотря на пожилые свои годы…
В первые два-три дня после всего случившегося Афанасий твердо решил Красавку все-таки продать, чтоб зря не мучить ни себя, ни Екатерину Матвеевну, ни Николая, который, конечно же, хотел как лучше. Но потом он от этой мысли отступился и решил держать корову назло всему…
Собираясь утром в леса, снаряжал теперь Афанасий вместе с Горбунком и Красавку. Набрасывал ей на рога капроновую веревку с тяжелым железным штырем, который специально выковал в кузнице для таких походов, – и в путь. Поглядеть со стороны – смешно, наверное, получается: впереди семенит на Горбунке Афанасий, а сзади кое-как поспевает за ними корова. Но что поделаешь, надо привыкать и к такой жизни.
С водой проблему Афанасий тоже со временем решил. Выпросил у пожарников старую бочку на колесах, подремонтировал ее и теперь, набирая воду в колодце, отправлялся в лес настоящим обозом. Мужики, встречая его по дороге, посмеивались, шутили:
– Никак в водовозы нанялся, Афанасий Ильич?!
– В водовозы, – тоже вроде бы в шутку отвечал Афанасий, а сам неизменно вздыхал и волей-неволей начинал вспоминать прежние речные водопои и родники.
Время между тем потихоньку бежало, клонилось к августу. Леса шумели, наливались силой, кормили и Афанасия, и Красавку, и Горбунка. Море теперь Афанасия вроде бы особенно не касалось. Разве что вечером, вернувшись домой, отправлялся он на плоскодонке за утками, которых Екатерина Матвеевна всегда заводила с самой ранней весны. Раньше, при реке, особой проблемы с утками не было. Далеко они никуда не уплывали, кормились возле берега ряской, отлеживались где-нибудь на травке. А теперь беда, да и только. Иной раз находил Афанасий свои выводки едва ли не возле самого города. Утка – птица глуповатая: берегов не видать, вот и плывет бог знает куда. А того не понимает, что море – это тебе не река, на нем опасности на каждом шагу. То моторка несется, как угорелая, то пароход плывет, то всякие байдарки да яхты. От всего не убережешься. К августу выводки Афанасия поредели почти наполовину. Екатерина Матвеевна из-за каждой пропавшей птицы по-женски расстраивалась и даже пробовала несколько раз плакать. Афанасий терпел все это, терпел, а потом построил для уток из металлической сетки загон и перестал их вообще выпускать в море. А чтобы они совсем не забывали про воду, привозил им каждый вечер ряску, которой день ото дня становилось все больше возле морских берегов. Вначале Афанасий этому радовался, за каких-нибудь пять-десять минут нагружал ряской высокую плетенную из краснотала корзину и вез ее уткам в загон. Но потом он стал замечать, что вместе с ряской с морского дна тянутся густые темно-зеленые водоросли. В реке такие водоросли росли редко, разве что где-нибудь на мелководье или в заводях, которые к середине лета почти совсем пересыхали. Зато на болотах и на стоячих пойменных озерцах их было вдоволь. От жары эти водоросли набухали, вода над ними пенилась, шла ржавыми, маслянистыми пятнами. Днем и ночью вилось, гудело здесь комарье, поднимаясь в небо высокими колышущимися столбами. Ранней весной, когда болотца еще соединялись с рекой ручейками, отсюда уплывала рыба. Одни лишь головастики находили тут себе пристанище, копошились в тухлой, мертвой воде, от которой всегда несло гнилым болотным запахом.
А теперь этот запах стал доноситься и от моря. Утром еще, правда, куда ни шло, а к вечеру, когда водоросли прогревались до самого дна и бурая ноздреватая пена едва не закипала над ними, дышать было совсем нечем. Особенно мучилась Екатерина Матвеевна, привыкшая за долгую свою жизнь к свежему речному воздуху.
– Хоть сбега́й, – сокрушалась она иной раз.
– Похоже на то, – соглашался Афанасий, не зная, чем тут можно помочь.
А Володя по-прежнему похохатывал, носился на «Летучем голландце» с одного края моря в другой и при случае успокаивал Афанасия:
– Стихия, Афанасий Ильич, что поделаешь!
Делать действительно было нечего. Но вскоре Афанасий стал замечать, что стихия эта Володе тоже не очень нравится. Ряска и водоросли незаметно подобрались к самому гаражу, и Володе с каждым днем становилось все труднее спускать яхту на воду. Водоросли наматывались на трос, заклинивали лебедку, отчего «Летучий голландец» несколько раз чуть было не сошел с рельсов и не перевернулся. Но это бы еще ничего. Володю просто так не победишь! Вооружившись косой, он где с лодки, а где стоя по пояс в воде, скосил водоросли, и дело вроде бы наладилось.
Хуже было с Надеждой. Она уже ждала ребенка и никак не могла переносить затхлого болотного воздуха. Володя пробовал увозить Надежду далеко в море, где воздух был почище, но на волнах ее быстро укачивало, тошнило, и она возвращалась назад вся измученная и похудевшая.
– Скорей бы холода, – жаловалась Надежда Екатерине Матвеевне.
Но холода никак не наступали. Весь август был жарким и сухим. Надежда совсем извелась, стала проситься домой к родителям. Володя вначале, как мог, отговаривал ее, понакупил в дом всяких вентиляторов и даже собрался устанавливать какой-то аппарат, освежающий воздух, но потом почувствовал, что Надежде все это не поможет, и увез ее из Старых Озер.
Сидеть дома одному Володе теперь было скучно, и он, забыв на время яхту, ударился в рыбалку. Нагрузив лодку всякими снастями, Володя уплывал далеко в море, становился на якорь и рыбачил там иногда до самой полуночи. Афанасий тоже несколько раз ездил вместе с ним, хотя, признаться по правде, ловить удочкой он был не особенно большой охотник. Ну, еще зимой, когда нет никакой работы, посидеть над лункою можно, вроде бы как отдых. А вот летом – одно баловство, да и только. По крайней мере, в Старых Озерах так всегда считалось. Настоящих рыбаков на все село числилось человек десять, не больше. Рыбалка была для них не забавой, а такой же работой, как и любое другое крестьянское дело: косовица, например, или молотьба. Ловили сетями, вентерями; случалось, забрасывали даже невод, и никто ни о каких браконьерах слыхом не слыхивал. Браконьерничать начали недавно, когда весь город, не находя себе иного занятия, кинулся на речки и озера. Каких только снастей не напридумывали, и все на мелкую, не видавшую еще жизни и света рыбешку. При реке, правда, было еще терпимо, в Старых Озерах ловили рыбу в основном свои, староозерские рыбаки, а теперь прямо-таки какое-то нашествие началось! Едут на машинах, на мотоциклах, плывут на резиновых надувных лодках, идут пешком – и всем подавай рыбу. А где ее наберешься столько, пусть даже и море тут?!
Собираясь с Володей на рыбалку, Афанасий каждый раз с тоской смотрел на сеть и вентеря, которые теперь без дела догнивали в сарае. Можно было, конечно, тайно раскинуть их где-нибудь в укромном местечке, возле берега, проверить, есть ли в море настоящая рыба или только одни разговоры о ней. Но, видно, не бывать уже этому никогда. И дело тут вовсе не в том, что очень уж опасается Афанасий рыбнадзора (там тоже живые люди и с ними можно бы договориться), а в том, что по нынешним временам нельзя подавать подобного примера. Сегодня один Афанасий выедет в море с сетью и вентерями, а завтра, глядишь, все городские рыбаки позабудут свои удочки и примутся ловить бреднями и неводами.
В общем, пришлось Афанасию на старости лет переучиваться, вспоминать детство, когда он зоревал с удочкой возле церкви. Володя посмеивался над его неумением, обучал всяким приемам и наживкам. А уж он по этой части был мастер. То кузнечиков на берегу наловит, то пшеницы и гороха напарит, то замесит как-то по-особому с разными снадобьями и приправами тесто. А Афанасий только и знал, что ловить на дождевого червя да на ручейника, которого во времена его детства в реке было вдоволь.
Потихоньку, конечно, Афанасий приловчился, но соревноваться ему с Володей не приходилось. Пока Афанасий выудит две-три плотвички, Володя, глядишь, натаскает их с десяток. Возвращаются они домой с уловом, так Екатерина Матвеевна иной раз усмехнется Афанасию:
– Это тебе не на реке, когда и рыбник, случалось, едали!
Что было, то было! Поймает Афанасий с десяток карасей, и Екатерина Матвеевна тут же затевает печь рыбный пирог. А уж он у нее получался – дай бог всякому: и румяный, и пахучий, и без единой косточки внутри. Афанасий под него даже рюмочку водки выпивал. А теперь остались от этого рыбника одни воспоминания… Хотя, кто его знает, может, все еще и наладится, рыба в море подрастет, облюбует новые для себя места, и Афанасий не раз и не два порадует Екатерину Матвеевну настоящим уловом.
Размышляя так вот о разных рыбных делах, вспоминая реку, Афанасий иногда напрочь забывал о поплавке, о наживке. Володя сердился на него, выговаривал:
– Что ж ты, дядь Афанасий, ведь клевало!
– Может, и клевало, – отвечал тот и начинал суетиться возле удочек.
Так он однажды и вытащил увесистого долговязого окунька, ярко блеснувшего на солнце золочеными плавниками. Володя похвалил Афанасия: мол, вот это по-нашему, по-рыбацки. Афанасий и сам обрадовался неожиданной удаче: дни стояли по-прежнему жаркие, изнывающие – рыба ушла на дно и ни на какие наживки не откликалась.
Но радость Афанасия была недолгой. Снимая добычу с крючка, он вдруг обратил внимание, что окунек какой-то разморенный, сонный…
– Это он от жары, – предположил Володя, но потом взял окунька в руки и начал разглядывать повнимательней.
Окунек дышал тяжело, через силу, жабры у него были какими-то белесыми и рыхлыми.
– Может, притворяется? – опять засомневался Володя.
– Что-то не похоже, – ответил Афанасий. – Гляди, какой вялый.
– А это мы сейчас проверим.
Володя взял окунька за хвост и опустил его в воду. Окунек слабо шевельнулся, раз-другой повел плавниками, а потом начал переворачиваться вверх животом.
– Отпускай совсем, – посоветовал Афанасий.
– А вдруг уйдет?!
– Не уйдет! Отходил уже свое.
Володя разжал руку. Окунек тяжело шевельнул хвостом, но на живот не перевернулся, сил на это у него уже не было. Волна сразу подхватила его и понесла от лодки к берегу, раскачивая, будто мокрую набухшую щепку. Одна из чаек, которые неотступно кружились над лодками, кинулась было на дармовую добычу, но возле самой воды вдруг отпрянула от нее и круто взяла вверх. Афанасий немало подивился такому ее поведению, стал наблюдать за чайкой дальше, ожидая, что она сейчас развернется и со второго захода обязательно уж выловит окунька. Но чайка повернула совсем в другую сторону, к своим подружкам, которые, кажется, собрались лететь куда-то на берег.
Володя тоже начал было следить за чайкой, но потом вдруг оставил ее и, склонившись через борт лодки, позвал Афанасия:
– Глянь скорее сюда!
– Что там? – не понял вначале его тревоги Афанасий.
– А ты глянь, глянь!
Афанасий внимательно посмотрел на тихую, уже почти по-ночному темную воду и только теперь заметил, как из-под днища лодки одна за другой выныривают мертвые, перевернутые вверх животом рыбины.
– Глушили, наверное, где-то, – сказал он первое, что пришло на ум.
– Какой там глушили! – перебил Афанасия Володя. – Кожевенный завод отходы пустил. Понюхай!
Афанасий набрал в горсть воды, втянул ноздрями запах – и отпрянул. От воды несло сыромятной застоявшейся гнилью, да и на цвет она была какой-то заплесневелой, ржавой.
– Я этого так не оставлю! – продолжал возмущаться Володя. – Я напишу в газету.
– А то там не знают про такие дела, – выплеснул Афанасий за борт воду.
– Знают не знают, а я все равно напишу!
Афанасий посмотрел на свои руки. Они все были в жирных невысыхающих пятнах, как будто он только что возился с каким-либо мотором. Забывшись, Афанасий начал отмывать руки в воде, долго тер их друг о дружку, но, когда отряхнул, пятна опять поползли по ладоням и запястьям. Похоже, тут одним кожевенным заводом не отделаешься, тут постарались и другие…
Сколько помнит Афанасий, в реку заводы никаких отходов не сбрасывали, как-то обходились. Река в те годы поила весь город, и ее щадили. Да и случись что-либо подобное, народ бы сразу взбунтовался, забил тревогу. Река была у всех на виду, мужики ее в обиду не давали. А теперь что ж?! Теперь вокруг море разливанное, в нем что хочешь скрыть можно. Да и мужиков в Старых Озерах осталось раз-два, и обчелся, особенно заступаться некому.
Собрав удочки, Володя и Афанасий повернули лодку к берегу. Видно, теперь на рыбалку выберутся они не скоро. Пока вода очистится, стечет через плотину – пройдет не один день. А там, глядишь, опять какой-нибудь завод постарается. Хорошее дело начать тяжело, а такое – в одну минуту…
Дома Афанасий бросил рыбу возле порога и присел на крылечке. Кот Васька, выглянув из-за сарая, стал подкрадываться, припадать на задние лапы, готовясь к воровству. Афанасий хотел было бросить ему плотвичку, но потом передумал, прикрикнул:
– Не трогай, еще отравишься!
Васька отпрянул и спрятался за сарай. Афанасий несколько минут посидел еще на крылечке, а потом устало поднялся и, захватив в сенях лопату, понес рыбу на огород. Надо прикопать ее – и дело с концом, тут уж иного выхода нет.
В крестьянской жизни Афанасию случалось заниматься всякой работой, всяким делом, но такими вот рыбьими похоронами – впервые. И, наверное, от этого работа у него никак не ладилась. Он долго выбирал место, примеряясь, останавливаясь то возле сарая, то у новенькой, недавно построенной повети, то возле утиного загона, но каждый раз шел дальше, пока наконец не оказался далеко на огороде за яблоневым садом и вишняком.
Кот Васька неотступно крутился под ногами, норовил все-таки своровать хоть одну рыбину. Пришлось Афанасию прикрикнуть на него построже и отправить домой. Но без кота, без единой живой души рядом ему стало еще тоскливей и горше. Он наскоро вырыл яму, побросал туда рыбу, но закапывать не торопился, стоял, опершись на лопату, молчал. Да и что тут можно было сказать и кому?! Содеянного не вернешь!
Странно все-таки и непонятно получается в жизни: послушаешь каждого отдельного человека, так он обязательно за добро, за справедливость, за охрану природу, а вот сообща творим бог знает что! Взять, к примеру, это самое Синее море. Ведь начали его строить с добрыми намерениями. Николай в газетах не раз писал: мол, все для блага человека, для улучшения его жизни. А на деле получается совсем наоборот. Стоит вот Афанасий над ямой и не знает, что ему делать, как быть, и будто не рыбу, а самого себя в эту яму собирается закапывать.
Уже начало смеркаться. То там, то здесь зажглись в окнах огни, в березовом парке на танцплощадке заиграла музыка, по морю проплыл последний вечерний пароходик, весело трубя и сигналя. Афанасий бросил в яму вначале одну лопату земли, потом другую, третью… И вдруг опять остановился – ему неожиданно показалось, что самая маленькая, похожая на оселочек красноперка едва заметно шевельнула хвостом, ударила им о край ямы. Может быть, еще живая, может, не до конца еще доконала ее ядовитая заводская отрава?
Как быть дальше, Афанасий не знал. Засыпать землей мертвое – было делом привычным и даже необходимым, а вот живое… тут душа противилась, отступала.
А пароходик меж тем кричал на пристани все веселей и веселей, огни в домах разгорались все ярче и ярче, музыка неслась все неостановимей и громче… Афанасий бросил еще несколько лопат земли, подровнял бугорок и пошел к дому. Но заходить в комнату и тревожить своим рассказом Екатерину Матвеевну ему не хотелось. Поэтому, бросив в сарай лопату и постояв минуту в темноте посреди двора, он опять выбрался на огород и пошел к морю. Оно уже готовилось к ночи, остывало после жаркого августовского дня. Темнота окутывала все вокруг, наползала откуда-то из-за дальних лесов, из-за Великих гор, смешивалась с черной морской подою, с туманом; и лишь на закате, возле горизонта, все еще светилась узенькая серебристая полоска. Афанасий долго и неотрывно смотрел на нее, словно хотел удержать колышущееся на волнах, дрожащее свечение до самого утра. Но – не удавалось. Полоска, качнувшись в последний раз, вздрагивала и гасла, как будто навсегда тонула в бездонной морской глубине. Несколько мгновений над морем стояла такая тишина и такая темень, что Афанасий невольно сжался и замер… Но вот, отгоняя все ночные сомнения и страхи, на набережной ярко, слепяще вспыхнули неоновые, чуть подрагивающие огни. Море опять ожило, зашумело…
Подняв с земли лозовую палочку и опираясь на нее, словно на посох, Афанасий не спеша пошел вдоль берега. Вода плескалась почти возле самых его ног, то негромко ударяясь о мокрый слежавшийся песок, то откатываясь далеко назад. И вдруг Афанасий почувствовал, что морская волна какая-то необычно тяжелая, медленная. Он подошел к морю еще ближе, наклонился и при свете мерцающих городских огней хорошо различил, что с каждым своим накатом волна выбрасывает на берег мертвую, уже одеревеневшую рыбу. Здесь были и окуни, и обыкновенная плотва, и серебристые неповоротливые толстолобики, и даже несколько, должно быть еще речных, щук.
Волна не просто выбрасывала их на песок, а показывала свою силу, играла с ними, теперь неопасными, мертвыми, то окатывая водой, будто обещая унести назад в море и еще оживить, то, наоборот, подталкивая подальше на сушу, где им суждено окончательно высохнуть и сгнить на солнце.
Афанасий минуты две-три понаблюдал за этой игрой, не в силах ее остановить или хотя бы замедлить, а потом пошел дальше, совсем уже по-стариковски опираясь на лозовый посох. Мертвая набухшая рыба лежала везде по побережью, и Афанасию приходилось теперь выверять каждый шаг, всматриваться в темноту, чтоб не наступить случайно на красноперку или окуня. От такой ходьбы у него начало болеть все тело, ноги затекли и перестали слушаться. Афанасий шел все медленней и медленней, словно берег силы в расчете на дальнюю тяжелую дорогу, которую должен был преодолеть обязательно сегодня. Но вот он совсем выдохся и устало присел на песчаном сыпучем бугорке. Рядом лежал целый ворох сухих лозовых веток, которыми пляжники укрывались днем от солнца, нещадно ломая их по жиденьким прибрежным кустам. Не поднимаясь с бугорка, Афанасий подтащил ветки поближе к себе, сложил их невысоким стройным шалашиком и чиркнул спичкой. Сухие, свернувшиеся от солнца трубочкой листья занялись почти мгновенно, громко затрещали на ночном едва колышущемся ветру; густой сливающийся с темнотою дым медленно потянулся к морю, забивая своим лозовым запахом приторный, удушливый запах рыбьего тления.








