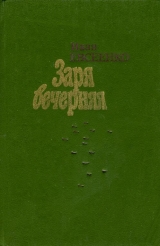
Текст книги "Заря вечерняя"
Автор книги: Иван Евсеенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
Сквозь толпу к Николаю пробралась Соня, тихонько спросила:
– Будем выносить?
– Пора, наверное, – ответил Николай.
Народ сразу зашевелился, начал выходить во двор и на улицу. В доме остались один лишь Николай, Соня и Ксения. Соня поправила у матери на лбу венчик, чтоб его на улице не сорвало ветром, потом положила под подушку какой-то сверток.
– Что это? – спросил Николай.
– Ручка и тетрадь, – заплакала Соня. – Пусть и на том свете будут с нею.
– Братик, миленький мой, – твердила свое Ксения.
Николай, чувствуя, что все это может затянуться надолго, позвал мужчин с белыми повязками на рукавах, которые наготове толпились в сенях.
Те, недолго посовещавшись, окружили гроб с четырех сторон и начали выносить его, как и полагалось, ногами к выходу. Оркестранты, по-военному стоявшие возле тока, вскинули было трубы, но в это мгновение, опережая их на какую-то долю секунды, замычала в сарае застоявшаяся корова. Толпа затихла, старушки, укрытые на всякий случай зимними тяжелыми платками, зашушукались, заохали.
– Скотина чует, – определила Луговичка.
Корова замычала еще раз, но уже не так тяжело, словно понимала, что на волю, на залитое весенней талой водою пастбище пока рано. Оркестранты вступили, тут же заглушив похоронной музыкой и коровье мычание, и всхлипывание Ксении, и шушуканье Луговички со старухами.
Толпа потихоньку начала вытягиваться в нестройную разноликую колонну, загораживая всю улицу. Впереди четверо мужчин несли крышку гроба – веко, потом шли ученики и женщины с венками. Николай заметил, что его хвойный, украшенный бумажными восковыми цветами венок несут Тонька и какая-то чужая, нездешняя тетка. Он хотел было сказать об этом Соне, но потом промолчал, решив, что теперь уже без разницы. За венками, неровно шагая по влажному, разбитому машинами песку, двигался оркестр. Его гордо сопровождало несколько мальчишек, которым оркестранты доверили нести свои промасленные фуражки. Они то и дело перебегали с одной стороны улицы на другую, мешая мужчинам, несущим гроб, но те терпеливо не замечали их беготни, шли сосредоточенные и чуть согнувшиеся под тяжестью.
Николаю матери не было видно. Высоко поднятая над людьми, она, казалось, отрешилась от них и была теперь один на один с апрельским прозрачным небом, с ветром, что время от времени шевелил ее еще не седые волосы, с птичьим щебетанием, с весенним настоявшимся воздухом. За недальнюю дорогу от дома до кладбища ей надо было успеть со всем этим проститься, все это запомнить, чтоб там в могильной темноте успокоенно и независтливо обо всем вспоминать.
Первая из положенных двенадцати остановок была возле школы. Оркестр, переводя дыхание, на минуту умолк, и в это время женщины, раньше певшие в церковном хоре, запели свое, тоже возвышенно-гордое, безысходное:
«Сам един еси бессмертный, сотворивый и создавий человека, земнии убо от земли создахомся и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еш создавий мя и рекий ми: яко земля еш и в землю отыдеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь…»
Ксения и Соня, перестав плакать, начали им подпевать. Соня первым, высоким и сильным, голосом, а Ксения – вторым, усталым, выплаканным и от этого чуть заунывным.
Николай хотел было пробраться к матери, чтоб просто постоять рядом с ней, чтобы понять, так ли хорошо и покойно у нее сейчас на душе, как кажется окружающим ее людям, которым еще суждено жить, страдая и радуясь. Но его оттеснили, и он, давая возможность посмотреть на нее, мертвую, другим, отошел в сторону, оглянулся. Далеко позади всей процессии, боязно перепрыгивая через еловые ветки, бежал кот Васька. Был он весь каким-то измызганным, еще больше одичавшим, злым. Не добегая нескольких метров до толпы, Васька вспрыгнул на изгородь и пошел по жердочкам, казалось, готовясь к неожиданному дальнему прыжку. Николаю стало жалко его, безмолвного, ничего не понимающего, и он решил, что все-таки заберет его домой, в город, что не даст ему пропасть лютой, бездомной смертью.
Гроб опять подняли. Медленно, чуть покачиваясь, он поплыл мимо хат, из которых выходили древние, согнутые жизнью старики и старухи. Вышел дед Иванька, тяжело опираясь о калитку. Маленький, весь прокуренный, он слепыми своими глазами старался разглядеть мать, высоко поднимая голову, слушал рыдания музыки, заглушающие настоящие людские рыдания и стоны.
Толпа обминула его и потекла дальше к уже видневшемуся кладбищу. Иванька сделал было несколько шагов вслед за гробом, но потом, наверное поняв, что до кладбища ему не дойти, повернул назад к своей калитке и застыл возле нее, словно какой-то вечный, несменяемый часовой…
Возле могилы уже было полно народу. Старухи и женщины из ближних домов толпились между сосен, должно быть обсуждая материну быструю и неожиданную смерть; чуть в стороне, сняв фуражки, молча курили подошедшие с колхозного двора конюхи; по белому влажному песку, с опаской заглядывая в яму, бегали мальчишки-дошкольники.
Когда процессия сквозь старенькие, покосившиеся ворота вошла на кладбище, с сосен, встревоженные музыкой, людским говором и плачем, поднялись аисты. Они вначале низко кружились над своими гнездами, надеясь, что скоро все затихнет, но потом поднялись высоко в небо и, образовав там круг, стали парить, свободные сильные птицы, недавно вернувшиеся на родину. Казалось, они, оставаясь жить, тоже прощаются с матерью, сожалеют, что она умерла и теперь не увидит, как через несколько месяцев здесь над кладбищенскими соснами будут учиться летать их птенцы, их любимые долгожданные дети…
Гроб поставили на самом краю могилы, и откуда-то возникший, как всегда навеселе, Филот принялся командовать:
– Пора прощаться.
Первой пробралась к гробу Соня, поцеловала мать в лоб, заплакала и отошла за сосны. Потом, опережая Ксению, проворно вынырнула из толпы Луговичка, упала сразу на оба колена и стала неистово крестить мать. Женщины, стоявшие невдалеке, поторопили ее, помогли подняться. Она встала, в последний раз перекрестилась на гроб и заняла место наизготове возле самого края могилы. Вслед за Луговичкой и Ксенией начали прощаться с матерью ближние и дальние ее немногочисленные родственники, пожилые теперь уже мужчины и женщины, с которыми когда-то мать училась в школе. Пора было подходить к гробу и Николаю. Он сделал было шаг, но в это время, отделившись от учителей, на краю могилы появилась Оля. Из кармана пальто она достала сложенный вчетверо тетрадный листочек в клеточку, долго разворачивала его озябшими тоненькими пальцами, волновалась, плакала. Все выжидающе следили за ней, за ее листочком, который уже трепетал и бился на апрельском влажном ветру. В деревенской жизни не принято при похоронах говорить какие-либо слова, кроме церковных, теперь почти уже забытых. Луговичка сразу насторожилась и поджала губы.
– Ни к чему все это.
Но на нее зашикали и мужики, и Вера Ивановна, которая вслед за Олей подошла чуть поближе к гробу.
– Начинай, – едва слышно прошептала она.
Оля собралась с духом, пересилила свое волнение, слезы и принялась читать с листочка написанное.
– Дорогие товарищи! – звонко и чисто, как на пионерской линейке, прозвучали ее начальные слова.
Но потом она вдруг смешалась, окинула взглядом всех собравшихся, робко и как-то виновато посмотрела на гроб – и на минуту затихла.
– Громче́й, – тут же поторопила ее Луговичка.
Оля встрепенулась, тихонько кашлянула и стала читать дальше, рассказывать материну теперь уже закончившуюся биографию: как она училась когда-то в школе, как пережила войну, как после работала учительницей, сколько детей выучила. Но прежней силы и звонкости в Олином голосе уже не было. Словно все они ушли в первые два, такие обычные и такие странные здесь, на кладбище, слова: «Дорогие товарищи!»
Луговичка опять затронула ее, требуя не спешить, не торопиться. Оля совсем растерялась, отвела от листочка взгляд и не сумела, не смогла закончить свою речь словами прощания. Вместо них она, уже прячась за спиной Веры Ивановны, произнесла привычное для нее, живое: «До свидания, Галина Александровна!»
Никто ее не остановил, не поправил, даже Луговичка. Видно, все поняли, что по-другому Оля сказать все равно не сможет, что слова прощания ей пока что неведомы…
Наступила наконец очередь и Николая.
Он опустился на колено, взял в руки холодное материно лицо, прижался к нему небритой и, должно быть, колючей щекою. Тяжелая слеза выкатилась у него из глаз, упала матери на неплотно закрытое веко, потом сползла в потемневшую, чуть провалившуюся глазницу и застыла там живой прозрачной каплей. Николай почувствовал, что ему пора уже вставать, что его ждут, но не было никакой силы оторваться от этого родного лица, которое он видит в последний, в самый последний раз.
– Поднимайся, Коля, – прикоснулся к его лицу Филот. – Ее уже не вернешь…
Николай поцеловал мать в лоб и отпустил ее от себя, отдал в руки мужикам, готовым зарыть гроб в холодную, отсыревшую могилу. Те быстро, в одно мгновение, так, что Николай даже не успел еще раз взглянуть на нее, проститься с нею, закрыли крышку гроба. Андрей Петрович их домашним, знакомым Николаю с детства молотком, у которого он однажды, клепая косу, отбил уголок, начал заколачивать гвозди. В сырое, непросушенное дерево они шли мягко, но Андрей Петрович, торопясь, все равно бил нещадно, со всего размаху, должно быть причиняя матери немалую боль и страдание.
Мужики подложили под гроб веревки и стали медленно опускать его в могилу. Оркестр с минутным опозданием заиграл прощальную свою невеселую музыку. Женщины и старухи заплакали последним успокоительным плачем, уже помышляя, скорее всего, не столько о похоронах, сколько о неотложных на сегодня делах, которые ждали их дома. Гроб лег на дно могилы чуть наискосок, и толстая конопляная веревка, прижатая к стенке, никак не хотела вытаскиваться. Филот спрыгнул в яму, поставил гроб точно по центру, высвободил веревку. Мужики подали ему руки, и он, нетвердо наступив на крышку гроба кирзовым, вымазанным в песок сапогом, полез назад, юркий, живой человек, которому в могильной сырой яме показалось, наверное, холодно и страшно.
Как только Филот вылез и отряхнул с фуфайки и штанов песок, толпа сразу приступила к краю могилы. Первой Луговичка, а за нею, подталкиваемые старушками, ребятишки бросили в яму по горсти желтой мокрой земли. Она негромко, словно капли весеннего дождя, ударилась о гроб и рассыпалась на темном, туго натянутом материале неровными лучиками.
Мужчины взялись за лопаты. Под тяжестью брошенной с высоты земли крышка гроба прогнулась, спружинила, как будто не хотела принимать, не хотела удерживать на себе эту холодную, безжалостно падающую землю.
– Надо было заменить гроб, – расстроился Филот. – Они ведь там их из шелевки варганят.
– Теперь уже поздно, – вздохнул Андрей Петрович.
– Да, конечно…
– Галя, Галечка-а-а! – вдруг истошно закричала Ксения, бросаясь к могиле.
Ее с трудом оттащили, и мужики споро, часто сменяя друг друга, принялись закапывать могилу. Ксения еще несколько раз что-то порывалась кричать, но потом так же неожиданно затихла в окружении женщин и старух.
Теперь уже все, теперь уже мать навсегда простилась с живым миром, и наступил для нее долгожданный покой, одиночество и отдохновение от нелегких земных трудов. Прислонившись к сосне, Николай наблюдал, как могила все выше и выше заполняется землей, как особенно тяжелые ее комья раскатываются по углам, чтобы лечь там навечно и оградить мать от летних дождей, от стуж, от людского говора и птичьего крика.
Наконец мужики вытащили откуда-то из-за кустов деревянную пирамиду с широкой, грубо вырубленной из жести звездою. Пока они ее устанавливали, Филот подошел к Николаю, начал виниться:
– Звездочка малость не того…
– Да ладно, – успокоил его Николай, – пока пусть будет такая.
– Вот и я говорю, потом закажешь на заводе из нержавейки.
Подровняв и прихлопав лопатами землю, мужики отошли в сторону, давая дорогу женщинам и ученикам с венками. Принявшаяся командовать Тонька проворно расставляла их вокруг пирамиды, время от времени покрикивая на учеников и нерасторопных старух. Среди прочих венков Николай заметил небольшую корзинку с живыми цветами, на которой было написано: «Дорогой Гале от Ивана». Кто и когда принес эту корзинку, теперь понять было трудно, но Тонька поставила ее на самом видном месте, чтобы все видели, что корзинка эта особая и попала сюда по особому, многим непонятному случаю.
Оркестр в последний раз сыграл над могилою траурную музыку и, опустив трубы, пошел с кладбища, словно давая тем самым понять, что все – похороны закончены.
Соня и Ксения, которая уже пришла в себя, начали приглашать всех на поминки. Толпа медленно, кто березняком, а кто по размятой похоронным шествием улице, потянулась к дому. Пора было уходить и Николаю. Он поправил на венках два-три оторвавшихся цветочка и заторопился с кладбища, понимая, что без него поминки не начнут. Но возле самых ворот Николая неожиданно остановил председатель, который в сопровождении шофера с венком в руках пробирался между сосен к материной могиле. Увидев Николая, он начал извиняться:
– Опоздал немного.
– Дела, наверное, – посочувствовал ему Николай.
– Да вот замотался вконец.
Они подошли к могиле. Председатель приладил возле пирамиды венок, поругал Филота за неровно сделанную звездочку, поинтересовался оркестром:
– Как отыграли?
– Хорошо, спасибо, – поблагодарил его Николай.
Председатель глянул на часы и поторопил шофера, который рассматривал надписи на венках:
– Пора нам.
– А может, на поминки зайдете? – пригласил председателя Николай.
– Извините, не могу. В три должен быть в районе на совещании.
– Ну ладно, – не стал упрашивать его Николай.
Втроем они вышли с кладбища и расстались. Председатель и шофер сели в машину, а Николай тихо пошел домой, чувствуя, как из каждого двора на него с любопытством глядят занятые домашними делами люди…
Аисты все еще кружили в небе, спокойно, умиротворенно. Казалось, оттуда, с высоты, им лучше видны и понятны вся бренность и все величие человеческой жизни…
* * *
Когда он вошел во двор, народ уже рассаживался за столы. Мужчины, которые копали могилу и несли гроб, облюбовали себе место в первом ряду возле стены, потом несколько столов занимали древние старики и старухи, на вид совсем изношенные и немощные, но на самом деле еще крепкие, боевые, умеющие и поработать и выпить по рюмке на таком вот случайном застолье. В третьем ряду сидели материны подруги, учителя, женщины, певшие молитвы, и Тонька.
Николай присел рядом с мужиками, на самом краешке. Его, видно, давно уже ждали, потому что Филот и Андрей Петрович сразу поднялись и стали разливать водку.
Выпили молча, как и полагалось, не чокаясь, лишь один старый Кирилл на другом конце стола произнес обычное в таких случаях:
– Пусть ей там легко лежится.
– Там полежишь, – ответил ему Филот, отставляя в сторону рюмку.
Водка на Николая никак не подействовала, словно тело было мертвым, не способным откликаться на все живое, не способным расслабиться и дать себе отдохновение. Он окинул взглядом застолье, уже повеселевшее, суетное, стал прислушиваться, о чем ведутся вокруг разговоры.
За соседним столом Луговичка, подозвав к себе Соню, вычитывала ей:
– Борщ недосоленный вышел.
– Возьмите что-нибудь другое, – обиженно ответила Соня и ушла в дом, откуда женщины уже начали выносить второе: отпаренных кур и горячую, дымящуюся на свежем воздухе пшенную кашу.
Луговичка отодвинула в сторону миску с борщом, вытерла фартуком губы, вздохнула:
– Александровна, покойная, бывало, спечет булки, так они сами во рту рассыпаются.
– И борщ варила, так хоть выпей, – поддакнула ей сидевшая рядом бабка Рубанка.
О чем они повели речь дальше, Николай не стал слушать. Сколько он помнил, обе бабки при жизни матери ни разу толком в их доме не были, не то чтобы пробовать материн борщ или булки. Хотя, может, и пробовали, в последние годы, когда Николай домой заявлялся редко.
Он повернулся к мужикам, уже разливавшим по третьей рюмке, надеясь послушать их мужскую тяжелую беседу, но неожиданно к нему пробрался Кирилл и отвлек:
– Так как насчет кирпича?
– Потом, завтра поговорим, – попробовал отмахнуться от него Николай, но Кирилл не отставал:
– Я и задаток могу дать.
– Не надо, не продаю, – уже совсем строго ответил Николай.
Но Кирилл и после этого ничуть не смутился, доверительно хлопнул его по плечу:
– Ладно, я завтра загляну. Как-либо сторгуемся.
После выпитого разговор за столами потек оживленнее. Старики и старухи пробовали вспомнить, когда умер Николаев дед, в сорок шестом или в сорок седьмом году, мужики, покуривая, обсуждали нового председателя, прикидывали, потянет ли он так колхоз, как тянул покойный Трофим Трофимович; женщины в третьем ряду хвалили Соню за добрый обед.
Неожиданно начал накрапывать дождь, мелкий, нечастый, из небольшой, случайно набежавшей тучи. Но народ все равно забеспокоился. Две-три женщины торопливо ушли, вспомнив, что у них висит во дворе белье, Филот предложил мужчинам выпить еще по рюмке, должно быть опасаясь, что застолье может быстро свернуться. Мужики выпили, через столы, перебивая друг друга, начали советовать Николаю особенно не убиваться, все равно матери два века не жить.
Он слушал их молча, терпеливо, понимая, что других слов они сказать сейчас не могут, не умеют, да и нет их, наверное, других, способных утешить, облегчить ему сейчас душу.
Пьяная Тонька, оставив женские ряды, подошла к мужчинам. Те ей налили. Расплескивая водку, она принялась целовать Николая, плакать:
– Осиротели мы! Все осиротели!
Николай легонько, необидно отстранился от нее. Она покорно села на лавку рядом с Филотом, выпила водку и начала рассказывать:
– В войну собрала нас всех в доме, достала книжки и стала обучать грамоте. А тут немец как заскочит и давай те книжки шматовать, там ведь на каждой странице все про Сталина да про Ворошилова. Думали, застрелит Александровну. А он погоготал и ушел. Мы после этого к Александровне лишь за заданием бегали, а учились дома, втихомолку. Вот как…
Тонька совсем расплакалась, раскисла, уронила голову на стол.
– Ну будет тебе, будет, – тряхнул ее за плечо Филот. – Тоже мне плакальщица!
– А вот и плакальщица, – пьяно, в упор глянула на него Тонька. – Вы привыкли из нее жилы тянуть, дай рубль, дай два, налей стакан!
– Иди домой, Тоня, – остановил ее Николай.
– Сейчас, сейчас. Но ты, Коля, им не верь. Подлые все!
Тонька поднялась и, придерживаясь где за столы, где за стенку дома, выбралась со двора.
– Всегда так, – смутился Филот. – Все испортит. – Он оглядел на столе пустые бутылки, вздохнул и остановил пробегавшую мимо Соню: – Мужчинам, что могилу копали, не найдется еще по сто грамм?
– Может, хватит? – попробовала урезонить его Соня.
– Хватит так хватит, – обиделся Филот.
Соня осуждающе покачала головой, но минуту спустя поставила перед Филотом две поллитры.
Дождь стал моросить посильнее. Вслед за первой случайной тучкой над двором повисла вторая, пообширней и почерней. Народ стал расходиться. С узелком в руках подошла к Николаю Ксения, троекратно, как неживого, поцеловала в лоб, минуту постояла и заторопилась, вытирая глаза рукавом выходного плюшевого жакета:
– Пора мне, Коля. На поезд опаздываю.
– Спасибо, что приезжали, – отпустил ее Николай.
– Я помру, – как-то рассеянно, безжизненно махнула рукою Ксения, – может, и ты приедешь.
– Приеду. Только не спешите помирать.
Ксения еще раз махнула рукой и, вконец расплакавшись, негромко затворила за собой калитку.
Проводив ее, Николай и Соня начали потихоньку собирать со столов. Им неожиданно навязалась в помощники Луговичка. Несмотря на свой древний возраст и тяжелое, грузное тело, она проворно бегала между столов, поучала Соню:
– Ты стакан с водою на покуте поставь, чтоб Александровне было из чего попить.
– Да знаю я все, – ответила Соня.
– Знаешь-то знаешь, а небось не поставила еще.
Соня лишь натруженно, едва слышно вздохнула. А Луговичка не унималась:
– До девятого дня пусть стоит. Положено так. И меняй каждый день. Свежая должна быть, незатхлая.
– Хорошо, – не стала спорить с ней Соня.
Бросив убирать посуду, Луговичка присела на лавке, спросила:
– Девятый день устраивать будете?
– Будем, – опять вздохнула Соня.
– Я приду.
– Приходите. Мы никому не отказываем.
Луговичка еще немного покрутилась, больше путаясь под ногами, чем помогая, и ушла, на прощанье выпросив у Сони рюмочку сладкого церковного вина – кагору. В шестом часу засобиралась домой и Соня.
– Ночевать, может, к нам придешь? – стала она приглашать Николая.
– Нет, я лучше дома.
– Ну, гляди. А то у нас просторно.
– Спасибо, – все-таки отказался Николай. – Я дома.
Соня понимающе покачала головой и взяла с лавки доенку.
– Тогда хоть корову подою.
– И корову я сам. Отдыхайте.
– А сумеешь?
– Сумею.
Пообещав заглянуть завтра утром, Соня ушла, высокая, худая, безмерно уставшая и измучившаяся за эти дни…
* * *
Оставшись один, Николай переоделся в материну старенькую фуфайку, в которой она всегда хлопотала возле дома, и пошел в сарай, всем телом – плечами и грудью – ощущая, как ладно она обношена, как ладно прилегает к нему, нигде не стесняя, не затрудняя движения, будто это он, а не мать, носил ее с первого дня покупки.
Николай бросил корове охапку сена, минуту подождал и пошел в глубь сарая, стараясь не греметь доенкой, не пугать привыкшую к тишине и ласке корову. Оглядевшись в темноте, он отыскал возле стены маленький стульчик, который когда-то сам мастерил для матери, сел на него. Корова несколько раз оглянулась на Николая, переступила с ноги на ногу. Он, подражая матери, прикрикнул на нее: «Тише ты, тише!» – и начал доить, глубоко вдыхая запах теплого, сразу взбухающего в доенке густою пеною молока. Он попробовал представить, о чем думала мать за этой обыденной крестьянской работой. И вышло, что опять-таки думала она не о себе, а о нем, Николае, о его семье, о его делах и заботах. Николай тоже иногда вспоминал о матери и на работе, и в командировках, но все-таки лишь иногда, а она постоянно…
Закончив доить, он дал корове в награду кусочек хлеба, почесал холку, стараясь все делать, как мать, припоминая ее движения, слова. Завтра с коровой придется расстаться, и теперь она больше никогда не услышит этих слов, не почувствует на себе прикосновения родной, вынянчившей ее руки.
На крылечке Николая ждал кот. Они вдвоем вошли в дом. Первым делом Николай налил молока в блюдечко коту, потом ополоснул два кувшина и начал процеживать его сквозь чистую льняную тряпочку, которую обнаружил на гвоздике возле наличника, где она всегда и висела при матери. Один кувшин, налитый доверху, Николай отнес в сени скисать на сметану, а второй, чуть неполный, оставил в доме, прикрыв его деревянным кружочком. Потом он сел на табурет и стал смотреть, как Васька, низко склонившись над блюдечком, хлебает молоко. Ничего пока как будто не изменилось в этом доме. Да и сам дом еще прежний, ухоженный, обласканный матерью, с беленькими, чуть накрахмаленными занавесками, с вышивками, со стопочкой книг и тетрадей на шифоньере.
Надумали они с матерью строить этот дом, когда Николай пошел в первый класс. Старый дом, подпертый столбом и взятый по двум стенкам в «лисицы», совсем уже обветшал, перекосился, жить в нем дальше было нельзя. Мать долго копила деньги на лес и постройку, понемногу откладывая их от своей не слишком большой зарплаты. Лес в те времена было купить не так-то просто. На лесоскладе, как теперь, его не продавали. Но матери повезло. Одному лесничему в Елинских лесах выдали премию лесом на корню, и он его продавал. Мать купила. Но лес этот вначале надо было свалить, а потом вывезти почти за сорок километров. Свалили в общем-то быстро, хотя и обошлось все для матери ох как нелегко. Она договорилась с мужиками и повела их в Елино, но на полдороге, в районе, мужики запьянствовали, загуляли. Прождав их день, мать отправилась в лес сама, наняла в Еньковой рудне какого-то паренька, и вдвоем с этим пареньком они за неделю свалили все двадцать кубометров. А вот с вывозкой никак не получалось. Машин тогда еще было мало, и рассчитывать на них не приходилось. Несколько раз отправлялись мужики в Елино на волах, запряженных в раскаты, но опять-таки либо застревали в районе в железнодорожной столовой, либо, сломав где-нибудь по неосторожности раскат, возвращались домой порожняком.
Выручили мать проезжавшие мимо села цыгане. На громадных сытых лошадях в несколько дней они вывезли весь лес и свалили его возле забора, потребовав в награду кроме денег еще несколько пудов картошки и воз сена. Николай с матерью потом, вооружившись топором и лопатою, ошкурили его, сняли кору, замазали торцы глиною.
Строить начали спустя полгода, весною. Вначале мужики с весельем, шутками и прибаутками разрушили старый дом. Николаю было его немного жалко, особенно темного пыльного чердака, где он с друзьями часто играл в прятки. Но мать его успокоила, сказала, что новый дом будет просторнее, светлее и чище и что они в нем заживут по-настоящему богато и счастливо.
Он действительно получился просторным и светлым, первый построенный после войны в деревне дом. Многие заходили в него, еще не оштукатуренный, с глинобитным полом, с временным дощатым коридорчиком вместо сеней, и завидовали матери, хвалили ее, что она одна без мужчины подняла такое строительство. Мать каждый раз улыбалась и обнимала Николая: «Мы вдвоем, с сыном».
Никогда после Николай не испытывал такой гордости за себя и за мать, как в те дни. Они правда строили дом вдвоем. Николай помогал матери изо всех сил: собирал после плотников щепки, бегал на болото за мхом, шкурил стругом жерди для лат, подносил печнику глину и кирпичи.
Вошли они в дом поздней осенью, справили новоселье, небогатое, но по-настоящему радостное. Николай впервые сидел за столом со взрослыми, в отцовском суконном костюме, который мать перешила специально для этого случая.
После они достраивали дом еще долгие годы. Штукатурили, стелили полы, рубили сени из остатков старого дома, подводили фундамент. Перед самым уходом в армию Николай сделал резные наличники, крыльцо, смастерил теплую наборную дверь. Хотел еще навесить новые ворота, калитку, но не успел – принесли из военкомата повестку. Мать потом кого-то нанимала…
Не зажигая свет, Николай лег спать, все там же на полике возле печи, которая медленно остывала, угасая и готовясь к сиротской безрадостной жизни. К нему пробрался кот, нарушив все свои давние привычки, прижался к ногам и уснул тихо, почти бездыханно. В доме пахло расплавленным воском, хвоей, отсыревшей пылью и мелом. Дышать этим воздухом, этими запахами было трудно, они так не походили на прежние, наполнявшие комнату и кухню запахи, живые тайные запахи жизни. Николай долго никак не мог уснуть, его тело и мозг не требовали отдохновения, покоя. В маленькое окошко в самом изголовье он смотрел на освещенный рано взошедшей луною двор, на готовящиеся к цветению яблони, на пустую куриную будку с широко распахнутой дверцей – все показалось ему каким-то неземным, космическим, страшным. Он никак не мог понять, откуда происходит этот страх и перед чем он. Все, чего мог бояться Николай в жизни, уже произошло, случилось. Чтобы отогнать от себя этот неведомо откуда взявшийся холодный, как далекая неправдоподобно яркая луна, страх, он закрыл глаза, притворился спящим – и вскоре действительно уснул…
Ему опять приснилась мать. Как будто они вдвоем с ней переезжают на лодке через речку. Мать правит веслом, а Николай сидит на порожке и вычерпывает совочком воду, которая все прибывает и прибывает в лодку сквозь плохо засмоленную щель. Мать сильнее налегает на весло, гребет широко, с размахом, не «завесливая», поторапливает Николая, но он не справляется – вода уже закрыла порожки, а до берега еще далеко…
Разбудил Николая стук в двери. Он был настойчивый, требовательный, зовущий открыть тут же, немедленно, по срочному неотложному делу. Николай поднялся, весь усталый от напряжения и тревоги, которые владели им во сне, пошел к двери.
На пороге с попоною в руках стояла Луговичка. Поздоровавшись с Николаем, она засуетилась, начала просить:
– Мне бы сена для козы. Вам оно все равно теперь не нужно. Александровна бы не отказала.
– Я тоже не откажу, – сдержанно ответил Николай и повел Луговичку в сарай, где в уголке оставалось еще пудов десять сена, как раз чтобы докормить корову до выпаса.
Луговичка, расстелив попону, начала накладывать туда сено, за каждой охапкой проверяя рукой – не хватит ли? Наконец, упершись коленкой, она с трудом завязала концы и попросила Николая:
– Поддай маленько.
Николай помог Луговичке закинуть попону за плечи, отворил калитку. Низко согнувшись под тяжестью, Луговичка заковыляла со двора, на ходу без умолку рассказывая Николаю:
– Мы с Александровной в дружбе были. Она сколько раз у меня дрожжи одалживала, муку.
– Спасибо, что не отказывали, – немного теряясь под ее напором, поблагодарил Николай.
– А как же иначе, по-соседски, считай, жили.
Николай промолчал, наверное, и правда они жили с матерью по-хорошему. Он ведь многого уже не знает.
– Может, ворота открыть? – спросил он Луговичку, чувствуя, что с такой попоной она в калитку не пройдет.
– Открой, – согласилась Луговичка и вдруг полюбопытствовала: – А от кого это был на могиле такой букетик в корзинке?
– Я не видел, – заскрипел воротами Николай.
– Говорят, будто от Ивана Логвинова.
– Может, и от него, – не стал ничего скрывать Николай.
Луговичка на минуту вместе с попоной прислонилась к воротам, поудобней взялась за коротенькие, туго связанные концы.
– Сколько раз я говорила Александровне, выходи ты замуж. А она все отмалчивалась. Вот и померла раньше времени.
Николай на этот раз ничего не сказал Луговичке, закрыл за ней на крючок ворота и пошел в дом, собираясь сменить в стакане на подоконнике воду. Но не успел он отыскать куда-то запропастившуюся по вчерашней суете кружку, как в дверь снова постучали.
Николай открыл. В дом ввалилась посеревшая лицом, нечесаная, болезненная Тонька. Должно быть с трудом разглядев отошедшего в глубь комнаты Николая, она начала просить как-то жалобно, неуверенно, словно не верила в удачу:
– Вчера я в сарае видела серпы. Не дашь один?
– Да они там все старые, негодные, – удивился ее просьбе Николай.
– Траву жать сгодятся.
– Ну пошли.
Тонька двинулась за ним с трудом, придерживаясь за стенку, останавливаясь и охая.
– Бери, – указал Николай на три серпа, должно быть еще прошлым летом заткнутые матерью за перекладину.








