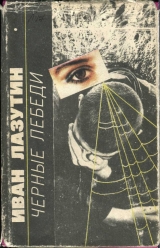
Текст книги "Черные лебеди"
Автор книги: Иван Лазутин
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 36 страниц)
XIII
Шадрин не находил себе места. Он ходил по комнате и в тысячный раз задавал себе один и тот же вопрос: «Что делать? Где найти работу?»
В комнате становилось душно. Хотелось вырваться на улицу и идти… Да что там идти. Бежать! Но куда?
И вдруг он вспомнил Багрова.
В тяжелые минуты, когда к человеку приходит горе, память на свой взвихренный гребень выносит имена и лица верных друзей. Иван поймет, Ивану обо всем можно рассказать. Он что-нибудь подскажет.
И вот Дмитрий едет к другу студенческих лет.
После окончания университета Багров был направлен следователем в прокуратуру военно-воздушных сил Московского военного округа.
За все время после окончания университета Шадрин только два раза виделся со своим другом. Последняя встреча была весной, в Сокольниках, когда Иван исповедально открыл свою душу. Не раз потом вспоминал Дмитрий этот разговор.
Дмитрий знал, что Багров пока не женат, что живет он в Тушино, в военном городке, в мансарде финского домика.
Выйдя из метро, Дмитрий полчаса трясся в трамвае. Из головы не выходили слова Спивака: «Не те масштабы… Из пушки по воробьям…» – и горькие вопросы к самому себе: «А где, где они те знаменитые бастионы, для которых отливали мои пушки? Где мои мишени?»
Улица, на которой жил Багров, находилась почти в самом конце военного городка, построенного пленными немцами.
Слева тянулся высокий дощатый забор, обнесенный колючей проволокой. Судя по вышкам, на которых стояли вооруженные часовые, – это был лагерь заключенных. За забором надрывно лаяли собаки.
Справа цепочкой близнецов тянулись небольшие финские домики. «Только бы застать дома», – подумал Шадрин, ускоряя шаг. Но вот, наконец, последний поворот. Третий домик с края. Он ничем не отличался от своих собратьев. Окно мансарды было распахнуто. «Дома», – решил Шадрин и, подняв с земли камешек, бросил его. Попал в стекло. Из окна высунулась всклоченная голова Багрова.
Иван, увидев Дмитрия, просиял, как мальчишка:
– Ого-го-го! Штурмуй мой небоскреб!
Голова скрылась.
Через минуту Багров выскочил на улицу. От радости он так стиснул руку Шадрина, что тот даже поморщился.
– Вот не ждал! Хотя сегодня даже сон видел. Приснилась здоровенная овчарка. Так и рвет меня на куски. От страха даже проснулся…
Молча поднялись по узким скрипучим ступеням в крохотную мансарду. В тамбуре была даже малюсенькая кладовка, в которой умещались ведро и какая-то посуда.
Войдя в комнатку с низеньким фанерным потолком, со скошенными стенами, на которых кое-где темнели продолговатые кровяные полосочки, Дмитрий подумал: «Да, Ванечка, покусывают тебя не только гордость и самолюбие нигилиста, но и клопики…» Подумал, но сделал вид, что не заметил этих полосочек, знакомых почти всякому деревенскому жителю средней полосы России, живущему в нужде и тесноте.
Перед окном стоял небольшой канцелярский стол. К нему были приставлены два грубых стула с протертыми клеенчатыми сиденьями. Правый угол занимала железная солдатская койка с провисшей сеткой, следом за ней вплотную стояла обшарпанная фанерная тумбочка, на крашеной столешнице которой бросались в глаза жженые следы от папирос, и дощатый платяной шкаф. На распахнутой дверке шкафа была прибита бляшка с инвентарным номером. В левом углу неустойчиво высилась кособокая этажерка с книгами.
– Вот так и живу, – Багров развел руками. – Имею подмосковную прописку и, как видишь, меблированную комнату. Ты молодец, Дмитрий, что приехал. У меня сегодня как раз получка.
Иван открыл тумбочку и принялся доставать из нее колбасу, сыр, селедку…
– Сегодня у нас будет пир! – воскликнул он, ставя на стол бутылку водки. – Вот она, царица небесная. Дай ей Господь Бог здоровья. – Поставил перед Шадриным небольшой фанерный ящичек с картошкой, сунул ему в руку нож: – Принимайся за дело, а я сбегаю в ларек, куплю пива. Есть вобла! Берег для торжественного случая. – Придвинув ведро с водой, шутливо приказал: – К моему приходу картошка должна кипеть! Ясно?
– Ясно, – ответил Шадрин.
Оставшись один, Дмитрий внимательно оглядел комнату. На столе лежал томик Писарева с закладкой. Писаревым Багров увлекался еще студентом. На стенах ни одной картинки, ни одной безделушки. Подушечная наволочка белоснежно чиста. На спинке кровати аккуратно сложенное вафельное полотенце. Крашеный пол чисто выметен.
Дмитрий чистил картошку и улыбался. «По-прежнему все такой же: бунтарь, нигилист, писаревец…» На душе было легко. Казалось, что он снова окунулся в беззаботную студенческую жизнь.
Когда вернулся нагруженный бутылками Багров, кастрюля с картошкой уже стояла на электроплитке.
– Ого! Вот это темпы! – одобрил он. – Пока займемся холодной закуской – подоспеет и картошка. – Иван вытащил из сумки четвертинку водки и несколько бутылок пива.
– Ты что – в своем уме?!
– Пока в своем. Я как раз вчера вспоминал о тебе. И дьявольски захотелось повидаться. Я слышал, что у тебя не клеится с работой. Но ты не огорчайся – ты не одинок. Давай докладывай, по каким ухабам катит твоя карета жизни. Только как на духу – ничего не скрывай. От Веденеева знаю, что ты попал в такую анкетную паутину, из которой сейчас не вырываются даже крупные мухи. Говорят даже, что пытался устроиться носильщиком на Белорусском вокзале, да диплом с отличием помешал – кадровики взяли на подозрение: мол, на Белорусском вокзале с поездов часто сходят иностранцы с толстыми кожаными чемоданами.
– Да, было дело, – вздохнул Дмитрий. – Уже не раз путал мне ноги этот пресловутый диплом с отличием. Кадровики смотрят на него как на гремучую змею. А отказывая в работе, бывают такими вежливыми, словно перед ними не советский безработный, а резидент абвера.
…Шадрин рассказал о себе. Багров молча слушал. Изредка задавал вопросы. Разговор перемежался тостами. На улице меж тем темнело. Дмитрий чувствовал, что пьянеет.
Багров посмотрел на друга:
– Когда-то ты говорил: нужно терпеть и ждать.
Шадрин покачал головой:
– Больше ждать нет сил. Устал. Нужно что-то делать, – он закурил.
Багров налил в рюмки водки:
– Помнишь пруд в Сокольничьей роще, островок?
– Помню, – ответил Шадрин, склонив голову.
– Давай выпьем за то, чтобы остаться такими же, какими мы были на этом островке.
Чокнулись, выпили.
Багров встал, потянулся, повел плечами, неторопливо прошелся по комнате:
– Теперь послушай меня, Дмитрий. Слушай внимательно и не думай, что ты самый неудачливый, – некоторое время Иван молчал, потом, словно к чему-то прислушиваясь, продолжал: – Да, я работаю. Ты ведь знаешь, что командует ВВС нашего Московского округа Василий Сталин. Я офицер в его штабе. Я получаю в месяц больше двух тысяч рублей. Я мотаюсь по командировкам, сажаю в тюрьму юнцов за нарушение воинской дисциплины. Иногда через мои руки проходят офицеры. Ты наверняка хочешь спросить: доволен ли я своей работой? Отвечу. Когда Чехова спросили, что такое жена, он сказал: «Жена есть жена». Работа есть работа. Я не представлял ее себе манной небесной. Что по-настоящему плохо: мучает старая болезнь.
– Какая?
– Та, о которой я рассказывал тебе в Сокольниках. Ты тогда сказал: жди. Ты убедил меня, что ожидание – единственно верное стратегическое решение. И втравил меня в это мерзкое ожидание. Вот я и жду…
Багров показал на лагерь заключенных:
– Рано утром вот за этим забором собаки поднимают такой истошный вой, который, наверное, слышен в Рязани. Он продолжается до тех пор, пока собак не накормят. Потом полчаса трясусь в одном трамвае, потом в другом. И вот я в резиденции нашего командующего, – Багров поморщился. – Если б ты видел эту рыжую бесцеремонную бездарность, перед которой холопствуют даже заслуженные боевые командиры, навытяжку стоят прославленные генералы. Нас же, лейтенантов, капитанов и майоров… нас не подпускают к нему на пушечный выстрел… Да это и к лучшему. Душе легче.
Багров разлил в рюмки водку.
– Может, хватит, Ваня, – Шадрин отодвинул от себя рюмку.
– Чепуха! Чем больше я пью, тем становлюсь трезвее. Давай по последней, за дружбу!
Шадрин хотел что-то сказать, но Багров остановил его резким жестом:
– Дмитрий, ты мало пьешь?
– Почти совсем не пью.
– А я пью. Много. И можешь себе представить: чем больше пью, тем сильнее испытываю желание пить еще… – тоскливо посмотрев на Шадрина, Багров тяжело вздохнул: – Возможно, когда-нибудь я сопьюсь… Но это не такая уж потеря. Во вселенских масштабах все мы – бесконечно малые величины.
– Ты начал говорить о Василии Сталине.
– Да, я отвлекся. Но прежде давай выпьем вот за что. Давай выпьем за тех мальчиков, которым еще предстоит стать мужчинами. За то, чтоб они были счастливее нас!
Чокнулись, Но Шадрин к рюмке только прикоснулся губами.
– А теперь о другом, – Багров откинул свисающую на глаза светлую прядь волос. – Возьмем хотя бы такой случай. Представь себе картину: перед штабом – волейбольная площадка, началась тренировка. У командующего в это время идет прием. В коридоре скопилось около десятка генералов. И что же ты думаешь? Наш командующий увидел из окна кабинета волейбол и тут же прекратил прием. Выбежал во двор, сбросил кому-то на руки генеральский китель и встал на волейбольную площадку. Играть не умеет: бросается чуть ли не к каждому мячу, носится по площадке… А судья? Майор авиации с четырьмя планками орденов на груди? Сжался весь и словно язык проглотил. А на площадке – то захват или бросок мяча, то «игрок» в сетку врезался, то кого-нибудь сшиб… Да судья ли только? Некоторые на площадке готовы кишки порвать, лишь бы угодить. Я видел это из окна прокуратуры. Было стыдно. Стыдно за честь мундира, за человеческое достоинство… – и вдруг Багров резко вскинул голову и сразу как-то весь преобразился. По лицу его скользнула светлая улыбка. – Но я видел!.. Я видел, как захромал один игрок и ушел с площадки. Я хорошо знаю этого капитана. И знаю, почему он захромал. – Багров откинулся на спинку расшатанного стула: – Через пять минут, когда этот капитан поднимался по ступенькам на третий этаж, он уже не хромал!
Некоторое время Багров сидел молча, устремив взгляд куда-то сквозь стены, далеко-далеко… Голубые глаза его стали от вина совсем бесцветными.
– Или вот еще случай. Накануне первомайского праздника был у нас в штабе торжественный вечер. Докладчик – на трибуне. На сцене – президиум. В самой середине – наш командующий. Докладчик закончил речь и, как это полагается в наше время, выкрикнул здравицу в честь Сталина. Зал встает, зал рукоплещет, зал грохочет… Наш командующий стоит и улыбается так, будто весь этот ураган восторга и почестей адресован ему. И вдруг поднял руку и одним жестом, одним только жестом остановил эту лавину рукоплесканий. Все замерли. Замерли в ожидании чего-то значительного. А он возьми и брось в зал: «Не мне, не мне, это бате моему!» И захохотал. И что ты думаешь? С первых рядов аплодисменты грянули еще сильнее. Их подхватил зал. Аплодировали и те, кто сидел в президиуме.
Багров облокотился на стол, опустил голову:
– Тяжело. Противно. Унизительно. И это после того, как уже тридцать с лишним лет живем при Советской власти. Только теперь начинаешь верить парадоксам истории. Если лошадь Калигулы была произведена в сенаторы, то спрашивается: чем любой двуногий шарлатан, обладающий даром речи, глупее лошади Калигулы? – задумчивый хмельной взгляд Багрова блуждал в темном проеме окна. – Лошади… лошади… Как я люблю лошадей! Это, наверное, в крови, от прадедов. Они у меня были лошадниками… Кстати, о лошадях. Вернее, об одной несчастной лошадке, – Иван перевел на Дмитрия затуманенный взгляд: – Сталину прислали в подарок молоденького необъезженного рысака. Не животное, а вихрь! Ножки – струны, грива – пляшущее пламя, глаза – молнии… – Иван что-то усиленно припоминал, видимо, боясь пропустить какую-то подробность. – И вот этот венец природы отец отдал своему сыну. Тот, никогда не имевший дела с лошадьми, приказал объездить красавца, – Багров опять откинулся на спинку стула: – Боже мой, что тут началось! Весь штаб был поднят на ноги. Вызвали с ипподрома опытных жокеев, в помощь им пригнали чуть ли не целую роту солдат… Если б ты видел, как они мучили бедное животное! – Багров некоторое время молча смотрел в глаза Шадрина, словно стараясь прочитать в них сочувствие и сострадание, и добавил: – Ведь он, наш командующий, дал срок – объездить за день! За день! Даже если ты ничего не смыслишь в лошадях, и то должен понять, что это – варварство. Да еще в какой обстановке объезжали лошадь! Кругом ревут самолеты, взад и вперед снуют солдаты с автоматами… Грохот, крики, скрежет… – Багров закрыл глаза ладонью: – Я и сейчас вижу слезы на глазах скакуна. Вижу, как падают с него клочья пены, как мелко дрожат его ноги, как взбухли на груди вены…
Багров достал из кармана платок и вытер потный лоб. Закуривал медленно, словно что-то обдумывая.
– Ну и что, объездили? – спросил Шадрин.
– Загубили…
Подперев рукой голову, Иван сидел теперь неподвижно. На виске его билась голубая жилка.
– О чем думаешь? – задал вопрос Дмитрий.
– Об одном солдате. Его, наверное, расстреляют. В лучшем случае дадут лет пятнадцать-двадцать. Вот уже три месяца, как он сидит в тюрьме. Расследование поручили мне. Я провел два допроса, и вот уже которую ночь не могу спать. Солдат не выходит из головы. Так и стоит перед моими глазами – худенький, ясноглазый.
– А что за дело против солдата? – спросил Дмитрий.
– Дело за то, что в его душе проросла боль за деда и отца.
– Говори яснее.
– Солдат написал стихотворение. Никому не читал, никому не показывал. Его выкрал из чемодана солдата товарищ по взводу. В стихотворении сначала говорится о расстрелянном в тридцать седьмом году деде. Он командовал дивизией в армии Блюхера. Пустили в расход как врага народа. А бабку – в Карагандинский лагерь, как члена семьи изменника родины… – Багров желчно улыбнулся: – Оказывается, тогда была такая статья: ЧСИР. А нам в университете об этой статье – ни слова. А ведь была! И по ней пошли за колючую проволоку миллионы жен и взрослых детей! Страшно даже подумать…
– А отец? – спросил Дмитрий. – Тоже ЧСИР?
– Отцу не повезло по-другому. По дороге с Дальнего Востока на фронт глупо отстал от эшелона. В Красноярске решил забежать домой, проведать жену и сына. Забежал. А когда вернулся на станцию – эшелон уже отошел. Баню отменили.
– И что же с ним?
– Штрафной батальон. Вину свою смыл кровью – погиб, а сыну все равно подарил кличку: дезертир, – Багров встал: – Об отце тоже есть в стихотворении. А заканчивается оно приговором автору.
– Почему? Что он написал? – нетерпеливо спросил Дмитрий, уверенный в том, что Иван, знающий наизусть почти всего Есенина, запомнил и стихи солдата.
Багров настороженно огляделся, словно желая убедиться, что в утлой комнатке их только двое, и тихо, с придыханием произнес:
Если Бог мне задаст вопрос:
«Кто виновник твоей «печали?» —
Я отвечу: «Тиран-колосс
С псевдонимом Иосиф Сталин».
– Да… – произнес Шадрин. – Трудно защитить такого стихотворца.
– И все-таки я попытаюсь! – резко бросил Багров. – Стихотворение солдат никому не читал, никому не показывал. Его выкрал из чемодана какой-то мерзавец. Так что же, по-твоему, можно наказывать за мысли, за чувства?
…Было уже поздно, когда Багров провожал Шадрина до трамвая. Над высоким дощатым забором, обнесенным колючей проволокой, полыхали мощные прожекторы. Дмитрий чувствовал себя пьяным. А Иван, крепко сжимая его локоть, бросал куда-то в темноту, в пространство:
– Ты говоришь, тебе тяжело. Думаешь, мне легко? Думаешь, если я не посадил в тюрьму родную мать – значит, я счастливчик? Эх, Дмитрий, Дмитрий… Но ты был прав тогда, на Чертовом мосту. Остается только одно: ждать. Я это по-настоящему понял в штабе моего командующего, – он положил руку на плечо Шадрина: – А тебе советую: если, как и мне, придется падать топором на головы невинных людей – уходи на завод, к станку. Куда угодно, только уходи! Ты штатский, тебе легче. У станка ты почувствуешь себя человеком. В собственных глазах выше самого Бога станешь.
Дмитрий подавленно молчал.
– Да, кстати, дай я запишу твой адрес. Может быть, на той неделе загляну. И вообще, нам нужно чаще встречаться.
Шадрин записал свой адрес в блокноте Багрова.
Из-под дуги подошедшего трамвая посыпался ослепительно яркий сноп искр.
Простившись с Багровым, Шадрин вскочил на подножку уже тронувшегося трамвая. Ему казалось, что о самом главном, с чем он ехал к другу, что хотел ему поведать, он так и не рассказал. Посмотрел в окно: Иван, освещенный уличным фонарем, махал ему рукой…
В глазах Дмитрия, как живая, стояла картина: рота солдат и вздыбленный молодой скакун… Его точеные ноги мелко дрожат. На широкой груди взбухли вены. И пена… Белые клочья пены падают на черную землю полигона. А в умных глазах крик: «Люди! Что вы делаете?!»
Часть вторая
I
Последнюю неделю Светлана звонила почти каждый вечер, приглашала к себе, обижалась, что все ее забыли, но Лиля никак не могла вырваться: то работа, то домашние хлопоты, то какие-нибудь непредвиденные обстоятельства суеты сует… А вчера вечером звонил Игорь Михайлович, муж Светланы. Он очень просил Лилю навестить жену, которую вот уже третий день мучили сильные головные боли.
И вот Лиля снова на Садовой-Кудринской.
Из полуоткрытых окон почти пустого автобуса тянуло прохладой. Курносая веснушчатая кондукторша, сидевшая со своей служебной сумкой на коленях, с откровенным любопытством смотрела на модную прическу Лили, скользила взглядом по ее ногам, на которых были новенькие модные туфли, и так при этом по-мальчишески шмыгала носом, что Лиля не могла сдержать улыбки.
Против нее, спиной к кабине водителя, сидел рабочий паренек с эмблемой ремесленного училища на форменной куртке. Он засмотрелся в окно и не заметил, как в автобус вошла чистенькая старушка в черном платке. Опираясь на палочку, она взглядом выбирала место, куда бы ей сесть. Хотя больше половины мест в автобусе были свободны, почему-то взгляд свой она остановила на пареньке в форменной куртке. Ремесленник вначале растерялся, не понимая, что от него хочет вошедшая, но потом, догадавшись, с виноватой поспешностью вскочил и, бормоча что-то себе под нос, уступил место. И старушка села на то место, где сидел ремесленник. По лицам пассажиров пробежала улыбка.
«Вот так люди потихоньку выживают из ума», – подумала Лиля.
Сконфуженный паренек больше так и не садился. Когда Лиля сошла на Садовой-Кудринской, он по-прежнему стоял.
Лиля полагала, что Светлана лежит в постели. Но дверь ей открыла сама Светлана. Она заключила Лилю в объятия, звонко расцеловала и закружила.
– Что с тобой? – спросила Лиля, оглядывая подругу с ног до головы.
– Два дня лежала как пласт. Но мир не без добрых людей. Воскресил Григорий Александрович.
В гостиной, кроме мужа Светланы, сидел незнакомый молодой мужчина. На нем был светлый однобортный костюм, рубашка песочного цвета и сиреневый галстук.
Светлана представила гостя:
– Друг нашей семьи – Григорий Александрович Растиславский.
Растиславский подошел к Лиле и, слегка поклонившись, крепко пожал ее тонкую руку. Лиля обратила внимание на его глаза. Они были черные, большие, с глубинным зеленоватым отблеском. Густые брови походили на два ржаных колоса, которые опустили в черную тушь. Лицо открытое, русское. Лоб высокий, ясный. В жестких складках рта – твердая решимость. На резко очерченных губах бродила еле уловимая улыбка. Она словно говорила: «Ах, вот вы какая! Недаром мне о вас так много рассказывали. Вы и в самом деле красивая…»
Игорь Михайлович взглядом показал Лиле на свободное кресло, стоявшее рядом с журнальным столиком.
– Наконец-то, Лилиана Петровна, правдой и неправдой мы вас все-таки заманили.
– Как, разве не правда, что Светлана больна? – удивилась Лиля и перевела строгий взгляд с Игоря Михайловича на Светлану.
– Что ты, Лилечка! Если б не чудодейственные таблетки Григория Александровича – ты нашла бы меня в постели.
На столе стояло несколько высоких темных бутылок вина с иностранными этикетками. Среди них как-то особо выделялась бутылка «Столичной» водки. Глядя на нее, Лиля пошутила:
– Как северянка среди знойных африканцев.
Это сравнение понравилось Растиславскому. Улыбнувшись, он начал разливать по рюмкам.
– Эту северянку теперь знает весь мир. Выпьем за то, что она родилась у северного народа! – Растиславский поднял рюмку.
Выпили все, кроме Лили. Водку она пить не стала. Растиславский налил ей вина. Лиля долго не хотела пить, но ее уговорили. Когда она выпила, у нее захватило дух. Вино было крепкое.
– Что это такое?!
– Это жгучая парижанка! Младшая сестра нашей северной пальмиры, – продолжал шутить Растиславский.
– Вот именно, – поддержал его Игорь Михайлович, протягивая Лиле апельсин, который он очистил и мастерски развернул в виде распустившейся лилии. – Знаете, Лилечка, Григорий Александрович неисправимый славянофил. Там, за границей, он отдавал предпочтение всему русскому. Вплоть до того, что если ему приходилось выбирать между бифштексом по-гамбургски и картошкой с солеными огурцами по-рязански, он обязательно предпочитал последнее.
– Это что – из чувства патриотизма? – спросила Лиля и украдкой посмотрела на Растиславского. – Или дань моде?
– Я действительно славянофил. И ни капельки об этом не жалею, – загадочно улыбаясь, сказал Растиславский.
– Держись, Лиля. Ты затронула больное место Григория Александровича. После третьей рюмки он прочтет нам целый трактат о том, что только ржаной хлеб, русские щи и малосольные огурцы могли вскормить Ломоносова и Есенина. И если бы не сказки Арины Родионовны, то Пушкин был бы не тот.
Светлана выпила водку двумя глотками и остатки плеснула на ковер:
– А теперь попросим Григория Александровича что-нибудь сыграть. Сейчас ты, Лилечка, поймешь, кого потеряла наша московская консерватория.
Растиславского пришлось уговаривать. Он сидел в кресле и смотрел в окно, думая о чем-то своем. Потом все же сел за рояль, и первые аккорды сразу заполнили гостиную.
Бетховен… Игорь Михайлович сел глубже в мягкое кресло и закрыл глаза. Светлана примостилась на валике дивана. На коленях она держала перламутровую пепельницу и небрежно стряхивала в нее пепел.
Лиля отошла в сторону и прислонилась к стене.
Последние аккорды прозвучали обвалом в горах…
В гостиной долго стояла тишина. Первой заговорила Светлана:
– Charmant![2]2
Великолепно! (франц.).
[Закрыть]
Она подбежала к Лиле и шепнула ей на ухо:
– Ты только вглядись в него!
Игорь Михайлович открыл глаза и устало посмотрел на жену. У него было такое выражение лица, словно ему хотелось с досадой сказать: «Помолчи!.. Ради Бога, помолчи. Что ты понимаешь в музыке?» Но он не сказал ничего, а только вздохнул и попросил Растиславского сыграть еще что-нибудь…
– Я сыграю… – сказал Растиславский и пристально посмотрел на Лилю. – Сыграю для вас.
Он начал играть «Полонез» Огинского.
Лиля подошла к столу и налила бокал. Пила медленно. Выпила до дна. Потом села в кресло и закурила. Она видела, как энергично вздрагивали плечи Растиславского, как в такт аккордам он вскидывал голову, потом опускал ее так низко, что она чуть не касалась клавиш. Белые сильные руки, взлетая, на мгновение застывали над роялем и, стремительно падая, метались по клавишам. И снова, и снова – то могучие, призывные, то печальные аккорды…
Лиля не почувствовала, как закрылись ее веки, как выпала из рук сигарета. Кружилась голова. Ей казалось, что музыка – это она сама, что звуки исторгаются не из рояля, а из ее груди, в которой натянуты невидимые струны. Так она сидела до тех пор, пока не почувствовала, как кто-то тронул ее за плечо. Она открыла глаза. Перед ней стояла Светлана. Пахло паленым.
– Ты сожжешь квартиру, – Светлана держала горящую сигарету, которую уронила Лиля. На светлой клетке ковра была заметна рыжеватая подпал инка.
– Прости, Светлана, я совсем опьянела… – она хотела сказать, что Растиславский своей игрой заставил ее забыться, но сказала другое: – Как я пойду домой? Что скажет Николай Сергеевич?
Растиславский подошел к столу, налил себе сухого вина и выпил.
– Где вы учились играть? – спросила Лиля.
– Меня учила моя покойная бабушка. Она была преподавательницей музыки.
Очевидно, ничто так сильно и быстро не сближает души, как музыка. Теперь Лиля видела, что Растиславский гораздо тоньше и глубже, чем он показался ей в первые минуты знакомства.
Светлана хотела налить себе вина, но ее удержал муж:
– Не забывай, что вечером ты должна быть в отличной форме.
– Вы куда-то собираетесь? – спросила Лиля.
– Да. И приглашаем вас, – ответил Игорь Михайлович и улыбнулся своей добродушной улыбкой.
С тех пор как Игорь Михайлович помнит себя, он всегда старался делать людям только приятное. И это его благодушие и доброта позволяли Светлане жить так, как она хотела: свободно, весело, независимо от мужа, всегда занятого своими делами.
– Куда вы меня приглашаете?
– Сегодня защита докторской диссертации у нашего друга. Интереснейший человек! – ответила Светлана и, взяв мужа за руку, увлекла его за собой из гостиной.
– Кто он, этот ваш друг? Какую науку осчастливит своей диссертацией? – спросила Лиля, обращаясь к Растиславскому.
– Филолог. Талантливый человек. Наш общий друг. Старинный друг, – и тоже предложил: – Поедемте с нами?
– С какой стати? – встрепенулась Лиля.
– Это не имеет значения. Вы будете рядом со мной. Пусть все, кто не знает меня, думают, что у меня такая красивая жена.
Лиля рассмеялась:
– Вы странный человек.
– Не странный, а тщеславный. И в этом, признаюсь, моя слабость, – вздохнув, сказал Растиславский с видом горького сожаления.
– И эту слабость вы выдаете за достоинство? – сказала Лиля, встретив твердый взгляд Растиславского, лицо которого с уходом Светланы и Игоря Михайловича сразу же изменилось. Оно стало суровее и значительнее. – В первую минуту, когда я вас увидела, вы, произвели на меня совсем другое впечатление. Но когда вы сели за рояль!..
– Я очень прошу вас поехать с нами на защиту.
Лиля теребила бахрому скатерти. Она чувствовала, как горят ее щеки.
– Спасибо за приглашение, Григорий Александрович. Соблазнительно, но не могу, – она подняла на Растиславского свои большие печальные глаза: – А потом… Разве у вас нет жены?
– У меня была жена, сейчас ее нет.
– Вы развелись?
– Она ушла от меня.
– Ушла?
– Ушла, когда мне было очень трудно. Когда я учился. Но я прошу вас больше никогда не напоминать мне о ней.
– Вы одиноки?
– Очень. У меня много знакомых, но нет друга. Среди мужчин я их не ищу.
– Почему?
– Разуверился в мужской дружбе. Все, кого я считал своими лучшими друзьями, потом становились моими тайными врагами.
– Даже так?
Растиславский закурил:
– Наверное, потому, что все они больны неизлечимой болезнью.
– Какой?
– Завистью. Это страшная болезнь, Лилиана Петровна! Особенно опасной она становится, когда ею заболевают друзья. И не дай Бог, если вам в жизни начинает везти! Тогда вы погибли от тайных подножек и открытых предательств, – Растиславский сбил пепел с сигареты: – Разрешите мне называть вас просто Лилей? Я старше вас, и потом за последние три года в Париже я так устал от всего официального.
– Вы не боитесь приглашать на банкет женщину, которую видите впервые?
– Не боюсь.
– А если вашим друзьям и коллегам покажется, что у меня дурные манеры?
– Я уверен в другом, – видя, что Лиля хочет ему возразить, он остановил ее мягким, но властным жестом: – Я приглашаю вас как друга. Мне кажется, что я знаю вас вечность, – Растиславский, словно что-то мучительно припоминая, тер кулаком лоб: – Вам кажется странным, что я, увидев вас впервые, уже называю вас другом?
– Да. Мне это кажется странным. Вы такой серьезный человек – и вдруг… так торопитесь.
– Светлану я знаю… – Растиславский кивнул головой на дверь, за которой скрылась Светлана, – три года! Но я никогда не скажу, что мы были друзьями. Мы даже никогда не были хорошими товарищами.
– Кем же вы были друг другу?
– Земляками. А больше – собутыльниками. Вместе пили вино, сплетничали, говорили друг другу гадости, выдавая их за остроты. Светлана усвоила далеко не то, что составляет сильную и светлую сторону Парижа. Об этом я говорил ей не однажды. Но она не обижается, – Растиславский затушил сигарету и тихо продолжал: – А вот вы… Я много знаю о вас. Разумеется, из рассказов моих друзей. Не удивляйтесь. Прошу вас, выслушайте меня… Не думайте, что я слишком поспешен в своих оценках людей.
– Я слушаю вас.
– Я знаю, что вы замужем, что любите своего мужа. Но, уверяю вас, наша дружба нисколько не омрачит вашей семейной идиллии, – черные глаза Растиславского вспыхнули глубинным зеленоватым блеском. – Я прошу вас поехать сегодня с нами на защиту. Я очень прошу… Я познакомлю вас со своими друзьями. Это удивительно интересные люди.
– Все это заманчиво, но… – теперь Лиля уже колебалась.
Вошла Светлана. На ней было новое вечернее платье. Прозрачный серебристый тюль, собранный у талии в широкую юбку, падал до пола вокруг ее тоненькой фигурки, туго обтянутой блестящим серым шелком. Она стояла посреди комнаты, как в тюлевом футляре, похожая на дорогую парижскую куклу. Осмотрев себя в зеркале, Светлана начала медленно кружиться по комнате, и серебристые волны тюля, как облако, плыли вокруг нее.
– Ты, как всегда, неотразима! – театрально-наигранно воскликнул Растиславский. – Только цветок нужно приколоть чуть-чуть пониже.
Лиля зачарованно смотрела на Светлану. Она вспомнила свое вечернее платье, сшитое прошлым летом, когда она готовилась с дедом к поездке за границу.
– Ну как, Лиля? – спросила Светлана, мурлыча под нос песенку.
– Ты восхитительна!
Польщенная Светлана накинула на плечи горностаевый палантин и кокетливо взглянула на Растиславского.
В Лиле шевельнулось чисто женское чувство соперничества. Ей вдруг очень захотелось, чтобы Растиславский увидел ее нарядной, красивой.
– Итак, в твоем распоряжении осталось четыре часа. Сборы будут у нас. Отсюда вместе и двинемся, – ворковала Светлана, перекалывая цветок на платье.
– Я не могу поехать, Света, – нерешительно сказала Лиля, хотя самой все сильнее и сильнее хотелось побывать на защите диссертации, после которой, по обыкновению послевоенных лет, диссертант дает банкет. – Ты же знаешь…
Светлана всплеснула руками:
– Tu manques une occasion[3]3
Ты теряешь такой случай (франц.).
[Закрыть].
Уговаривать Лилю принялся Игорь Михайлович. Когда он почувствовал, что Лиля в душе уже согласилась ехать с ними, он повернулся к Растиславскому и низко поклонился:
– Добивайте!.. Я свои патроны уже расстрелял, – с этими словами он вышел из гостиной.
Теперь и Растиславский видел, что Лиля колеблется, что она ждет, чтобы он еще раз попросил ее. Он подошел, протянул ей обе руки и поднял с кресла.







