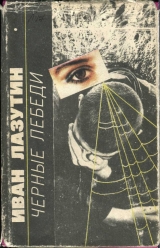
Текст книги "Черные лебеди"
Автор книги: Иван Лазутин
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 36 страниц)
II
Сворачивались от жары листья березы, никла, как ошпаренная кипятком, трава. С цветка на цветок лениво перелетали бабочки-капустницы. В розовых зарослях иван-чая монотонно гудели невидимые пчелы. Разомлев от зноя, Вулкан забрался в будку и, высунув ярко-красный язык, запальчиво дышал.
Батурлинов в этот послеобеденный час отдыхал в своем прохладном кабинете. Он полулежал на тахте, положив ноги на жесткий стул, и дремал. Время от времени он открывал глаза, поудобней протягивал затекшие ноги, и снова его большая седая голова запрокидывалась назад и медленно опускалась на подушку.
Рядом с ним на тахте спала Таня. Щеки ее во сне разрумянились, выгоревшие волосы льняной россыпью разметались по черной бархатной подушке, в углах которой были вышиты золотая рыбка и красный петушок. Залетевший из сада шмель монотонно вызванивал одну и ту же низкую ноту.
Ольга и Лиля подошли к окну. Встав на цыпочки, они смотрели на спящих. А когда Таня во сне зашевелилась, они, делая друг другу знаки, пригнулись, чтобы их не видели из кабинета, и удалились под громадную ель, разбросавшую далеко по сторонам непроглядную гущу зеленой хвои.
Пахло клейкой смолкой и удушливо-пряной белой кашкой, пестреющей в мятой сухой траве.
– Люблю, когда они спят, – тихо, почти шепотом сказала Лиля, расстилая в гамаке старенький, вытертый коврик. – Они как маленькие. Гляди да гляди. Ложись, отдыхай.
– А ты?
– Я на раскладушке, С кем ты оставила Машутку?
– С Митей. Я представляю, как она сегодня измотает его. Но ничего, один денек в неделю можно. Пусть почувствует себя отцом. Это полезно, – Ольга посмотрела на часы – Машутка сейчас должна спать. Вечером Митю сменит бабушка. У него сегодня районный слет дружинников. Награждение особо отличившихся ребят. Митя волнуется за своего заместителя. Тот первый раз в жизни будет выступать с докладом. Готовится к нему целую неделю, аж похудел, бедняга.
– Это, случайно, не тот рыжеватый студент, который приезжал с вами позапрошлое воскресенье?
– Он самый, Бутягин. У них с Митей такая дружба, что водой не разольешь.
– Он, кажется, на юридическом учится?
– Да. Хочет быть следователем.
С минуту лежали молча. Слышно было, как где-то на соседней даче плакал ребенок и его утешал старческий голос.
– Сколько сейчас Машутке? – спросила Лиля.
– Третий. Озорница растет. Избаловали ее. Как только отец повысит голос, так сразу убегает в уголок и делает рожицу: «Склаб, склаб…» Дразнит отца.
– А что это такое?
– Шкарб. Школьный работник.
Лиля вздохнула. Ольга прочитала в этом вздохе затаенную горечь. Она знала, что детей у Лили не будет, а поэтому в разговорах с ней старалась меньше говорить о дочери, чтобы не проявить лишний раз своей материнской радости. Уж так, видно, устроен человек: свое несчастье, свои неудачи и горести он острее чувствует рядом с удачами и радостями других.
Ольга потянулась. Потом вдруг беспричинно и неожиданно рассмеялась.
– Я сказала что-нибудь смешное? – Лиля подняла на Ольгу глаза, в которых отражалось беспокойство.
– Ты можешь не поверить, но это так. Даже стыдно говорить. Первый раз лежу в гамаке. Честное слово. Раньше я почему-то считала, что гамак – это роскошь, что в них качаются только одни знаменитости да бездельники. Если б ты знала, как я хотела, когда была девчонкой, покачаться в гамаке.
Долго лежали молча, думая о своем.
Молчание оборвала Лиля:
– Оля, ты счастлива?
– Да, – уверенно ответила Ольга, словно знала, что Лиля обязательно задаст ей этот вопрос.
– В чем твое счастье?
Ольга ответила не сразу. Она понимала, что если, говоря о своем счастье, будет особо подчеркивать радость материнства, то, кроме боли, ничего не причинит Лиле. И вместе с тем считала, что если умолчит о дочери, то ответ ее будет неискренним. А поэтому и начала с дочери:
– Я счастлива тем, что моя Машутка – вылитый отец. Хоть и атаманка, но умница, с характером. Здоровенькая. Я люблю своего мужа. Горжусь им и втайне иногда любуюсь. А потом, я даже не вижу, где кончается он и начинаюсь я. И наоборот – не вижу грани, где кончаюсь я и начинается он. Только теперь до конца понимаю, почему в народе, когда хотят сказать об одном из супругов, то говорят: «Вторая половина». Вот именно – половина. А единое целое – это когда оба вместе. Муж и жена.
– За что ты любишь Дмитрия?
– Вот уж этого, хоть убей, не знаю. Раньше, когда мы познакомились, он мне просто нравился. Тогда я могла бы ответить – почему он мне понравился. Он мне показался интересным, умным, внимательным и каким-то по-особенному добрым и непосредственным. А теперь… Теперь ко всему этому прибавилось что-то такое значительное, что не выразить словами. Он – моя судьба. Он – это я и Машутка…
Подложив руки под голову, Ольга лежала на спине. Лицо ее было строгим, глаза полузакрыты. Голос звучал спокойно и твердо, словно все, что она говорила Лиле, было уже давно продумано.
– Олечка, раньше мне почему-то казалось, что тебе некогда как следует подумать о жизни. У тебя столько забот и хлопот. Муж и Машутка у тебя заслонили все. А вот сейчас ты сказала такое, над чем я никогда не думала. Есть в тебе что-то от княгини Волконской. Раньше я почему-то считала, что крест добровольного изгнания, который она сама взвалила на плечи, отправляясь за мужем на каторгу, – это величайший подвиг. А теперь… – Лиля умолкла.
– Подвиг дворянки, подвиг аристократки. Но не жены. Как жена, Мария Волконская самая рядовая. Такая, как я, как ты, какой должна быть каждая порядочная женщина.
Последняя фраза больно кольнула Лилю. Она вспомнила Струмилина. Вспомнила разговор с дедом, когда он сравнил ее уход от больного Струмилина с предательством человека, бросившего слепого посреди шумной улицы. И ей стало душно. Она расстегнула ворот кофточки.
– Оля, не ставь меня никогда рядом с собой. Я не достойна такого равенства. Почему – ты знаешь.
– Я не об этом, Лиля. Какое здесь может быть равенство. Равенства нет ни в любви, ни в дружбе. Инициатива всегда в руках сильного. Слабый всегда добровольно, а иногда даже с радостью принимает власть сильного. Это закон жизни.
– Не совсем понимаю. Какая может быть радость в подчинении? Холоп никогда не был счастлив оттого, что он холопствует.
– Вот, видишь, я тебе о жизни говорю, о семье, а ты свернула в социологию. Абсолютного равенства никогда быть не может. Какое может быть равенство у гения и дурака? У богатыря и слабого человека? Можно ли равнять человека, за плечами которого тяжелое детство, юность в окопах и госпиталях, наконец, университет… с человеком, у которого, кроме аттестата средней школы и диплома вечернего института, нет ничего за душой? Мы с Митей строго придерживаемся принципа равенства, но оба знаем, что суть нашего теоретического равенства – в фактическом неравенстве.
– Я ни-и-чего не понимаю. Ты так путано говоришь, что у меня в голове сплошной сумбур.
– Я могу говорить проще. Могу даже на опыте моей семьи проиллюстрировать свою мысль о равенстве.
– Пожалуйста, – Лиля приподнялась на локтях, смотрела на Ольгу, а сама думала: «Вон, оказывается, какая ты… А я-то думала, что ты простушка».
– Когда мы с Митей идем по улице, то вопрос, куда идти, решает он. По какой стороне улицы идти – это решение принадлежит мне. Вернее, это право он оставляет за мной. И было бы смешно, если бы все стало наоборот. Теперь тебе понятно?
– Понятно.
Лиля вздохнула и, закрыв глаза ладонью, продолжала лежать неподвижно. Потом спросила:
– А в дружбе может быть равенство?
– Никогда, – твердо, как отрезала, ответила Ольга.
– Почему?
– Потому, что слабый всегда добровольно принимает власть сильного. Причем принимает эту власть незаметно для себя, так как незаметно сильный подчиняет себе слабого.
– Это что – робинзонада в дружбе?
– Нет, не робинзонада. То неравенство и та власть, о которой говорю я, лежат в сфере чувственного, в самых ее благороднейших и интимных проявлениях – в любви и дружбе. И вот ведь какая загадка: чем осознанней я принимаю власть мужа, тем становлюсь сильней. Теряя один икс, я тут же в этой потере приобретаю два игрека. Наверное, я говорю туманно?
– Нет, Оля, ты говоришь очень понятно. Причем всю твою философию можно замкнуть в одно слово.
– В какое?
– Люблю!
– Да, люблю. И я счастлива.
– Завидую я тебе, Олечка, по-доброму. А я свое счастье сама оттолкнула от себя. В моей жизни осталась одна звездочка. Да и та печальная.
– Какая?
– Таня. И не потому, что она дочь Николая Сергеевича. Больше всего, наверное, потому, что ее детство – это мое детство.
– Ты ее удочерила?
– Конечно.
– А фамилию чью носит?
– Отца. Струмилина.
– К дедушке привыкла?
– Неразлучны.
– Как его здоровье?
– Работает. Завтра у него показательная операция. Готовится к ней две недели. Будут присутствовать хирурги из Америки и Финляндии.
Заслышав за спиной треск хрустнувшей ветки, Лиля вздрогнула и резко повернула голову: дед и Таня, приседая в коленях и неслышно ступая, хотели подойти к гамаку незаметно.
– Ах вы, заговорщики! – воскликнула Лиля и погрозила пальцем Тане.
– Мы с дедушкой идем на родник. Пойдемте с нами! Мама, тетя Оля ни разу не видела наш родник!
– Что это за родник? – Ольга привстала с гамака.
– О!.. – Батурлинов вскинул над головой руку. – О нашем роднике ходят легенды! Говорят, двести лет назад из него пили цари. Из Москвы слуг наряжали за этой студеной водицей. А жители окрестных деревень утверждают, что вода в роднике чудодейственная. Стоит разок умыться – и станешь красивой и молодой.
– Вы это серьезно, Гордей Никанорович? – спросила Ольга, стараясь по лицу Лили, по которому скользнула улыбка, понять: не шутит ли насчет царей и царских слуг?
– Насчет чудодействий – не утверждаю. Что касается чая – лучше воды не найдешь. Цари были не совсем дураки. Пойдем, Танечка.
Хлопнув калиткой, Гордей Никанорович и Таня скрылись за кустами акации, разросшейся вдоль изгороди.
– Дедушка-а!.. – крикнула вдогонку Лиля. – Вы потише. Мы вас догоним.
На ходу повязывая косынку, Лиля побежала за бидончиком:
– Олечка, дедушка сказал правду. В подземных родниках есть какая-то тайна. Пойдем… Не пожалеешь.
III
Приема у военного прокурора Веригин ждал больше месяца. Ходил на Кировскую почти каждый день, следил, как продвигается очередь. И вот, наконец, дождался. Завтра его должен принять прокурор. Ночь спал плохо. Да и какой там сон, когда решалась судьба всего, что было отнято и что может быть возвращено. А главное – вернуть доброе имя, чтобы открыто смотреть в глаза людям.
Бесконечно длинными показались четыре часа, проведенные в полутемном коридоре. Не у одного Веригина замирало сердце, когда дежурный старшина с красной повязкой на рукаве выходил из кабинета прокурора и вызывал следующего. В коридоре сидело более десяти человек. Все были курящие. Курили жадно, прикрывая папиросу лодочкой ладони. Веригин решил, что в прошлом все эти люди – военные. Иначе, что бы им делать в военной прокуратуре?
Вызвали Веригина. Он встал, оправил суконную гимнастерку, подпоясанную широким ремнем, и шагнул через порог кабинета.
За столом, покрытым зеленым сукном, сидел подполковник – средних лет, с худощавым, утомленным лицом. Это и был военный прокурор. Словно оценивая, кто стоит перед ним, он остановил взгляд на выгоревших темных полосках на воротнике гимнастерки Веригина. Это были следы петлиц, которые отпороли давным-давно. Глаза прокурора как бы спрашивали: «Как вы сумели сохранить эту довоенную форму?..»
– Садитесь, – предложил он.
– Спасибо, – Веригин сел.
– Я слушаю вас.
Веригин положил перед подполковником заявление, убористо написанное на четырех страницах.
Прокурор пробежал глазами первые строки и понял, что имеет дело с крупным военачальником в прошлом. Неторопливо закурил и принялся читать. Читал внимательно, иногда что-то обдумывая или припоминая.
Холодный пот щекочущей струйкой плыл по спине Веригина. А прокурор все не отрывал глаз от заявления. Вот он снова вернулся к первой странице. Потом вздохнул и отодвинул заявление в сторону. Только теперь Веригин рассмотрел глаза прокурора: серые, умные, глубокие. Такие глаза не бывают у людей жестоких, равнодушных.
– Где вы сейчас проживаете?
Веригин протянул прокурору паспорт:
– В Красково, по Казанской дороге.
Прокурор не стал смотреть прописку, поверил на слово и отодвинул от себя паспорт:
– Для того чтобы военная прокуратура возбудила ходатайство о реабилитации, нужны характеристики от людей, которые вас хорошо знают. Разумеется, это должны быть авторитетные люди, лучше всего – военные.
Веригин вспомнил Орлова:
– А этим лицом может быть человек, который, как и я, отбывал срок заключения?
– Кого вы имеете в виду?
– Вице-адмирала в отставке.
– Фамилия?
– Орлов Владимир Николаевич. С ним вместе мы пробыли одиннадцать лет. Шесть лет в лагерях и пять лет в ссылке. Сейчас он в Москве. Восстановлен в партии, реабилитирован.
– Орлова я знаю хорошо… – подполковник прикурил погасшую папиросу, и словно что-то обдумывая, тихо продолжал: – С Орловым не раз приходилось встречаться. Он прошел через нас.
Прокурор достал из нижнего ящика стола желтую папку, долго листал ее, потом, найдя какой-то документ, сказал:
– Да, сейчас Орлов в Москве. Вице-адмирал. Получил на Песчаной улице прекрасную квартиру, – и, подняв взгляд на Веригина, спросил: – Вы давно видели его?
– В Москве еще не видел. Последний раз встречались в ссылке, в Енисейске, это было год назад.
– Что же так? Живете четыре месяца рядом с Москвой и до сих пор не навестили товарища по несчастью?
– Звонил два раза – не заставал. А потом Владимир Николаевич Орлов уехал на курорт.
– Что ж, курорт – дело неплохое. А вот насчет поручительства Орлова – я доложу руководству. Но думаю, этого будет недостаточно. Все-таки до тридцать седьмого года Орлов не знал вас. Если же у нас будет характеристика старого сослуживца, то вице-адмиральское поручительство, как подкрепление к ней, окажется очень кстати. Все-таки одиннадцать лет, да еще каких лет, вместе!
Прокурор вздохнул и улыбнулся. В улыбке его Веригин прочитал: «Эх, дорогой товарищ, если бы мне дали волю, власть и сказали: «Подполковник, плюнь ты на эту бюрократическую возню, на эту бумажную волокиту, на все эти послания и протесты в высшие судебные инстанции, решай все сам – ты прокурор…»
– Спасибо, товарищ подполковник, я вас понял.
– Теперь главный вопрос: кто персонально из ваших старых сослуживцев может дать характеристику? Я имею в виду тех товарищей, кто знал вас до тридцать седьмого года. Судя по вашему послужному списку, кое-кто из них еще должен служить в армии.
– Дело в том, товарищ подполковник, что, некоторых из моих бывших сослуживцев посадили в тридцать седьмом и тридцать восьмом годах, часть погибла в Отечественную войну, некоторые давно ушли в отставку… – Веригин смолк, глядя на портсигар, лежавший на столе.
– Курите?
– Если позволите.
Веригин волновался. Пальцы его рук крупно дрожали, когда он прикуривал.
– Неужели во всей Москве нет никого из старых друзей-сослуживцев?
– Есть, но они… как вам сказать…
– Бывшее начальство? Думаете, забыли?
– Нет, мои бывшие подчиненные. И думаю, что хорошо помнят.
– Ну, так что же?
Веригин закашлялся. В его прокуренной груди глухо захрипело:
– Да… Когда-то они были моими подчиненными. Были… Но теперь вряд ли захотят вспомнить. Одного даже рекомендовал в партию. Давно это было, в гражданскую.
– Кто он теперь?
Веригин ответил не сразу. Он посмотрел на подполковника так, словно раздумывая, стоит ли говорить ему о том, о чем он спрашивал.
– В Москве работают два моих бывших подчиненных. Сейчас они большие начальники.
– Кто они?
– Оба маршалы.
– Каких родов войск?
– Один – Маршал Советского Союза.
– А другой?
– Маршал артиллерии.
– Д-да… – подполковник покачал головой, многозначительно улыбнулся: – Интересно… Что ж, тем более все должно быть хорошо, – подполковник встал.
Встал и Веригин.
– Товарищ комбриг! Считаю, что не ошибаюсь, если уже сейчас называю вас так… Дела ваши вовсе не плохи. Это… – прокурор показал на заявление, лежавшее на столе, – я оставлю у себя. Теперь дело за характеристикой. Полагаю, если один из маршалов даже в сдержанных тонах напишет о вас несколько добрых слов, то наша прокурорская машина заработает на предельной скорости. Это я вам обещаю.
– Спасибо.
Веригин хотел пожать подполковнику руку, но не решился – его большая костистая рука, поднятая над столом, на полпути застыла в воздухе. Какое-то мгновение оба они, Веригин и прокурор, стояли в нерешительности. Потом подполковник подошел к Веригину и, молча пожав ему руку, проводил до дверей. Сдержанно, так, чтобы не слышал дежурный старшина, стоявший в коридоре, сказал:
– Желаю удачи.
На улице, очутившись в круговерти машин и пешеходов, Веригин подумал: «Вот так на войне расстаются солдаты. Когда один уходит в разведку, то друзья по взводу всегда желают удачи. Хороший человек этот прокурор…»
Не успел Веригин перейти улицу, как кто-то крепко сжал его локоть. Он повернулся. Перед ним стоял пожилой мужчина. Мужчину этого он видел в коридоре прокуратуры, даже обратил внимание, что тот внимательно присматривался к нему и словно хотел о чем-то спросить, но не решался подойти. Заметив все это, Веригин тут же переключился на другое. Его мозг, нервы, воля были поглощены одним – ожиданием предстоящего разговора с прокурором. А теперь… Теперь он напряженно вспоминал, где видел этого человека?
– Веригин? – спросил незнакомец, и лицо его передернулось в мелком нервном тике.
– Так точно.
– Не узнаешь?
– Что-то не припоминаю.
– Север помнишь?
– Его нельзя забыть.
– А наш рудник?
Веригин отступил на шаг. Он растерялся. Штрафной изолятор за полярным кругом!.. Неужели и этот человек тоже был там?
– Как же, помню… Но ведь вы… Нет, это, наверно, мне показалось…
– Нет, тебе не показалось. Я тот самый номер 1215, который на нарах лежал рядом с тобой.
– Родимов?!
– Он самый.
В глазах Веригина взметнулось смятение:
– Но ведь ты же… погиб при завале в шахте…
– Да… Погиб… при так называемом завале в шахте.
– В октябре сорок первого?
– В октябре сорок первого.
– Постой, постой… Я решительно ничего не понимаю! Отойдем в сторонку. Я просто ошеломлен, – Веригин увлек Родимова под арку толстостенного старинного дома и продолжал всматриваться в его лицо, изборожденное глубокими морщинами.
– Николай Карпович, ты ли это?
– Да, Александр Николаевич, это я.
– Пойдем отсюда куда-нибудь подальше.
Они молча направились в сторону Чистых прудов. У трамвайного кольца Веригин неожиданно остановился:
– Слушай, Николай, пойдем посидим где-нибудь. У меня есть на пиво. Хоть душу отведем.
Родимов улыбнулся:
– Ты прочитал мои мысли, Александр. Пойдем. Мне сегодня чертовски хочется выпить. Я расскажу тебе историю, от которой у тебя поднимутся дыбом волосы.
– Чем ты недоволен? Пришел с того света и ропщешь?
– Ты прав, Александр, я недоволен. А впрочем, это не то слово. Пойдем, иначе я прямо средь улицы забою, как волк на луну.
Обветренное серое лицо Родимова вновь передернулось в нервном тике. Только теперь Веригин заметил, что Родимов совсем седой, хотя волосы, как и раньше, густые, жесткие, непокорные. Лицо же стало совсем другим. Его иссекли морщины, линия рта необратимо изогнулась скорбным полудужьем, уголками вниз.
…И они пошли. Пошли молча по узкому переулку. Им нужно было остаться наедине.
IV
Проводив Родимова до Большой Калужской, где тот временно остановился у кого-то из дальних родственников, уже под вечер Веригин хотел ехать за город, но на Казанском вокзале раздумал и решил навестить друга по ссылке, поэта Валдайского. Пять лет, проведенных в Енисейске, так их сблизили, что и в Москве, на воле, они не могли прожить недели, чтобы не повидать друг друга. А тут к тому же встреча с Родимовым, который поведал такое, от чего мороз пробегал по коже. Расстрелян в сорок первом – и вдруг живой! Казалось бы, что может быть радостнее, чем встать из могилы? А тут – нет… Оказывается, есть вещи пострашнее смерти. Могила гасит любые страдания. А вот жизнь иногда своими неожиданно налетевшими порывами ветра раздувает гаснущий костер мучений.
Веригина мучил вопрос: стоит ли Валдайскому сообщать эту невеселую историю? Она могла болезненно повлиять на впечатлительного поэта, который столько выстрадал за годы тюрем, лагерей и ссылки.
В тягучих раздумьях и воспоминаниях о пережитом Веригин доехал до Черкизова. Быстро темнело. В низеньких деревенских домиках – последних следах старых московских окраин, затянутых зелеными палисадниками, – зажигались огни.
Веригин еще издали заметил свет в правом окошке деревянной лачуги, кособоко примостившейся к двухэтажному кирпичному дому.
Всякий раз, когда Веригин подходил к домику, где жил Валдайский, ему казалось, что какие-то невидимые сильные клещи втягивают в утробу земли эту уже почти сгнившую лачугу, а она, войдя в землю по самые окна, из последних сил цепляется за кирпичную стену соседа, стараясь продлить свое жалкое существование под солнцем.
Веригин посмотрел на кирпичный дом и подумал: «Когда-то, очевидно, его построил торгаш, выбившийся из приказчиков. Наверху жил со своей многочисленной семьей, а внизу была керосиновая лавка. Она и сейчас осталась керосиновой лавкой».
Веригин знал, что раньше Валдайский жил с семьей в одном из переулков, выходящих на Арбат, в старинном особняке. Занимал четыре комнаты с лепными потолками, с дубовым паркетом, с камином в просторной гостиной.
После ареста поэта сразу же посадили в Бутырскую тюрьму и его жену. У Валдайских была дочь, Регина, студентка Института философии, литературы и истории. Когда родителей забирали, она была в фольклорной экспедиции на севере. Вернувшись глубокой осенью в Москву, Регина увидела в квартире чужих людей. Райисполком оставил ей самую маленькую, полутемную комнату.
В 1943 году, после окончания института, Регина вышла замуж за демобилизованного по ранению офицера, с которым познакомилась в подшефном военном госпитале. Родом офицер был откуда-то из-под Иркутска. Бросив свою крохотную комнатенку, Регина вместе с мужем уехала в Сибирь. Так Валдайские окончательно потеряли площадь в Москве. Вот и снимали теперь комнатку в Черкизове.
В Черкизове у Валдайских Веригин бывал не раз. Но мира и согласия в семье друга он не видел. Софья Николаевна, которую тюрьмы и лагеря сделали совершенно больной женщиной, приучили пить и курить, всегда была раздражена, чем-то недовольна. Преображалась только тогда, когда на столе появлялась бутылка водки. Пила наравне с мужчинами. После каждой выпитой рюмки шла за ширму и незаметно для гостей в ту же рюмку капала сердечное.
Носил Валдайский (об этом знал не только Веригин) тяжкий крест в душе. В 1943 году, будучи в лагере, Валдайский написал хвалебную поэму о Сталине. Эту поэму он послал в Москву, в Кремль. И целых три месяца ждал ответа. Ждали Этого ответа и друзья по лагерной судьбе. Дождались. Валдайского повезли в Москву. Правда, везли с охраной, но все же не в товарной теплушке – в вагоне курьерского поезда «Владивосток – Москва».
В столице Валдайского сразу же доставили в Министерство государственной безопасности. Приема ждал трое суток. Жил вместе с конвоиром в служебной комнате министерства. Наконец вызвали. Беседовал с ним лично Берия в присутствии адъютанта и заместителя. По просьбе министра Валдайский прочитал поэму. Берия похвалил, даже похлопал по плечу, а потом тут же, при Валдайском, отдал распоряжение своему адъютанту: снова отправить в лагерь – туда, откуда привезли.
Что угодно, но такого коварства Валдайский не ожидал. Ехать за тридевять земель только для того, чтобы прочитать министру поэму! А ведь с этой поездкой в Москву у него было связано столько надежд! Пять бессонных ночей в поезде… Пятеро суток за окном вагона свистел ветер свободы. На этом ветру можно было захлебнуться от счастья, захмелеть от нахлынувших дум. Надежда тугими девятыми валами захлестывала воображение.
Дорога назад была нелегкой. Валдайскому казалось, что со стороны он походит на человека, которого за какие-то доблести подняли на руки, два раза подбросили над головой, а на третий, подкинув еще выше, поклонники разбежались. И вот он, пристыженный, униженный перед самим собой и перед людьми, сидит на земле в грязной луже и, пугливо озираясь, ищет чьего-нибудь сочувствия. «За что они сыграли со мной такую злую шутку? – думал он и не находил ответа. – Зачем нужно было вызывать в Москву? Какой у Берия был расчет?»
Через два месяца из Министерства внутренних дел пришло в лагерь распоряжение: Валдайского из-под стражи освободить и, согласно директиве № 185, оставить работать при этом же лагере в качестве вольнонаемного. Это «сработала» поэма о Сталине. Но той, обжигающей сердце радости, которую он испытывал, когда ехал в Москву, Валдайский уже не чувствовал. После поездки в столицу на душе осталась неистребимая полынная горечь. Валдайский почти бросил писать стихи. По распоряжению управления лагерей он был назначен начальником агитбригады, с которой более двух лет колесил по лагерям Восточной Сибири. Поэму о Сталине он читал, но уже не с тем огоньком, не с тем душевным трепетом, с каким читал ее Берия. А читать эту поэму заставляли.
И вот теперь Валдайский вернулся в Москву. Как и Веригин, как и другие товарищи по ссылке, он хлопотал о реабилитации. Как и раньше, до ареста, жил вольным художником, зарабатывая на случайных публикациях стихов и на внутренних рецензиях в издательствах. Те, кто знали его раньше, до тридцать седьмого года, помнили Валдайского добром, а поэтому помогали, чем могли: кто рекомендательным звонком в редакцию, кто поручение отрецензировать рукопись стихов… Худо ли, бедно ли, но Валдайский перебивался. Даже начал поэму, о которой не раз говорил Веригину. Но читать пока временил: «Подожди, Саша, выпишусь до конца – тогда выложу все сразу. Я ведь сейчас ношу в душе прямо-таки атомный заряд, так и распирает всего».
…Веригин вошел во двор, завешенный невысохшим еще бельем. Пригибаясь, чтобы в темноте не задеть веревок, он пробрался к освещенному окну и постучал. Чья-то рука отвела тюлевую занавеску и в окне показалась крупная взлохмаченная голова. Лица Валдайского Веригин не разглядел, но голова застыла так настороженно, что Веригин подумал: «Пуганая ворона и куста боится…»
Наконец Валдайский узнал Веригина и распахнул расшатанные створки окна, заставленного горшочками с геранью и рогатым столетником:
– Вот легок на помине! А мы только что о тебе вспоминали.
Не закрывая окна, Валдайский кинулся к двери.
Проходили длинными темными сенями. Веригин шел осторожно, как слепой, одной рукой ощупывая бревенчатую стенку, другой придерживаясь за локоть Валдайского.
– Что же, нет света?
– Хозяйка такая выжига! Считает каждую копейку.
– Дома?
– К счастью, сегодня у нее ночная смена.
– А Софья Николаевна? – Веригину не хотелось, чтобы она была дома. Откровенного, сердечного разговора с другом при ней никогда не получалось.
– Отправил на юг, к сестре. Совсем расклеилась.
– Юг – дело стоящее. Пусть подлечится.
Валдайский открыл дверь, обитую растрепанным войлоком.
Веригин почти каждую неделю бывал здесь и всякий раз уезжал отсюда с тяжелым чувством. К душе точно прилипала какая-то паутина. И все из-за комнаты, в которой поселились Валдайские. Душная, тесная, с засаленными, потерявшими свой изначальный цвет обоями, она давила низким прокопченным потолком, душила запахом полусгнивших половиц, невыстиранного белья. Однажды Веригин поймал себя на мысли, что в прокуренных лагерных бараках запах был хоть и казенным, пропитанным рабочим потом и дустом, но то был запах трудовой, артельный. В нем было ото всего понемногу: и от общих жестких вагонов, и от больших городских вокзалов, и от солдатских казарм. А в этой комнате с чахлой геранью на подоконнике и с застиранной тюлевой занавеской на подслеповатом окне пахло нищим мещанством. И это угнетало Веригина, вызывало чувство безысходности.
За столом, покрытым потрескавшейся клеенкой, сидела немолодая женщина. Уронив голову на руки, она сидела неподвижно. Можно подумать, что уснула. В черных волосах серебрилась густая поземка седины.
Почувствовав на себе взгляд Веригина, женщина медленно подняла голову, но даже не взглянув на него, поднесла к лицу платок, прижала его к глазам, залитым слезами, и опять замерла.
– Неужели не узнал? – Валдайский смотрел то на Веригина, то на плачущую.
Женщина положила на стол руки, подняла на Веригина воспаленные глаза и скорбно, через силу, улыбнулась.
Веригин оторопел:
– Луиза!.. Боже мой, Луиза!.. Какими судьбами? Когда ты приехала? Наконец-то!
– Уже больше месяца, как вернулась, – ответил за Луизу Валдайский, видя, что та все еще с трудом борется с подступающими к горлу рыданиями.
– А где Орлов? Почему ты не с ним?
Валдайский сделал досадливый жест:
– Обожди, Саша… Об Орлове не спрашивай. Я все тебе расскажу сам.
– Луиза!.. – уже в который раз радостно произнес Веригин. – Если б ты знала, как мы тебя ждали!
Да, это была Луиза…
Весной тридцать седьмого года ее муж, крупный инженер, возвратился на Родину после трехлетнего пребывания в Америке и лично от Сталина получил задание участвовать в проектировании завода государственного значения.
Летом в Москве и крупнейших городах начались массовые аресты. Ходили слухи о каких-то организациях врагов народа. Почти не было дня, чтобы утром в крупном ведомстве или государственном учреждении кого-нибудь недосчитывались. Бывали дни, когда какой-нибудь главк или даже целый наркомат начинал работу без доброй половины начальников.
С мужем и четырехлетним сыном Луиза жила тогда в доме наркомата обороны, на углу Грузинской улицы и Тишинской площади. Летом тридцать седьмого года были аресты и в этом доме. Жильцов лихорадило. Ниже Луизы, на втором этаже, жила ее подруга, жена военного. Звали ее Машей. Они познакомились четыре года назад, когда ходили в женскую консультацию. А потом случилось так, что в родильном доме лежали в одной палате. У Луизы родился мальчик, а у Маши – девочка. Вместе выводили детей на прогулку, шили у одной портнихи, а если случалось, что одной попадалось что-нибудь дефицитное для своего ребенка, то она не забывала свою подругу.
И вот однажды ночью, это было в конце августа, Маша, растрепанная, в длинном ночном халате и домашних тапочках на босу ногу, позвонила в квартиру Луизы. Дверь ей открыл Константин Петрович, муж Луизы. Прежде чем добиться от нее хоть слова, Луиза долго успокаивала подругу, дала ей валерианки, холодной воды, обнимала, уговаривала…
– Колю… арестовали… – еле выдавила из себя Маша и тут же слова ее утонули в горьких слезах.







