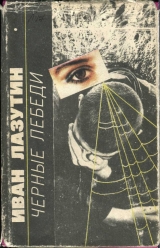
Текст книги "Черные лебеди"
Автор книги: Иван Лазутин
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц)
Не раз еще играл оркестр по заказу Растиславского. Григорий Александрович и Лиля не пропускали ни одного танца.
Было уже за полночь, когда Светлана неожиданно встала и, нервно затягиваясь сигаретой, сказала, что ей пора домой. Но ее удержал Растиславский. Только он один еще имел на нее влияние.
Потом Светлана снова закапризничала и, пуская через соломинку пузыри в пунше, продолжала портить настроение Растиславскому и Лиле. В ней заговорила неприкрытая зависть. Теперь она уже жалела, что познакомила Григория Александровича со своей подругой. Никогда она не думала, что этот каменно-невозмутимый и расчетливый Растиславский может так сразу увлечься. А тут, вдруг… Нет! В эту бочку меда Светлана завтра же выльет такую ложку дегтя, что они тут же отшатнутся друг от друга. Она это сделает непременно. Но, конечно, сделает так незаметно, что оба они – и Растиславский, и Лиля – будут по очереди исповедоваться перед ней в своих разочарованиях и станут благодарить за дружеское участие. Но самое главное – сегодня, сейчас же оторвать Лилю от Растиславского. Иначе будет поздно.
Светлана посмотрела на часы:
– Пора! Тебя, дружочек, ждет больной муж. Да и мы засиделись.
Напоминание Светланы о больном муже обрушилось на Лилю ушатом ледяной воды. Она сразу как-то засуетилась, начала собираться.
– Да, да, ты права, Светочка… Николай Сергеевич теперь уже волнуется. Я прошу вас, Григорий Александрович, проводите меня домой.
Растиславский с ненавистью посмотрел на Светлану, которая с плохо скрытым ликующим злорадством встретила этот взгляд, но сделала вид, что не поняла его значения.
Григорий Александрович рассчитался. Перед самым уходом он на минуту задержался и что-то шепнул официанту. Тот утвердительно кивнул головой.
…Ночь была прохладная. В скверике на площади Свердлова было пустынно. У Лили кружилась голова. Опираясь на руку Растиславского, она твердила про себя одно и то же: «Что делаю?.. Что я делаю!.. Ужасно!..»
Ночная Москва затихала. Она жила в эти поздние часы жизнью огней, звуками стремительно движущихся по почти пустынным улицам автомобилей.
Светлане и Игорю Михайловичу нужно было ехать на Песчаную улицу, Лиле – в сторону Сокольников.
Светлана, садясь в такси, на прощание снова напомнила Лиле о больном муже. И, помахав из окна рукой, небрежно бросила:
– Привет благоверному. Пусть скорее поправляется. Позванивай.
Лиля и Растиславский остались вдвоем на затихшей площади.
– Лиля, вам нужно побыть на воздухе.
– Да, я хочу немного посидеть.
Они перешли пешеходную дорожку и свернули в сквер. Растиславский показал на скамейку. Сели. Лиля откинулась на спинку и закрыла глаза.
– Я так пьяна, что боюсь идти домой, – почти шепотом проговорила Лиля и склонила голову к плечу Растиславского.
Молчали долго. Наконец Растиславский заговорил:
– Зайдем ко мне.
– К вам?! – Лиля подняла на него тревожный взгляд. – Куда?
– В гостиницу.
– Зачем?
– Я там живу. У меня – номер.
– Разве вы не москвич?
– Нет, я из Ленинграда. В ожидании квартиры временно проживаю в гостинице.
Лиля поднесла ко лбу руку:
– У меня кружится голова! Все плывет перед глазами… Зачем вы заставили меня так много пить?!
– Вам ни в коем случае нельзя в таком виде приезжать домой.
– Что же мне делать? – Лиля закрыла глаза.
– Пройдемте ко мне. Выпьете чашку крепкого кофе – и все как рукой снимет.
После некоторой паузы Лиля сказала:
– Вряд ли я смогу идти. Меня не слушаются ноги. Нет, нет… Зачем вы меня так напоили? Зачем, Григорий Александрович? – она всхлипнула, как ребенок: – Что я делаю!
Растиславский наклонился к ней:
– Лиля, вы плачете… Я обидел вас? Пойдемте, я умоляю вас, это совсем недолго. Я помогу вам… – Растиславский встал, взял Лилю за плечи и помог ей подняться со скамьи.
До входа в гостиницу шли молча. Швейцар распахнул перед ними дверь. Несмотря на поздний час, не задержала их и дежурная по этажу. Она сделала вид, что не заметила прихода Растиславского с молодой женщиной.
Двухкомнатный номер был обставлен старомодно, но роскошно. На столе в хрустальной вазе стояли розы.
– Цветы!.. – воскликнула Лиля и припала лицом к розам. – Как я люблю цветы!.. Откуда такие?
– С юга.
– Что может быть красивее роз?
Растиславский помог Лиле снять перчатки, усадил ее в кресло и вышел. Минут через десять он вернулся. Почти следом за ним пожилой официант вкатил тележку с вином и закусками. Это был тот самый официант, что обслуживал их в ресторане. Учтиво поклонившись Лиле, он поставил на круглый стол, покрытый белой скатертью, вино, вазу с фруктами, шоколад и сигареты.
– А кофе? Где же кофе, Григорий Александрович?
– Кофе будет через несколько минут.
Официант поклонился и вышел.
Из смежной комнаты доносились звуки восточной мелодии.
– Вы любите восточную музыку? – спросил Растиславский, настраивая в другой комнате магнитофон. И, не дождавшись ответа, снова спросил: – А хотите, я поставлю Монтана?
И снова Лиля ничего не ответила. Уронив голову в ладони, она сидела неподвижно.
– Что с вами, Лиля? – Растиславский уверенно положил на ее плечо руку. Лиля сидела не шелохнувшись.
Растиславский потушил люстру и включил зеленый торшер. В номере разлился лимонно-желтый полумрак.
Лиля подняла голову и увидела на столе два бокала, доверху налитые вином. Глаза ее сузились, она строго посмотрела на Растиславского:
– Вы что, Григорий Александрович?.. Неужели и вы такой же, как все?! А я думала, вы другой! Я думала, что вы выше, чем остальные…
Лицо Лили стало по-детски обиженным и печальным. Рассеянный взгляд ее остановился на розах.
– Вы хотите, чтобы я пила еще? Хотите?! – в голосе ее прозвучал вызов. – Так я буду пить! – с этими словами она решительно взяла со стола бокал и, к удивлению Растиславского, не отрываясь, выпила его до дна. Это был крепкий коктейль.
– Лиля!.. Что вы делаете?!
– Теперь вы довольны?! – на лице ее застыла маска мстительного выжидания.
Растиславский растерялся:
– Я не хочу вас спаивать, Лиля. Я просто…
– Что?.. Что просто?! – Лиля откинулась на спинку кресла и захохотала громко и нервно. – Вы просто видите, что вы мне нравитесь! Вы видите, что я, как кролик, стою перед раскрытой пастью удава! Кричу, упираюсь, а сама прыгаю в его пасть!
Лиля запрокинула голову на спинку кресла. На ее щеках были слезы.
При виде слез Растиславский растерялся еще больше. Но тут же взял себя в руки. Тремя жадными глотками он опрокинул бокал и нервно заходил по комнате.
– Почему вы плачете, Лиля?
– Потому что… Потому что мне с вами хорошо. Мне никогда не было так хорошо… Григорий Александрович…
Восточная музыка в соседней комнате сменилась «Парижскими бульварами» Монтана.
Все, что было дальше, Лиля осознавала словно через какую-то дымчатую волнистую пелену. Все кружилось, сливалось, все плыло перед глазами. Она чувствовала, как Растиславский целовал ее руки, глаза, губы…
…Струмилин в эту ночь Лилю так и не дождался. Утро он встретил в кресле.
III
Стояло солнечное утро, когда Лиля вышла из гостиницы. Она не знала, куда ей идти. Было страшно вспоминать о том, что случилось. Усталая и разбитая, она дошла до телефона-автомата и позвонила в универмаг. Сказала, что больна и на работу выйти не может. Директор универмага принялся расспрашивать, что с ней, предлагал помощь. Не дослушав его до конца, Лиля ответила, что ей ничего не нужно, что навещать ее нельзя.
Как во сне она вошла в вестибюль метро, взяла билет и спустилась по эскалатору. Вместе с потоком людей ее вынесло на перрон. «Куда?» – спрашивала она себя и, не раздумывая, подхваченная водоворотом пассажиров, вошла в вагон.
Мелькали за окнами расплывчатые пятна огней, оставались позади станции, выходили и входили люди… Все куда-то спешили, чем-то были озабочены, и лишь она одна не знала, куда и зачем едет. На «Соколе» в вагон вошла молодая женщина в форменной фуражке:
– Гражданочка, поезд дальше не идет.
Только теперь, словно очнувшись, Лиля поняла, что осталась в пустом вагоне одна.
На противоположной стороне платформы стоял только что подошедший поезд. Вместе с толпой Лиля вошла в вагон. И снова она никого не замечала. Перед ней неотступно стояло лицо Струмилина. Его добрые и преданные глаза смотрели ей в душу и спрашивали: «Что случилось, Лиля? Я ждал тебя всю ночь. Почему ты даже не позвонила?..»
Лиле не хватало воздуха. Ей хотелось скорее выбежать на улицу и идти навстречу ветру. Но тут же другой образ заслонил собой страдальческое лицо Струмилина. Она видела черные, с зеленоватым отсветом глаза Растиславского, слышала его вкрадчивый голос: «Ты будешь моей! Всегда моей! Я долго искал тебя… Искал всю жизнь и наконец нашел. Ты станешь моей женой! Любой твой каприз, малейшая прихоть будет для меня законом. Я увезу тебя далеко-далеко, в другую страну, и там, на чужбине, ты будешь моей родиной, моим другом, звездой в моей судьбе! Разве ты не видишь, как я люблю тебя?!» А потом руки, сильные, пружинистые руки… Вот они берут ее, берут ласково, нежно, как невесомую пушинку, и несут… Все кружится… Лиля чувствует тонкий аромат роз, открывает глаза и видит: Растиславский поднес ее к столу и приблизил к хрустальной вазе с цветами. Лиля закрывает глаза и чувствует, что ее понесли, закружили… Вот она снова ощущает его дыхание. И губы, горячие губы… Она задыхается и еле слышно шепчет: «Не осуждайте меня…»
На следующей остановке в вагон вкатилась шумная волна пассажиров. Кто-то больно наступил Лиле на ногу. Она подняла глаза и увидела перед собой старушку с палочкой. Хотела уступить ей место, но ее опередил пожилой сосед. В вагоне было тесно.
«Почему я запретила проводить себя? Он так настаивал… Предлагал машину… Зачем я это сделала?» – мучилась в раздумьях Лиля и тут же ловила себя на мысли, что ей очень хочется быть рядом с ним, снова слышать его голос, смотреть в его глаза.
На одной из станций Лиля вышла из метро. Солнце начинало припекать. Проходя мимо телефонной будки, она подумала: «Будь что будет!» – и позвонила Струмилину. Трубку сняла тетя Паша.
Закрыв глаза, Лиля отчетливо видела, как старушка повесила телефонную трубку на большой ржавый гвоздь, вбитый в стену. Вот она своей шаркающей походкой пошла по тускло освещенному коридору к комнате Струмилина… Тяжелая, томительная минута ожидания. Все, что Лиле хотелось сказать мужу, вдруг отхлынуло к самым отдаленным уголкам души.
Наконец из трубки донеслись глухие звуки. «Вот он открыл дверь… Да, да, она у нас скрипит. А это?.. Что это такое? Какие-то частые глуховатые щелчки? А-а-а! Это впереди Николая Сергеевича бежит к телефону Таня… Да, это ее шажки. А вот и он сам. Опирается на палку. Резко он опускает ее на пол. Вот он берет трубку…» Сердце Лили замерло. И голос… Родной, усталый и добрый голос:
– Алло. Я вас слушаю… – голос Струмилина дрожал.
– Это я, Коля. Это я. Ты понимаешь… Мне очень трудно говорить, но я ничего не скрою. Я… я недостойна тебя… Родной мой. Я поступила… очень дурно. Ты больше не спрашивай меня ни о чем… – она говорила запальчиво, прерывисто, изо всех сил стараясь, чтоб не разрыдаться. – Обо мне не беспокойся… Я жива и здорова. Только… Только случилось такое, после чего я не могу приехать к тебе. Не имею права… Я не найду сил смотреть тебе в глаза. Сейчас я уеду к дедушке на дачу. Мне нужно остаться одной и все продумать. Ради Бога, не расспрашивай меня сейчас ни о чем. Я все скажу сама. Прости меня, родной… Целую тебя и Танечку…
Лиля повесила трубку и продолжала стоять в телефонной будке. Кто-то раздраженно забарабанил по стеклу, чей-то голос просил освободить кабину.
Она вышла.
«Теперь все решено. Я его убила. И кого?.. Того, кто ради меня был готов отдать жизнь! Как дрожал его голос, когда он просил заехать к нему».
Лиля перешла у перекрестка улицу и остановила такси. Молча села рядом с шофером и, не глядя на него, сквозь зубы бросила:
– В Малаховку!..
Машина тронулась. Лиля опустила боковое стекло. Мелькали дома, витрины, фигуры прохожих… Ей было приятно ощущать ветер, который, врываясь в кабину, рассыпал ее волосы, холодком плясал на щеках и, расплываясь на лице, ручейками пробирался под шарф.
А колдующий грудной голос Растиславского звучал настойчиво, неотразимо: «Лиля, мы немедленно уедем на юг. Все будет для тебя: и море, и поездки в горы, и прогулки на катере. Дней десять мы поживем в Сочи. Я люблю этот курорт. Днем там завораживает море. Вечером город оживает, как маленький Париж. Из Сочи на первоклассном теплоходе поедем по побережью. С неделю поживем в Сухуми, а потом… О, что будет потом – я не скажу сейчас. Пусть это будет маленьким сюрпризом для тебя. Потом мы вернемся в Москву. Вернемся мужем и женой. Ты познакомишь меня со своим дедом. Недели через две мы уедем из России. И вот там-то, на чужбине, я постараюсь доказать тебе на деле, как я люблю тебя, Лиля. А если у нас будет сын… Ты слышишь, Лиля, сын! Я буду обоих вас носить на руках. Ты ведь тоже любишь меня, Лиля, я это вижу. Такие, как ты, не делают опрометчивых шагов во имя секундных желаний. Почему ты не хочешь, чтобы я проводил тебя, Лиля? Почему ты снова плачешь? Что?.. Ты плачешь от счастья?.. Сейчас я прошу тебя только об одном – скажи обо всем мужу. Судя по всему, он не заслуживает обмана, он достоин того, чтобы с ним поступили благородно. Я понимаю, ему будет тяжело, но лучше перестрадать однажды, чем подвергнуться медленной казни. Позвони ему сразу же, как только выйдешь из гостиницы и соберешься с мыслями. Скажи ему обо всем. А завтра… Завтра я жду тебя у фонтана перед Большим театром ровно в семь вечера. Ну, посмотри же на меня, Лиля…»
На крутом повороте Лилю резко качнуло вправо, и она больно ударилась плечом о дверцу кабины. Открыла глаза и осмотрелась. Москва осталась позади. Слева и справа мелькали высокие подмосковные сосны, между которыми, как игрушечные, пестрели разноцветные дачи.
Лиля смежила веки и снова погрузилась в сладкую полудремотную зыбь.
«В семь вечера, у фонтана перед Большим театром…»
IV
Развалившись в полосатом шезлонге, старый, седой Вильсон дремал. Тяжелая правая рука неподвижно лежала на круглом журнальном столике, в полированной поверхности которого отражались пухлые пальцы, глубоко перехваченные обручальным кольцом и бриллиантовым перстнем. Толстая сигара каким-то чудом держалась в расслабленных пальцах. Сизая струйка дыма, извиваясь, плавно струилась к потолку.
Глядя на Вильсона, на его осанистую фигуру, на энергичное, гладко выбритое лицо с широким, слегка раздвоенным подбородком, можно было предположить: это не просто скромный турист-иностранец, а иностранный дипломат или коммерсант. Во всем: в неторопливом, но уверенном жесте, в неожиданных, но значительных паузах во время разговора, в манере до конца выслушивать собеседника и не торопиться сразу же навязать свое мнение – сказывалась годами выработанная дисциплина общения с людьми разных положений и разных взглядов на вещи. На белоснежной сорочке Вильсона серый галстук-бабочка походил на вспорхнувшую летучую мышь. Темно-серый костюм плотно облегал его тугие плечи. Острый носок черного ботинка, как бы пульсируя в такт ударам сердца, еле заметно покачивался.
А Вильсон все дремал… Огонь сигары, оставляя позади себя серый столбик пепла, подкрадывался к белым пальцам. Минута-другая, и черные волоски на них скрутятся от жара в рыжеватые узелки-подпалинки.
Разбудил Вильсона легкий стук в дверь. Но он не вздрогнул. Не шевельнулась его рука. Приподнялись только тяжелые набухшие веки. От бессонницы ли или от чего другого – на белках крупных черных глаз Вильсона розовато рдела склеротическая сетка.
– Войдите, – голос Вильсона прозвучал глухо и устало. Столбик пепла упал на полированную поверхность стола и рассыпался, образовав маленький серый холмик.
Вильсон выпустил дым через вздрогнувшие ноздри. На вошедшего посмотрел не сразу. Взглянул внимательно, оценивающе. От этого взгляда вошедшему стало не по себе. А Вильсон изучал. Сейчас разве только тренеры-спортсмены так пристально оглядывают юношу, впервые пришедшего в спортивный клуб.
– Альберт Мориссон? – не спуская глаз с вошедшего, сквозь зубы процедил Вильсон, постукивая кончиком сигары по краю пепельницы.
– Так точно, сэр, – твердым голосом ответил высокий молодой человек и улыбнулся. Улыбка была мягкой, простодушной, она как бы говорила: «Я знаю, вы старый дипломатический лев. Моя судьба в ваших руках. В вашей власти вывести меня на высокую орбиту, но вы же можете сделать из меня мелкого функционера, главной задачей которого будет фотографирование старых бараков на московских окраинах и неубранных мусорных куч рядом с новостройками».
И, словно поняв значение улыбки Мориссона, Вильсон хитровато прищурился:
– Если ваш ум так же ясен и светел, как ваша улыбка, то вы, молодой человек, можете пойти далеко.
Улыбка на лице Мориссона потухла:
– Рад служить!
И снова долгий, оценивающий взгляд Вильсона остановился на Мориссоне:
– Сколько вам лет?
– Двадцать шесть.
– Возраст благих начинаний. Кто ваши родители?
– Коммерсанты.
– Вы знали когда-нибудь женщину?
Вопрос был неожиданным. Он смутил Мориссона.
– Что вы вспыхнули, как девочка из колледжа? Вам же двадцать шесть. Мужчины этого возраста имеют семьи, детей…
Мориссон молчал.
– Я спрашиваю, знаете ли вы женщин?
– У меня есть подруга.
– Где? Здесь или на родине?
– На родине и…
– Что «и»?
– И здесь.
– Это уже хорошо. Здоровый мужчина всегда должен иметь рядом женщину.
Вильсон, опираясь о подлокотники кресла, тяжело встал. Неторопливо прошелся к окну, откинул штору и принялся барабанить длинными ногтями по подоконнику. Он стоял спиной к Мориссону, и ему не видно было, как Мориссон вытирал вспотевший лоб тыльной стороной ладони.
– Подойдите сюда, молодой человек, прошу вас, подойдите скорее…
Мориссон поспешно подошел к окну. Он тут же почувствовал, как от Вильсона пахнуло винным перегаром.
Скрестив на животе руки, Вильсон плавно покачивался упругим корпусом. Он тихо, почти мечтательно говорил:
– Толпа большого города – это своего рода психологический роман. Чем больше в этот роман вчитываешься, тем больше вопросов перед тобой возникает.
– Я не понял вас, сэр, – во взгляде Мориссона колыхнулась тревога.
– Видите там, внизу, люди куда-то торопятся?
– Вижу.
– В том, что они торопятся, нет ничего удивительного. Лихорадочный ритм многомиллионного города – естественный симптом социальной болезни перенаселенности.
Заложив руки в карманы, Вильсон несколько раз пересек комнату от окна до двери, потом снова поднял свою тяжелую седую голову и пристально посмотрел на Мориссона.
– До сих пор не совсем понимаю, господин Вильсон, какое отношение имеют ваши слова к тем задачам, которые вы поставите передо мной?
– Вы будете работать в Москве…
– Да, я буду работать в Москве, – твердо ответил Мориссон.
– Вы знаете, что такое Москва? – Вильсон, наступая грудью на собеседника, вплотную подошел к Мориссону.
– В пределах, доступных для иностранца.
Вильсон сел в мягкое кресло, стоявшее у стены, взял новую сигару и, обрезав кончик ее, некоторое время о чем-то сосредоточенно думал.
Мориссону показалось, что Вильсон устал, что ему, Мориссону, пора уходить, и он мысленно искал удобный случай оставить в покое старого дипломата. Но в следующую минуту понял, что разговор по существу только начинается.
Вильсон указал в сторону стеклянных полок, занимающих почти целую стену:
– Подайте мне, пожалуйста, второй том Байрона. Он на средней полке, в голубом переплете.
Мориссон отыскал книгу и подал ее Вильсону.
– Послушайте, что сказал о Москве гениальный поэт, лорд по происхождению, – Вильсон нашел нужную страницу и начал читать:
Москва! Предел великого пути!
Карл ледяные слезы лил, – войти
В нее стремясь; вошел лишь он; но там
Летел пожар по замкам и дворцам.
В дома солдат зажженный трут совал;
В огонь мужик солому с крыш таскал;
В огонь купец подваливал товар,
Князь жег дворец, – и нет Москвы: пожар!
Что за вулкан! Потухли перед ним
Блеск Этны, Геклы вечно рдящий дым;
Везувий смерк, на чей привычный свет
Глазеть туристы любят из карет;
Нет у Москвы соперников, – лишь тот
Грядущий огнь, что троны все пожрет!
Москва – стихия! Но, – суров, жесток, —
Урок твой полководцам не был впрок!
Читая поэму, Вильсон на глазах преображался, становясь энергичнее, моложавее. Его щеки порозовели. Дочитав, он захлопнул книгу:
– Такой Москва была двести лет назад, такой она была пятьсот лет назад. Сейчас она стала еще недоступнее.
По лицу Мориссона проплыла улыбка, тут же оборванная горьким вздохом:
– Значит, вся наша работа в этом городе есть не что иное, как донкихотство?
Старый Вильсон пристально посмотрел на молодого собеседника:
– Нет. Все это я говорил вам для того, чтобы вы поняли, что обучаться плавать вы начнете не в мелкой речушке, не в мраморном бассейне на ферме своего отца, а в открытом океане. В штормящем океане!
Вильсон затянулся сигарой и впал в глубокую задумчивость, из которой его вывели надрывные звуки пожарной сирены, ворвавшиеся через открытую форточку. Он зябко поежился. А когда сирена захлебнулась в хаосе звуков большого города, устало посмотрел на Мориссона:
– Я видел много стран, господин Мориссон. Подошвы моих ботинок коснулись дорог всех континентов. Перед моими глазами проплыли люди всех рас и национальностей. Развращенный Париж и пуританский Рим, холодная Скандинавия и знойная Африка, коммунистическая Москва и фашистский Берлин… Видите, какая амплитуда! Но скажу вам честно: во многих отношениях рядом с русскими поставить некого. Я имею в виду их социальный корень. Это племя фанатиков. Но они сильны и храбры, как гладиаторы.
Вильсон неожиданно смолк, закрыв глаза. Так продолжалось минуты две.
– Так что же нам делать с этими гладиаторами? – спросил Мориссон.
Только теперь Вильсон пригласил Мориссона сесть. И когда тот сел, старый дипломат открыл глаза и ответил:
– Нам нужно играть на слабости русских, – сказав это, он сделал пометку в блокноте, встал и неторопливо прошелся по комнате. – Я дам вам маленькое напутствие. Вы молоды. Удобнее вам будет работать среди молодежи.
– Я понял вас, сэр.
– Тактику подскажут конкретная обстановка и интуиция разведчика. Первые шаги вашей работы – это необходимая для нас информация о настроениях и взглядах советской молодежи, – Вильсон подошел к двери и наглухо задернул портьеру. – Эта задача общего плана. Вторым конкретным шагом будет работа посложнее: вы располагаете к себе нужного нам человека, которого несправедливо обидели у себя на родине, в России. Вы вовлекаете его в наше общее дело. Только заранее предупреждаю: в работе своей, начиная с сегодняшней беседы, вы лишены права на ошибку. Повторяю еще раз, – четко и твердо проскандировал Вильсон, – вы лишены права на ошибку. Разведчик, как и минер, ошибается только раз в жизни, когда подрывается на мине.
Вильсон распахнул окна. В комнату поплыл холодок, в котором угадывался медовый запах молоденьких тополей, зеленеющих перед окнами посольства. Москва жила по-прежнему – неугомонно, широко.
На круглом журнальном столике перед Вильсоном лежал голубой том Байрона. Желтая закладка с изображением узкоглазой японки в длинном кимоно была вложена на странице, где в поэме «Бронзовый век» говорилось о Москве.
Вильсон положил свою белую выхоленную руку на книгу и, не глядя на Мориссона, тихо сказал:
– Вы свободны, молодой человек.
Мориссон поклонился и вышел.







