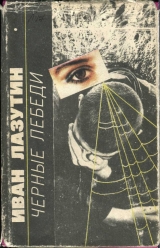
Текст книги "Черные лебеди"
Автор книги: Иван Лазутин
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 36 страниц)
Часть третья
I
В последние дни Шадрин, по указанию Терешкина, сновал с этажа на этаж, разыскивая должников, просил бухгалтера не выдавать им стипендию. Но как ни старался Дмитрий, Терешкину все казалось, что он с должниками либеральничает.
– Эдак мы окончательно пролетим в трубу. Шутка сказать: около ста книг и брошюр! Если не сдадут их сейчас, то после сессии вообще ничего от них не получим.
– Не могу же я гоняться за каждым студентом и упрашивать его. Списки должников переданы в деканаты, в бухгалтерию…
– Если нужно – будете и гоняться. Я здесь материально ответственное лицо, а поэтому требую, чтобы к субботе вся задолженность была полностью ликвидирована!
Дмитрий хотел возразить Терешкину, но в это время в кабинете профессора зазвонил телефон. Терешкин кинулся туда, но вскоре вернулся:
– Вас вызывает директор, – лицо Терешкина как-то сразу посерело. Он недоумевал: зачем Меренкову понадобился его лаборант? Если директора интересует что-либо в работе кабинета, то он должен вызвать его, заведующего. Что может сообщить ему новый человек, который за три недели работы с горем пополам начинает только входить в курс кафедральных дел? Если директор хочет всего-навсего познакомиться с новым лаборантом, то почему же тогда он за пять лет работы Терешкина ни разу не вызвал его? Было досадно и обидно. К этим двум чувствам примешивалось и третье – боязнь. Как бы директор не сделал такую перестановку: Шадрина – в заведующие кабинетом («У него университетский диплом, его поддерживает Костров»), а Терешкина – на старое место, лаборантом.
– Что же вы сидите? Вас вызывает директор! – повторил Терешкин, видя, что его сообщение не произвело на Шадрина ожидаемого впечатления.
– Древние римляне в таких случаях говорили: «Festina lenta»[5]5
Торопись медленно, не делай наспех (лат.).
[Закрыть], – спокойно ответил Шадрин и, закрыв ящик стола, вышел.
Не зная перевода латинского афоризма, Терешкин насторожился: может быть, в этих двух нерусских словах кроется все, что накопилось в душе подчиненного ему лаборанта за три недели их совместной работы? Терешкин, не переставая, начал твердить про себя два этих слова, чтобы записать их в блокнот, а потом перевести. Но едва взялся за карандаш, снова раздался звонок. Секретарь директора еще раз напомнила, чтобы Шадрин немедленно явился к Меренкову.
– Он уже вышел…
Вторично взявшись за карандаш, Терешкин с горечью обнаружил, что злополучные латинские слова улетучились из его памяти.
В то время, когда Терешкин, открыв стол Шадрина, проверял, как его лаборант ведет учет работы агитколлектива института, Дмитрий сидел в кабинете Меренкова и силился понять, почему директор задал ему этот странный вопрос: «Все ли графы в анкете вы заполнили точно?»
– Думаю, что все… – ответил Дмитрий.
Чуть поодаль от директорского кресла на потрескавшемся кожаном диване сидел секретарь партийного бюро института Карцев и белокурая женщина, которую Дмитрий до этого видел несколько раз – она зачем-то приходила к Терешкину. Это была инспектор спецотдела.
Голос Меренкова был мягкий, с грудными перекатцами. В его правильное великорусское произношение иногда вкрапливались еле уловимые нотки смоленского говорка. Директор был высок ростом и хорошо сложен. Это бросалось в глаза даже тогда, когда он сидел. Глубокие залысины, наступая на проседь русых волос, придавали его лбу еще большую ясность, отчего он казался горделиво высоким. Во всем облике Меренкова проскальзывало что-то начальственное, важное. Такие люди любят распоряжаться, командовать.
Меренков пододвинул Дмитрию анкету:
– А вы хорошенько посмотрите: на все ли вопросы ответили правильно? Не торопитесь. У нас с вами, как сказал Маяковский, вечность, – он говорил, а сам пристально всматривался в лицо Шадрина.
Дмитрий прочитал анкету, поднял на директора глаза:
– Если бы мне сейчас предложили снова заполнить анкету, она была бы точно такой же.
Директор привстал и, посмотрев через очки на одну из граф анкеты, задержал на ней карандаш:
– Меня интересует вот этот пункт. Почему он не соответствует действительности?
Шадрин прочитал вопрос графы, против которой на полях стояла галочка красным карандашом. «Есть ли среди ваших родных или родственников репрессированные и судимые? Где, когда, по какой статье?»
Дмитрий взглянул на директора. Тот, скрестив на столе руки, смотрел на него устало и выжидающе.
– По-моему, я написал все подробно.
– А где сейчас находится родной брат вашей матери – Веригин Александр Николаевич?
– Как, разве он жив? – Дмитрий всем корпусом подался к столу.
– А вам сообщили, что он умер?
– После испанских боев, где он дрался в интербригаде, мы о нем ничего не знаем.
– Даже не получали писем?
– Не получали. Вообще, дядя Саша не очень любил писать письма. Случалось, что от него годами не было весточки.
Меренков сдул со стола табачинки, тронул пальцами свой высокий лоб и, глядя на Шадрина сочувственным и вместе с тем отчужденным взглядом, сказал:
– Что ж, товарищ Шадрин, я не могу вам не верить. Но не могу также не сообщить, что эту графу нужно дополнить.
– Чем?
– Тем, что в тысяча девятьсот тридцать седьмом году по пятьдесят восьмой статье был репрессирован ваш родной дядя по матери – Веригин Александр Николаевич.
Дмитрий не знал, что ответить. На какое-то мгновение в его памяти всплыл образ высокого военного, затянутого скрипучими ремнями, с наганом на боку. Последний раз он видел дядю Сашу в тридцать третьем году, когда тот проездом с Дальнего Востока несколько дней гостил у Шадриных. Тогда еще был жив отец Дмитрия. Вместе с отцом дядя Саша пел унылые тюремные песни и, гладя голову Дмитрия, говорил: «Вырастешь большой – приезжай ко мне в Москву. Поступишь в военное училище… Будешь командиром…» А теперь оказывается тридцать седьмой год… пятьдесят восьмая статья…
– Вы не знали о судьбе дяди?
– Не знал, – твердо ответил Дмитрий, с трудом подавляя охватившее его волнение.
Теперь он вспомнил: после Испании дядя вернулся в Москву и сообщил, что его на год командируют за границу. Последние два письма были из Испании. Эти письма и сейчас хранятся в сундуке у матери. Где только не разыскивала она брата. Писала в Москву по его последнему адресу – письма возвращались с припиской: «Адресат выбыл». Писала по старому адресу в Москву – письма тоже возвращались. Запросы, адресованные в Наркомат обороны, оставались без ответа. Потом война, смерть мужа, ранения и госпитали старшего сына… Мать сама стала часто болеть… Годы забот и горьких переживаний как-то стушевали, отодвинули мысль о поисках брата. После войны в доме Шадриных все реже и реже вспоминали Александра Николаевича Веригина.
Сообщение директора института о том, что дядя арестован в 1937 году как враг народа, вспышкой молнии в темную ночь осветило далекое прошлое.
– Он был военным? – спросил Меренков.
– Да, – внешне спокойно ответил Дмитрий.
– Какое у него было звание?
– Комбриг.
– По-теперешнему, генерал?
– Да, – и после некоторой паузы, в течение которой Меренков делал какие-то пометки в настольном календаре, Дмитрий спросил: – Могу я быть уверен, что сведения эти достоверны и официальны?
Меренков криво улыбнулся:
– Вы разговариваете в официальном учреждении с официальными лицами… – он вопросительно взглянул на инспектора спецотдела, которая в знак поддержки кивнула головой. – А поэтому разговор у нас может быть только официальным. Вы, как юрист, должны знать это лучше, чем я.
– Неужели спецотделы гражданских учреждений работают так оперативно? За какие-то три недели они сделали то, чего мать безрезультатно добивалась несколько лет.
– Представьте себе, да. Добираются до десятого колена.
Дмитрий перевел взгляд на Карцева. Тот, высоко подняв голову, смотрел в окно. Его лицо с гладко выбритыми, полыхающими румянцем щеками выражало такое напряжение, будто в соседнем дворе вот-вот произойдет взрыв бомбы, от которой можно пострадать и здесь, в директорском кабинете.
– Что ж, объяснение ваше кажется правдоподобным. Но это не все. Нам сообщили о вас еще кое-что и, я считаю, не менее тревожное, – тихо сказал директор. – Это сигнал с вашей родины.
Подавшись вперед, Шадрин ждал: что же такого могли сообщить о нем из села, где он родился, где вырос, откуда ушел на фронт, куда коммунистом, в боевых орденах возвратился с войны и откуда вскоре уехал учиться в Москву. Он пытался хотя бы приблизительно представить себе: что еще могло бросить тень на его биографию?
– Соответствующие органы сообщают, что летом сорок восьмого года, будучи на родине, вы заняли антипартийную позицию при решении важного государственного вопроса. – Меренков замолк и переглянулся с Карцевым.
«Кирбай, – тоскливо подумал Дмитрий. – Его работа». И почему-то вспомнился вороной рысак майора МГБ Кирбая.
А директор после некоторой паузы продолжал:
– В результате вашей антипартийной позиции, пишут дальше, были скомпрометированы перед населением района местные органы власти и партийное руководство. Как вы это объясните?
В какие-то секунды перед глазами Дмитрия, как в кинематографе, промелькнули картины сельского схода, на котором Кирбай не дал последнего слова хромому инвалиду. Потом этого инвалида объявили пьяным и вывели из клуба. Припомнился разговор с Кирбаем в его кабинете. А потом приезд Кирбая к Шадриным и приглашение Дмитрия на охоту…
С тех пор прошло четыре года. Но Шадрин отчетливо, до родинки на верхней губе представил себе лицо второго секретаря райкома Кругликова. Секретарь струсил, когда Дмитрий заявил ему, что поедет в обком партии и расскажет о бесчинствах и безобразиях, свидетелем которых был на сходе.
– Что же вы молчите? Отвечайте. Ведь занимать антипартийную позицию в важном государственном вопросе и дискредитировать власть – это гораздо серьезнее, чем не знать, где находится родной дядя.
Теперь Шадрина словно подожгли изнутри. В памяти отчетливо всплыла картина сельского схода, на котором решалась судьба его земляков-односельчан, попавших в список «нетрудовых элементов». Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР, им грозило насильственное административное выселение в места Крайнего Севера и Дальнего Востока. Сельский сход вел начальник районного отдела МГБ майор Кирбай. В черный список «нетрудовых элементов» волею всесильного Кирбая был внесен хромой инвалид войны. В его защиту вступился Шадрин. Дмитрий спас односельчанина от выселения, но сам попал в немилость к Кирбаю.
Дмитрий встал:
– Простите, с кем я разговариваю: с директором или с прокурором?
Карцев и блондинка из спецотдела замерли. На их памяти еще не было случая, чтобы кто-нибудь так дерзко возражал Меренкову.
– Вы разговариваете с директором института и членом партийного бюро, – и Меренков вопросительно посмотрел на Карцева.
– Что ж, можно разобрать и на бюро, – ответил Карцев.
– Когда будет бюро?
– Через неделю, – с той же неизменной готовностью ответил Карцев.
Для Карцева Меренков был не только директором института, но и руководителем его диссертации. Той самой диссертации, которая, вопреки всем аспирантским срокам, до сих пор еще не была представлена к защите.
Так и порешили: то, о чем говорили здесь, в директорском кабинете, обсудить на партийном бюро.
– А сейчас, – Меренков взглянул на Карцева и сотрудницу из спецотдела, – больше задерживать вас не буду. У всех работа.
Шадрин тоже привстал, собираясь уходить, но директор его задержал:
– Вы на минуточку останьтесь.
Меренков теперь жалел, что три недели назад, не ознакомившись с документами Шадрина (раньше с ним такого никогда не случалось), дал согласие профессору Кострову взять Шадрина лаборантом. «Отвратительная характеристика: жена имеет судимость, скрыл, что родной дядя арестован как враг народа, в прошлом имеет идеологические вывихи. И это на кафедре марксизма-ленинизма!» Он еще раз прочитал анкету и поднял на Шадрина глаза.
– Вот что, молодой человек. Ознакомившись с вашими документами, – а это совершенно безотносительно к тому, что вас будут за неискренность разбирать на партбюро, – я пришел к твердому убеждению: вы нам не подходите. Будем считать, что двадцать дней, которые вы проработали лаборантом, были вашим испытательным сроком. – Меренков замолчал.
– Прошу вас выразить мысль до конца, – тихо, но твердо попросил Шадрин, вытягивая из Меренкова то, что тот хотел было сказать, но раздумал.
– В результате испытательного срока мы ближе познакомились с вами и нашли, что такие работники нам не подходят, – с явным раздражением ответил Меренков. – Несколько минут назад вы спросили меня: кто я – директор или прокурор? Тогда я не ответил вам. Сейчас отвечу, – он взял со стола характеристику и держал ее так, словно она жгла ему руки. – Разговор прокурорский у нас уже состоялся. У прокурора вы не вызвали ни симпатии, ни доверия. Что касается директора, то я отвечу по-директорски. Вот вам чистый лист бумаги, вот ручка – садитесь и пишите заявление.
Меренков встал, достал из портсигара папиросу и, ссутулившись так, словно ветром могло погасить спичку, стал прикуривать.
– О чем писать?
Теперь Дмитрий понимал, почему все в институте, начиная от студентов и кончая профессорами, трепетали перед Меренковым. От него веяло завидной природной силищей, которая выгодно сочеталась с крепкой административной властью человека опытного и умного.
– О чем писать?
– Об уходе по собственному желанию.
– А если у меня нет такого «собственного желания»? – на последних двух словах Дмитрий сделал ударение.
– Тогда мы сами найдем предлог избавиться от вас.
– Какой именно?
– В данной ситуации их может быть несколько.
– Если вас не затруднит – назовите хотя бы один.
Тон Меренкова остался благодушным, мягким. Со стороны можно было подумать, что между ним и Шадриным протекает обычная беседа.
– Первый предлог, – Меренков загнул мизинец на левой руке. – Проходя испытательный срок, вы не обнаружили тех элементарных деловых качеств, которые необходимы работнику кафедры марксизма-ленинизма. Это заключение – «обнаружил» или «не обнаружил» – может сделать директор. Вас этот предлог устраивает?
– Какой еще может быть мотив для моего увольнения?
Меренков неторопливо загнул безымянный палец левой руки и спокойно и вкрадчиво продолжал:
– Вас можно уволить как человека, работающего не по своей специальности. Вы же юрист. А на кафедре нужен историк или партийный работник. Этот мотив увольнения тоже во власти директора института, – Меренков затушил папиросу, подошел к окну и широкой отмашью руки задернул портьеру так, чтобы защитить стол от яркого солнца, лучи которого, падая на толстое зеркальное стекло, ослепляли.
Дмитрий ждал, какую еще ловушку приготовил для него директор.
Возвратившись к столу, Меренков загнул средний палец. Но тон, каким он говорил о «третьем мотиве увольнения», был уже откровенно раздраженным.
– Я вас могу уволить просто за неискренность. От администрации и от партии вы скрыли, что ваш родной дядя репрессирован. А если хотите!.. – глаза Меренкова блеснули в кошачьем прищуре. От их взгляда Дмитрию стало не по себе. – Если хотите, я могу все эти три гири повесить вам на ноги одновременно, сразу. И повешу так, что вы не сделаете ни шагу. И это будет солидным приложением к тем грязным заплатам на вашей биографии, которых вы не скрываете: судимость жены, увольнение из прокуратуры. Ну что? Какой мотив вас больше устраивает?
Огонек протеста, который горел в душе Дмитрия несколько минут назад, погас. Опустив глаза, он почувствовал себя по сравнению с Меренковым маленьким и беспомощным. Теперь он жалел, что так неосмотрительно и так по-мальчишески дерзко показал характер перед жестоким и своенравным человеком, который держит в руках целый институт.
– Я напишу заявление, – тихо проговорил Дмитрий. В эту минуту он уже боялся, что Меренков, в ответ на его строптивость, и в самом деле повесит на его ноги все «три гири», которыми только что угрожал.
Но Меренков не изменил своего решения, С видом благожелателя он подал Шадрину ручку:
– Пишите, пока я не раздумал. И пока вы не наговорили остальных глупостей, которые я не смогу вам простить. Вы слишком молоды, чтобы в таком тоне разговаривать со старшими.
Дмитрий написал заявление и подал его Меренкову. Тот прочитал, положил на стопку бумаг, лежащих слева:
– Вы свободны.
Из кабинета директора Дмитрий вышел как побитый. Профессор Костров, которого он встретил на кафедре, всматриваясь в его лицо, спросил:
– Что с вами, вы больны?
– Я здоров. Только что от директора.
Костров пригласил Дмитрия в свой кабинет, где за столом сидел Терешкин и что-то писал. Своего рабочего места у него не было, а поэтому, когда на кафедре не было заведующего, он располагался со своими папками за профессорским столом.
При виде Кострова Терешкин поспешно вскочил, подхватил свои бумаги и положил их на подоконник.
Чтобы остаться один на один с Шадриным, профессор послал Терешкина в библиотеку за книжкой. Терешкин имел привычку крутиться в кабинете заведующего, когда к нему кто-нибудь приходил. Как нарочно, находил в это время срочное дело, разыскивая в своих папках какую-нибудь бумагу. Папки его лежали на широком подоконнике в кабинете Кострова.
Когда Терешкин вышел, Костров спросил у Шадрина, зачем его вызывал директор.
– Меня увольняют.
– За что?! – от неожиданности Костров отшатнулся на спинку кресла.
– Предложили написать заявление о собственном уходе.
– Вы его написали?
– Да.
– Величайшая глупость!
– У меня не было иного выхода.
Дмитрий рассказал о разговоре в кабинете директора. Несколько раз из-за портьер, заменяющих двери, высовывалась чья-то голова, но всякий раз профессор поднимал руку, давая знать, чтобы подождали.
– Вы в самом деле не знали, что ваш дядя репрессирован?
– Не знал!
Дмитрий начал рассказывать Кострову о дяде, потом о сельском сходе. Профессор внимательно слушал, время от времени качал головой. Когда Дмитрий закончил, спросил:
– И это все, о чем вы говорили с директором?
– Нет, не все, – некоторое время Дмитрий молчал. Дождавшись, когда из кабинета выйдет Терешкин, которому в эту минуту приспичило дать на подпись Кострову бумажку, он рассказал профессору о предложении уволиться, о «трех гирях», которые пообещал повесить на его ноги директор в случае строптивости.
Дмитрий с первых же дней работы на кафедре заметил, что между Меренковым и Костровым какая-то внутренняя затаенная вражда. Несмотря на внешние корректные отношения, в их разговоре нет-нет да и всплескивал седой колючий бурунок неприязни. Дмитрий не ошибался. Меренкова злило, что профессор Костров осмеливался говорить с ним, как с ровней, что на партбюро иногда бросал реплики, которые били по престижу директора. Кострова же бесило другое: привыкнув к неограниченной власти в институте, которая порой доходила до самодурства, Меренков очень тонко пытался умалить авторитет заведующего социально-политической кафедрой. Почти на каждом партийном собрании он выступал с речью в защиту Кострова, точно того кто-то обвинял в развале работы на кафедре. А если случалось, что комиссия из райкома партии или Министерства высшего образования находила в работе кафедры мелкие неполадки, Меренков начинал трезвонить во все колокола, призывая помочь Кострову «вытянуть» работу кафедры «на должную высоту». Получалось так: он жалел Кострова тогда, когда того никто не обижал; он призывал спасать его тогда, когда тот и не думал тонуть. А неделю назад, когда Костров без согласования с администрацией института сделал незначительные штатные перемещения, Меренков вызвал его к себе и самым официальным тоном минут десять читал ему мораль. Горячий Костров вспылил, заявив, что ему видней, кому из преподавателей его кафедры читать лекционный курс, а кому вести семинары, и демонстративно вышел из кабинета директора. И вот теперь директор увольняет лаборанта кафедры, не посоветовавшись с заведующим, даже не поставив его об этом в известность.
Выслушав Шадрина, Костров возмутился:
– Подумайте, что вы делаете?! Ведь вы целых полгода будете искать работу и не найдете. Ступайте немедленно и возьмите назад свое заявление. Это же величайшее легкомыслие!
Дмитрий встал и, как провинившийся школьник, молча вышел из кабинета профессора. Спускаясь с четвертого этажа, он пытался представить себе лицо Меренкова, когда он, Шадрин, войдя к нему, скажет, что передумал, и станет просить возвратить ему заявление. Чем меньше ступеней оставалось до второго этажа, тем больше овладевала им робость.
В приемной директорского кабинета Дмитрий уже совсем было решил повернуть назад, но в это время дверь широко распахнулась и почти грудь в грудь он столкнулся с Меренковым.
«Опять ко мне?» – взглядом спросил Меренков, и Дмитрий, поняв значение этого взгляда, ответил:
– Да, к вам.
– Только на одну-две минуты. Я очень занят.
– Иван Григорьевич… – неуверенно начал Дмитрий, но тут затрещал телефон.
Меренков снял трубку. Он говорил недолго, не больше минуты.
– Я вас слушаю.
– Иван Григорьевич, – подавленно проговорил Дмитрий, – верните, пожалуйста, мое заявление.
– Почему? – Меренков взглянул так, словно увидел Шадрина впервые.
– Я поторопился. Я раздумал уходить по собственному желанию.
– Это Костров вас настрополил?
– Нет, я решил сам.
Медленно выдвинув ящик стола, Меренков посмотрел на Шадрина:
– Вы что, голубчик, собрались со мной в бирюльки играть? Вы что – маленький? Я получил от вас официальное заявление, я удовлетворил вашу просьбу, и другого разговора быть не может. Вот так, молодой человек. У меня нет времени толочь в ступе воду, – и он резко задвинул ящик.
– Я принял другое решение, – уже более твердым голосом сказал Дмитрий.
– Какое же?
– Вешайте на меня все «три гири», о которых вы говорили, только верните мое заявление.
Меренков захихикал мелким добродушным смешком:
– Ну какой же вы чудак, Шадрин. Вы же юрист! Юрист, а не можете усвоить элементарных вещей. Не верну я вам ваше заявление. Оно уже удовлетворено. Оно закрутилось в барабане администрации.
Меренков нажал кнопку звонка и дал знать, что разговор окончен. В кабинет вошла секретарша, и директор, не обращая внимания на Шадрина, принялся выяснять у нее какие-то сведения о механическом факультете. Дмитрий понял, что больше ему здесь делать нечего. Беззвучно ступая по ковровой дорожке, он вышел.
Костров ждал Шадрина. Он нервничал. Никогда еще Терешкин не видел его таким возбужденным и злым.
– Ну что? – привстав с места, спросил он Дмитрия, когда тот вошел в его кабинет.
– Не отдал. Только унизил.
– Пойдемте вместе, – решительно сказал профессор и вышел из-за стола.
Меренков уже собирался уходить, когда они без доклада вошли к нему.
Костров начал шутливо:
– Что это вы тут обижаете моего лаборанта? Напугали – а он скорее заявление писать. Еще как следует не поработал, а уже в бега.
Шутка эта не дошла до директора.
– Тоже насчет заявления? – и не дождавшись, пока Костров ответит, затряс головой: – Я уже подписал приказ, все решено. Не могу.
Вряд ли когда-нибудь раньше Дмитрий чувствовал себя в таком глупейшем положении, как сейчас. Костров предложил ему на минутку выйти. Он вышел.
– Это не солидно! – с укором сказал Меренков, когда за Шадриным закрылась дверь. – И потом, за кого вы печетесь? Вы знаете, что Шадрин скрыл, что его родной дядя репрессирован в тридцать седьмом году как враг народа?
Меренков надеялся огорошить Кострова этим сообщением и был крайне удивлен, когда увидел, что слова его не произвели должного впечатления.
– Он не скрыл. Он об этом не знал. И я ему верю. В конце концов, это можно проверить.
– Допустим!
Меренков достал из кипы документов какую-то бумажку:
– А это? Вам известно, что в сорок восьмом году ваш Шадрин занял антипартийную позицию? Это не что-нибудь, а документ, – Меренков потряс перед лицом Кострова бумажкой.
– Да, мне и об этом известно. Только я не считаю, что это антипартийная позиция. Шадрин был прав, поступив таким образом. Он обратился в райком партии и получил поддержку. Более того, Шадрин поступил честно, как настоящий принципиальный коммунист, когда вопрос переселения нетрудовых элементов решался в его родном селе. Я, лично, в этом вижу только хорошее. А потом: какие «три гири» вы хотите повесить на ноги Шадрина? – Сказав об этом сгоряча, Костров пожалел: он выдал Дмитрия.
Словно прицеливаясь, Меренков выбрал больное место и ударил. Но теперь ударил уже не по Шадрину, а по Кострову:
– А вы не подумали, что состав вашей кафедры на пятьдесят процентов с хвостами? У одного выговор по партийной линии, у другого в семье ералаш, у третьей не выяснено, почему она шестнадцатого октября сорок первого года, когда немец подходил к Москве, вдруг, ни с кем не согласовав, бросила райкомовский кабинет и удрала в Ташкент… И ко всему этому вы тянете на кафедру – на такую кафедру! – тянете человека, у которого все под вопросом, все сомнительно! Из прокуратуры выгнали, жена имеет судимость, дядя арестован как враг народа, в селе чуть ли не смуту вызвал, дискредитировал местные органы власти… Ну за кого? За кого вы стоите горой?!
Полузакрыв глаза, Костров о чем-то думал. Когда Меренков выговорился, он поднял свою крупную лысеющую голову:
– Прошу вас еще раз – верните заявление Шадрину.
– Не могу! – отрезал Меренков и тут же добавил: – И не хочу!
– Вы сказали, что я тяну на кафедру человека сомнительного, с хвостом. Именно так вы выразились. Тогда я хочу спросить: кто и за какие такие красивые глаза втянул вас в это директорское кресло, когда у вас хвост не легче, чем все «три гири» у Шадрина?
– Что вы имеете в виду? – настороженно спросил Меренков и выжидательно склонил голову набок.
– То, что ваша жена была раскулачена в тридцать первом году. Разве это не хвост? Разве это козырь в анкете?
Ноздри Меренкова вздрогнули, он всем телом подался вперед:
– Я этого никогда не скрывал. Это известно райкому, это известно горкому, это я пишу во всех анкетах. Это во-первых, во-вторых…
– Простите, я перебью вас. А сын ваш, что кончает физический факультет университета, при засекречивании написал, что его мать была раскулачена в тридцать первом году?
– Вы что, допрашивать меня пришли? Или у вас есть какое-нибудь дело ко мне, профессор? – настороженно спросил Меренков, ознобно потирая руки. – Не забывайте: на будущий год на должность заведующего кафедрой марксизма-ленинизма будет объявлен конкурс. Если мы и дальше будем продолжать такую «дружбу», то нам придется расстаться. Не забывайте: погоду в конкурсе в основном делают дирекция и партбюро. Это не намек, а предупреждение.
– Я тоже хочу не намекнуть, а напомнить, что, как правило, директор института сидит на одном месте не более пяти-шести лет. А вы здесь трубите уже около пятнадцати. Как бы кое-кому из министерства не показалось, что вы слишком задержались, дорогой Иван Григорьевич.
Меренков встал. Глаза его вспыхнули в злом прищуре:
– Что вы хотите?
Встал и Костров:
– Я хочу, чтобы Шадрин работал на моей кафедре. Я ему верю.
Несколько минут Меренков стоял в нерешительности, плотно сжав губы. Смотрел на Кострова так, словно взвешивал, что выгодней: уступить его просьбе или настоять на своем. Потом он молча достал из ящика стола заявление Шадрина и, мелко-намелко изорвав его, бросил клочки в корзину:
– Пусть будет по-вашему. Только заранее предупреждаю: если вмешается райком – я снимаю с себя всякую ответственность.
– Договорились.
Профессор вышел из кабинета разгоряченный, помолодевший. Шадрина в приемной директора не было. Не было его и на кафедре. Оказалось, что он отпросился домой.
– На нем лица не было. Бледный и весь в поту, – объяснил Терешкин.
Поручив Терешкину собрать завтра внеочередное заседание кафедры, профессор напомнил ему, что явка Балабанова обязательна.
Так и не сообщив Шадрину о решении директора института, Костров вышел на улицу и, остановив первое попавшееся такси, поехал в Академию наук проводить философский семинар с аспирантами.







