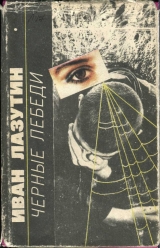
Текст книги "Черные лебеди"
Автор книги: Иван Лазутин
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 36 страниц)
Было время обеда. Ребятишки-копновозы крутились с мисками вокруг поварихи. За длинным столом под навесом чинным рядком сидели мужики и бабы. Дмитрий насчитал двенадцать человек. Раньше, до войны, за этим столом усаживались двадцать четыре. Обедали в две очереди… Кому не хватало места за столом – примащивались кто где мог. Ребятишки устраивались прямо на земле, на бревне или чурбаке…
Дмитрий волновался. Узнают ли? Да и остался ли кто из старых колхозников, с кем он до войны работал каждое лето? Многие не вернулись с войны.
Взгляд Дмитрия упал на старую костистую лошадь, мирно пощипывающую траву. Прядая ушами, она помахивала окомелком хвоста, отгоняя назойливого слепня-паута, который норовил сесть на ее отвислый живот. Большой глаз ее настороженно косил на Дмитрия. Белая звездочка на лбу лошади показалась очень знакомой. «Неужели она? – подумал Дмитрий, но тут же решил: – Не может быть. С тех пор прошло двенадцать лет…»
У амбара, где хранилась лошадиная сбруя, на чурбаке сидел старик Трепезников, конюх полеводческой бригады. Его Дмитрий узнал сразу. Он почти ничуть не изменился. Только немного подсох и седина облила всю голову. До войны дед Трепезников был самым старым в колхозе, любил вечерами у костра рассказывать про войны, в которых он участвовал, про царей, которым служил, о подвигах, за которые имел два Георгиевских креста. Особенно непостижимой храбрость деда Трепезникова казалась ребятишкам, когда он рассказывал, как воевал с турками и как после каждого сражения ему приходилось вытряхивать из полушубка около сотни пуль. Они его не брали, так как солдат Трепезников был «заговоренный». И не одна турецкая сабля не оцарапала его – все они ломались от прикосновения к нему. Сам «хан Мамай – паша турецкий» в золотом шлеме и серебряной кольчуге однажды сразился с ним на саблях, да и тот отступил, не выдержал. Старик врал, но врал так складно, что ребятишки восторгались его подвигами.
И вот теперь… Дмитрий остановился. Все тот же дед Трепезников: прокуренный, закоржавевший, маленький… Загорело-обветренный, насквозь прокаленный горячим солнцем, обласканный преклонением своих восторженных слушателей – ребятишек, сидел на березовом чурбаке и чинил старый хомут. Непослушные пальцы изработанных рук с трудом ловили кончик дратвы, в который была вделана щетина. Все те же круглые очки в железной оправе, теперь в двух местах перевязанной суровой ниткой. Та же самодельная деревянная трубочка с медным проволочным колечком на мундштуке равномерно попыхивала белесым дымком.
– Чей будешь-то? – сипловато спросил дед Трепезников, щуря на солнце маленькие, выцветшие глаза.
– Шадрин я, Егора Шадрина сын…
Некоторое время тот что-то припоминал, пристально вглядываясь в Дмитрия из-под ладони:
– Митяшка, что ли?
– Он самый.
– Тебя и не узнать. Махонький такой был, а сейчас – гляди!.. Вымахал-то как!..
– Давно это было, дедуня.
– Знамо дело, давно. А так, если поглядеть, вылитый отец, царство ему небесное, – старик перекрестился. – К нам-то зачем? Поди, тоже насчет покоса?
– Угадал, дед.
Старик надвинул на глаза козырек фуражки и снова уткнулся в хомут.
– Сейчас всем надыть…
– Скажи, дедунь, это, случайно, не Евлашиха? – Дмитрий указал на старую гнедую лошадь, которая, словно почуяв, что спрашивают о ней, повернула в их сторону голову, и по ее давно не стриженной челке, в которой запутались желтые репьи, пробежала дрожь.
– Она, сердешная. В музею бы ее пора, а ее все еще запрягают.
– Да-а, – протянул Дмитрий. – Что от нее осталось? А ведь когда-то славилась на весь район!
– Что там район! В области рекорды ставила! – поддакнул старик и долго ловил негнущимися пальцами кончик дратвы.
Мимо, делая разворот, на малой скорости проехала полуторка и остановилась у кустов. За рулем сидел тот самый мордастый парень, который просил у Дмитрия на пол-литра.
– А что это за тип? Нездешний? – спросил Дмитрий.
– Кто? – старик поднял от хомута голову.
– Шофер, – Шадрин показал в сторону остановившегося «газика».
– Пьянчуга. Из Качомки. Оторвиголова. День и ночь колымит.
– Что же вы таких держите?
– Говорят, воспитывать надо. В тюрьме не воспитали, вот теперь нам приказали.
Дмитрий вспомнил старика с разбитой тележкой, оставленного на большаке, и шагнул в сторону машины, которая только что тронулась. Догнав ее, он успел вскочить на крыло.
Взгляд Шадрина встретился со взглядом шофера. Тот дал газу и лихо обогнул березовый колок, за которым метрах в двухстах проходил большак. Изба колхозного стана, тракторные будки, сарай скрылись из виду.
Шофер круто тормознул, и Дмитрий еле удержался на крыле.
– Что нужно, фрайер? – поджав мясистые губы, зло процедил шофер.
– Что ты сделал со стариком?! – Дмитрий кивнул головой в сторону большака, на котором виднелась тележка. Старик неподвижно сидел на оглоблях.
– Что?! Что ты сказал?! Кто ты такой есть, что я должен перед тобой отчитываться? А ну, пошел отсюда…
– Помоги старику довезти до разъезда тележку. Ты ее всю разбил, – стараясь быть спокойным, сказал Дмитрий.
– Кому говорят, пшел с крыла, падла!..
Шофер толкнул Дмитрия в грудь, но тот устоял, крепко держась за края дверки.
– Выходи, поговорим!.. – Дмитрий положил руку на баранку.
Лицо шофера перекосилось злобой:
– Что?.. Чего ты надумал?!
Шофер достал из-под ног гаечный ключ и, не торопясь, вышел из кабины. Он был среднего роста, узкий в плечах, толстощекий. Выгоревшая на солнце челка углом спадала на переносицу. Сплюнув через зубы, он сквозь злой прищур смотрел на Шадрина. Потом воровато огляделся по сторонам и сделал шаг вперед.
– Если ты, гад, хоть мизинцем еще раз дотронешься до машины – сыграешь в ящик! Понял?.. – сказав это, шофер зачем-то посмотрел на свою грязную, в масле, левую ладонь и, стремительно вскинув ее, провел по правой щеке Дмитрия.
Кровь прилила к лицу Шадрина. Он стоял ошеломленный, дрожа всем телом. Тут сказалось все: и горячая шадринская порода, и вспыхнувший инстинкт разведчика. Сильный, почти молниеносный удар в челюсть свалил шофера на землю. Распластавшись на дороге, он лежал с вытаращенными глазами, упираясь головой в запыленное колесо машины. В руке его был зажат гаечный ключ.
Следя за малейшим движением Дмитрия, шофер встал.
Дмитрий слышал, как стучали его зубы.
Не успел он занести над головой Шадрина гаечный ключ, как новый стремительный удар ногой в пах свалил его на землю. От боли шофер застонал и скорчился.
Шадрин еле сдерживался, чтобы не пнуть ботинком в омерзительно-красное лицо шофера, который не выпускал из рук гаечного ключа.
– Лежи!.. – процедил Дмитрий сквозь зубы, когда шофер сделал движение, чтобы встать. – Брось ключ!.. – приказал он, приподняв правую ногу и угрожая опустить ее на лицо распластанного хулигана.
Тот разжал руку, и Дмитрий носком ботинка отшвырнул гаечный ключ в сторону.
– Вставай!..
Озираясь по сторонам, Шофер неуверенно, точно каждую секунду ожидая нового удара, встал. Руки его расслабленно висели вдоль туловища.
Шадрин решил пойти на хитрость. Он вспомнил, что в нагрудном кармане его ковбойки рядом с паспортом лежит старое, давно просроченное удостоверение следователя районной прокуратуры города Москвы. Оно уже было недействительно, но Дмитрию жаль было его выбрасывать, хранил как память. Достав удостоверение, он показал его шоферу:
– Вы имеете дело с оперативным работником прокуратуры! Ваши документы?
Трясущимися пальцами шофер достал из кармана замасленной куртки паспорт и предъявил Шадрину. Тот внимательно перелистал его и вернул владельцу.
– Так вот, гражданин Семкин, приказываю вам немедленно погрузить тележку с дровами в кузов, старика посадить в кабину и доставить домой!
– Куда доставить его, гражданин начальник? – дрожащим голосом спросил Семкин, застегивая карман пиджака.
– На разъезд! – Дмитрий показал рукой в сторону железной дороги. – Ремонт тележки пойдет за ваш счет. Старика завтра же отправляю на Судебно-медицинскую экспертизу, и если комиссия найдет увечье, придется возбудить против вас уголовное дело. А вам, гражданин Семкин, это совсем некстати. По какой статье имеете судимость?
– По семьдесят четвертой, – осипшим голосом ответил Семкин, переминаясь с ноги на ногу. – Гражданин начальник… что касается старика, я с ним… договорюсь. Тележку я ему сделаю новую. Только вы, гражданин начальник… не возбуждайте дело…
– Быстрее везите старика, а там посмотрим! – приказал Шадрин и, повернувшись, пошел в сторону бригадного стана. Он все еще не мог остановить в себе внутреннюю дрожь. Пальцы его рук мелко тряслись и никак не могли ухватить папиросу. Его подмывало оглянуться, но он сдерживал себя: не хотелось показать шоферу, что он, следователь прокуратуры, не до конца уверен, что приказ его будет выполнен немедленно. И все-таки, перед тем как свернуть за колок, он оглянулся. Взвалив на грудь тележку, Семкин толкал ее в кузов машины, а старик бросал туда длинные березовые чурки.
…Обед в бригаде кончился. Повариха мыла посуду. Ребятишки играли под навесом в чехарду. Окомелок хвоста Евлашихи то и дело пружинисто взлетал, сгоняя присосавшегося к худому крупу паута.
– Зря, Егорыч, ноги по такой жаре бил, – сказал старик Трепезников, сматывая веревочные вожжи.
– Почему?
– Председатель только что укатил в район. Сказывал, дня три будет преть на каком-то совещании, кажется насчет уборки.
– Как же я с ним разминулся?
– А он зимником поехал, там ближе. Нонешнее лето Юдинские болота начисто пересохли. Ездим прямиком.
– А бригадир где?
– Тоже с ним укатил. Этот приедет завтра.
– Кто же остался за старшего?
Старик ухмыльнулся:
– А старших двое всего-навсего осталось.
– Кто же это?
– Евлашиха да я. Она – генерал, а я – ее альдинарец, – довольный своей остротой, дед Трепезников мелко-мелко захохотал; его выцветшие маленькие глазки сверкнули из-под очков веселыми искорками.
Дмитрий прошел под навес. Ребятишки бросили играть в чехарду и, настороженно притихнув, внимательно рассматривали незнакомца.
– Вам кого, дядя? – спросил тот, что побойчей, рыженький, в выгоревшей красной рубахе.
– Я хотел повидать председателя или бригадира…
– А они только что уехали в район, – почти хором ответили ребятишки, не дав Дмитрию договорить фразы.
– Попить у вас есть?
Ребятишки со всех ног бросились к кадке с водой, но честь напоить незнакомого гостя выпала рыженькому, в красной рубахе.
– А вы откуда, дядя? – спросил он, подавая Дмитрию ковш с водой.
– Из района.
– Проверять? – не давая Дмитрию опомниться, почти допрашивал рыжий.
– Так точно.
– А-а-а, – протянул рыженький, почесывая правой ногой левую. – Я сразу догадался, что вы проверять приехали.
После обеда мужики запрягли лошадей в косилки и уехали со стана. Вслед за ними отправились копнить сено бабы. Пришпоривая голыми пятками бока исхудалых лошадей, покинули бригадный стан и ребятишки-копновозы. Стан сразу словно вымер. Остались одна повариха да дед Трепезников, который, как и раньше, до войны обедал последним.
Почти совсем беззубый, он ел медленно, перекатывая с десны на десну размоченную в похлебке ржаную корку.
– Ты бы, парень, отдохнул с дороги. Поди, чай, натрудил ноги-то. Десять верст по такой жаре да с непривычки – дело не шутейное. Иди в избу, там прохладно, прикорни часок-другой, а под вечер, по холодку, – домой. Сам-то будет только через три дня, а то и до понедельника не жди. С ним это бывает.
– Спасибо, дедунь. Оно и верно, что отдохнуть надо, ноги страсть как гудят. Давно постольку не ходил.
– А ты где сейчас работаешь-то, Егорыч? – шамкая беззубым ртом, спросил старик.
– В Москве.
– Это кем же? Поди, в больших начальниках ходишь?
– Всяко приходится.
– Оно и видать… – старик почесал свалявшуюся бороду. – А Евлашиху-то сразу узнал.
– Ну как же не узнать. На лбу у нее такая отметка, что из тысячи узнаешь.
Дед ребром ладони смел на край стола хлебные крошки, стряхнул их в другую и ловко бросил в рот.
Дмитрий прошел в избу. Там стоял холодок. Все те же, что до войны, нары по стенам. На них душистое сено. В изголовьях – подушки, котомки… Дмитрий огляделся, закурил. Через единственное маленькое оконце, выходящее на березовый лесок, свет скупо проникал в избу. «А может быть, это и хорошо. В полумраке отдыхать лучше», – подумал Дмитрий. Заплевав окурок, он разулся, поставил ботинки так, как их ставят солдаты в казармах, и лег на нары.
Заснул быстро, словно провалился в мягкую душистую прохладу. А через три часа (хотя ему показалось, что он только закрыл глаза) Дмитрий услышал за окном тарахтенье мотоцикла. «Может, бригадир вернулся?» – подумал он, не открывая глаз.
Но это был не бригадир. Это был Сашка Шадрин.
Положив на плечо Дмитрия руку, он тихо будил его:
– Митя, вставай… Слышишь, вставай.
Дмитрий открыл глаза:
– Ты как здесь очутился?
– Поедем домой.
– Зачем?
– Семен Реутов просил срочно зайти к нему. Завтра утром уезжает в командировку. Надолго.
Дмитрий обулся. Молча выкурили братья по папиросе. Молча вышли из избы.
Прощаясь с дедом Трепезниковым, Шадрин сказал:
– Ну, дед, живи еще сто лет. Да за Евлашихой посматривай.
Старик что-то ответил, но Дмитрий не расслышал его слов, они потонули в тарахтенье мотоцикла.
Выехали на большак. Сашка сразу же свернул на незнакомую проселочную дорогу.
– Ты куда это?
– Поедем через Барабаши.
– Зачем такой крюк?
– Так нужно. Так советовал Семен.
Встречный тугой ветерок, настоянный на скошенном разнотравье, приятно холодил лицо, врывался за ворот рубашки, льдисто скользил под рукавами. Еще холоднее было на душе…
V
– Да, брат, невеселую ты мне историю поведал, – помолчав, сказал Семен Реутов и пододвинул поближе к Дмитрию сковородку с яичницей. – Не думал я, что скатится у тебя со счастья вожжа. Хорошо, что в МГК глубже копнули. А если бы решение райкома оставили в силе – пиши пропало. Что теперь думаешь делать? Зачем приехал?
– Думаю поступить работать.
– Куда? – Семен выжидательно посмотрел на Дмитрия.
– Разве на селе мало дел? Школа, редакция, детдом…
Семен ухмыльнулся:
– Что ты будешь делать с дипломом Московского университета? Прокурор здесь есть, да тебя и не поставят; судьи выбраны и работают неплохо. Штаты учителей укомплектованы. Лектором в райком с выговором не возьмут. Что же остается? Крутить в типографии печатную машину?
Семен налил в стопки водки:
– Давай по махонькой. За все хорошее.
– Не буду. Эта гадость вызывает у меня отвращение. Ты же знаешь, я и раньше ею не увлекался.
– Нет, все-таки выпей… В гостях у меня бываешь не так уж часто, – обернувшись в сторону кухни, Семен окликнул жену: – Оксана, у тебя где-то грузди соленые были. Давай-ка их на стол.
– Да что ты выдумал, – донесся из кухни виноватый голос Оксаны. – Уже неделю как кончились, а ему все грузди.
– Ну сходи к бабке Регулярихе, у нее всегда грибки водятся. Скажи, что я заболел, ничего в душу не идет.
– Будет тебе молоть-то… Секретарь райкома комсомола ходит попрошайничать по улице; видите ли, закусить ему нечем.
Дмитрии окинул взглядом стол, на котором стояли тарелки с ветчиной, солеными огурцами и огромная сковорода с яичницей, хлеб, нарезанный крупными ломтями.
– Стол царский. Чего тебе еще?
– Нет, Митя, – перевел на другое разговор Семен. – Я бы на твоем месте поступил по-иному. Тем более у тебя такая преданная жена. Случись беда – пойдет за тобой на край света.
– Что бы ты сделал?
– Я бы ни за что не выехал из Москвы. Пошел бы работать на завод, сел бы за баранку грузовика, стал бы подносить кирпичи на стройке… Все что угодно, но не вернулся бы битым в родное село. Здесь тебя не поймут. Вернее, не захотят понять.
За окном моросил обложной мелкий дождь. Со стороны озера на село надвигалась огромная черная туча. Она плыла над потемневшим лесом, все больше и больше разрастаясь.
– Я, пожалуй, пойду домой, да и тебе некогда со мной рассусоливать. Шофер твой уже посматривает из кабины. Видишь – то на часы глянет, то на окно. Куда сейчас путь держишь? – спросил Дмитрий.
– Мне нужно нажимать на все педали. Этот дождь, которого не было все лето, может испортить всю обедню: молотим хлеб, а зерно девать некуда, преет, – лицо Семена как-то сразу посуровело. На нем уже не было того молодеческого задора, которым светилось оно полчаса назад. – Ксаночка, собери-ка мне в дорогу что-нибудь пожевать, да пару рубах положи. Не забудь портянки и спички.
– Ты надолго? – донесся из кухни голос Оксаны.
– Пока не объеду район – не жди.
Накинув на плечи дождевик, Семен подхватил на руки вещмешок, который подала ему, жена, и вышел на улицу. Следом за ним, попрощавшись с Оксаной, спустился по порожкам крыльца Дмитрий.
Уже подходя к райкомовскому «газику», Семен сказал:
– Зря ты опустил крылья, Дмитрий. В моих глазах ты сегодня не тот, кем был когда-то. Поднял руки до того, как тебя взяли на мушку, – Семен крепко сжал руку Дмитрия и строго посмотрел ему в глаза: – Отдохни недельки две на деревенских лепешках, дождись меня и курьерским «Владивосток – Москва» – на старые рубежи! Привет жене!
Когда «газик» свернул в переулок и скрылся за частоколом, Дмитрий направился через огороды домой. Дождь усиливался. К подметкам сапог ошметками прилипала грязь. «Да, Семен, пожалуй, прав. Вернуться в родное село битым – это последнее дело. Даже Филиппок и Гераська – и те перестанут уважать, если я устроюсь где-нибудь в исполкоме инспектором на побегушках. В Москву!.. Немедленно в Москву! И больше о своих неудачах никому ни слова. Народ не любит ни слабых, ни бедных. Это уж в крови у русского. Он их жалеет».
Дмитрий вошел во двор и закрыл за собой калитку. В избу идти не хотелось. Навалившись грудью на изгородь, он закурил. На улице – ни души.
Прибитая на дороге пыль лежала отсыревшим ноздреватым тестом. Неуклюже переваливаясь с боку на бок, брели от болота гуси. Откуда-то со стороны озер, заросших непроходимыми камышами, глухо донеслись один за другим два выстрела. «Охотятся», – подумал Дмитрий. Низко, почти над головой, со свистом, ошалело пронеслась утка, чуть не задев за провода. У болота два карапуза возились с деревянным долбленым корытом, из которого обычно кормят поросят. Они хотели приспособить его вместо лодки, на дождь не обращали внимания.
Дмитрий перевел взгляд вправо: из-за высокой сучковатой изгороди бабки Регулярихи показалась черная пролетка с породистым вороным жеребцом в оглоблях. Дмитрий вгляделся. В пролетке, натянув вожжи, сидел Кирбай. «Да, это он…» На нем был серый плащ и фуражка с малиновым околышем.
Тонконогий орловский рысак, выбрасывая вперед ноги, шел ровно. Казалось, поставь на его холку стакан с водой – не расплескается. Не доезжая до усадьбы Шадриных, Кирбай придержал рысака, круто осадил его. Из-под стальных, отдающих голубизной удил в губах жеребца падали клочья белой пены. Вначале Кирбай сделал вид, что не заметил Шадрина, и остановился прикурить. И только прикурив, он повернул голову в сторону Дмитрия. Было во взгляде Кирбая что-то ликующее.
– Говоришь, вернулся?
– Как видите.
– Поди, синяки да шишки приехал зализывать?
– За чем-нибудь приехал…
– Ну что ж, давай, давай. Тебе видней, где…
Последних слов Кирбая Дмитрий не расслышал, они были сказаны, когда жеребец, почувствовав нахлест вожжой, утробно екнул селезенкой и ровной рысью понес его по прибитой дождем дороге. Из-под колес пролетки, сзади, двумя рваными хвостами летели черные ошметки грязи.
«Он, наверное, все знает», – подумал Дмитрий.
На крыльце стояла Ольга. Она звала ужинать.
Как и раньше, до войны, ужинали Шадрины рано. И никогда, как сызмальства приучил их покойный отец, за столом ни старые, ни малые не разговаривали. А если случалось, что кто-нибудь из братьев фыркнет от смеха, брызнув щами на стол, то деревянная ложка в руках отца тут же кололась пополам о лоб озорника. И никто никогда не обижался на него за такую строгость.
Ужинали невесело. Мать чувствовала сердцем, догадывались Сашка и Ирина, что в жизни Дмитрия стряслось что-то неладное, а что – никто не решался спросить. Не сентиментальными растил их отец, не баловала излишней лаской и мать: некогда, да и не дело гладить по головке ребят, из которых должны вырасти самостоятельные, работящие люди. Детей любили Шадрины по-своему, почти по-староверовски: скрыто, строго. Подчиняясь этому, десятилетиями сложившемуся шадринскому укладу, покорно молчала и Ольга. Опустив глаза, она ела медленно, как на поминках.
…В эту ночь Дмитрий и Ольга долго не могли заснуть. Стоило ему только закрыть глаза, как он отчетливо видел: из-под колес черной пролетки летели рваными хвостами ошметки черной грязи. Екая селезенкой, вороной рысак гордо нес свою голову на крутой лоснящейся шее. Стальные рессоры пролетки то натужно сходились, то расходились под тяжестью увесистого Кирбая.
Дмитрий то и дело тяжело вздыхал и, переворачиваясь с боку на бок, раздраженно сбрасывал с себя одеяло. Ольга потихоньку встала, прошла на носках к этажерке и включила радио.
Передавали песни по заявкам ветеранов войны. Концерт только что начался. Грустный, сдержанный голос уводил туда, где когда-то была война, где рвались снаряды, где, недомечтав, недолюбив, умирали солдаты.
С берез, неслышен, невесом,
Слетает желтый лист,
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист…
Ольга плотней прильнула к Дмитрию, погладила его волосы.
Под этот вальс ловили мы
Очей любимых свет…
Ольга, Москва, Кирбай, вороной рысак, мокрые шлепки грязи из-под колес пролетки – все это было захлестнуто тягучей, как осенняя изморось, и грустной, как журавлиный клекот, песней…
Печальная мелодия перерастала в далекие картины минувших лет. Война… 1944 год… Войска Первого Белорусского фронта готовились к наступлению. После зимы, в течение которой передняя линия фронта почти не двинулась ни на километр, солдаты, пригретые первыми лучами весеннего солнца, с нетерпением ждали приказа наступать. Надоело все: бои, окопы, блиндажи… Надоела война – за три года она засела у всех в печенках. Опостылели топкие Пинские болота, где в землю не зароешься: копнешь на штык – и уже под мерзлой коркой земли сочится вода. Устали солдаты. Хотелось жить во всю широту неуемной молодости. Хотелось ложиться спать не в сапогах, свернувшись калачиком, прижавшись спиной к животу товарища, а как и полагается человеку – по-человечески. Дмитрию вспомнилась почему-то одна страшная февральская ночь, которая унесла много солдатских душ. Над лесом, пригибая вершины сосен, гудела метель. Прорываясь сквозь лесные чащобы, она лихорадочно танцевала на маленьких, пятачковых полянках. Поднимая вихри снега, бросала его на стонущие сосны, секла горячими искрами солдатские лица. Ледяными мертвящими пальцами залезала под барашковые воротники полушубков, слепила глаза…
…Ольга всхлипывала. Плечи ее вздрагивали.
– Уедем отсюда…
Дмитрий встал, на ощупь нашел папиросы, закурил. Выключил радио.
– Я чувствую – здесь добра не будет.
Дмитрий долго молчал. Выкурив папиросу, ответил:
– Хорошо, уедем.
В эту же ночь, под утро, с курьерским поездом «Владивосток – Москва» Дмитрий и Ольга покинули маленькую станцию, на которой Дмитрий, по-детски волнуясь и робея, много лет назад впервые в жизни услышал удары станционного колокола, извещавшие о приходе пассажирского поезда, который вез в далекие неизвестные города хорошо одетых людей. Как тогда ему, восьмилетнему мальчишке, хотелось скорей вырасти и поехать на поезде в эти большие, неведомые города.
А на следующий день, но уже под вечер, рябой милиционер, боясь собаки, осторожно вошел в шадринский палисадник и, вскарабкавшись на земляную завалинку, поросшую лебедой, несмело постучал в окно. Ему никто не ответил. Громыхая цепью, из конуры с басовитым лаем выскочила собака. Милиционер повторил стук, на этот раз громче.
К окну подошел Сашка. Сонно почесывая затылок, он прищурился, стараясь разглядеть, кого несет нелегкая. Увидев милицейскую фуражку, тут же проглотил зевок, прикрывая рот ладонью.
– Кого вам?
– Товарища Шадрина.
– Какого?
– Того, что из Москвы приехал… Вызывает немедленно майор Кирбай. Пусть оденется и выйдет во двор. Велено доставить в отдел.
– А его нет…
– А где он?
– Уехал…
– Как уехал?!
– А очень просто, сел в вагон и уехал. На поезде, на железном, что по рельсам ходит…
– Ты брось мне придуриваться!.. Когда и каким поездом братень уехал?
– Что-что? – делая вид, что он не расслышал вопроса, продолжал полусонно почесываться Сашка.
– Ты вот что… Не крути мне мозги. Отвечай: каким поездом уехал братень? И какой номер вагона?
– Не помню, товарищ начальник… Убей на месте – не помню. Побожиться могу. Вчера вот помнил, а сегодня забыл. Память стала дырявой, – и, видя, что милиционер открыл рот, чтобы оборвать его притворство, продолжал: – Пожарка-то у нас, сам знаешь, на бугре стоит. Торчишь на ней с утра до вечера – вот и выдувает.
– При чем здесь пожарка?!
– А при том, что на бугре стоит. А ветрищи нонешное лето, сам видишь, какие. У Самковых позавчера крышу с сарая сорвало, а у деда Красикова сети с тычек унесло в озеро…
– Когда и во сколько часов он уехал? – допрашивал милиционер.
Сашка, продолжая паясничать, засучил до локтя левую руку и поднес ее вплотную к окну:
– Часы еще в прошлом году потерял. Когда картошку копали. Весь огород на коленках облазил, так и не нашел. Но, думаю, Васька Чобот, соседский малец, слямзил, когда я пить в избу ходил. Часы на рубашке лежали – снял, чтобы маятник от сотрясений не сбить…
Рябой милиционер, видя, что толку от парня не добьешься, откашлялся и, с трудом удерживаясь на завалинке, снова спросил:
– Поди, с курьерским улизнул?
Делая вид, что он мучительно припоминает поезд, Сашка закатил глаза под лоб:
– Поезд-то?.. Длинный-предлинный, вагонов – не сосчитать. И все как один: такие зелененькие, с железными приступочками…
Милиционер плюнул, сердито выругался и спрыгнул с завалинки.
Когда он закрыл за собой калитку палисадника и вышел на дорогу, Сашка, глядя ему вслед, подумал: «Ищи, дяденька, в поле ветра…»
Долго в тот вечер скрипели под тяжелыми сапогами майора МГБ Кирбая крашеные половицы его кабинета. Он ходил от стола к двери, от двери к столу и курил. Время от времени вскидывая свою седеющую голову и плотно сжав губы, прищурившись, смотрел куда-то далеко-далеко, сквозь стены, на одной из которых висел портрет Сталина, на другой – Берии. Казалось, взгляду Кирбая не было преград, для него не существовало расстояний… На восток он видел до Магадана, на запад – до Москвы и дальше…
– Почуял… Улизнул… Проморгали шалопаи…
Половицы скрипели. На стене, глядя друг на друга, висели два портрета.







